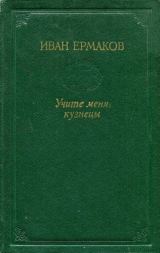
Текст книги "Учите меня, кузнецы (сказы)"
Автор книги: И. Ермаков
Жанры:
Сказки
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 25 страниц)
– Ничего особенного! – говорят ей подружки. – С твоей внешностью да походочкой не удивительно, что и моды ты будешь распространять.
– Не про-па-ду-у! – загадывает Наташка.
И правильно загадывает – действительно не пропадет!
Сколько их из нашей деревни поуехало, а назад редко которая торопится. Работы – везде. Общежитие предоставляют. Замуж вышла – квартиру подавай.
Приедет в отпуск и граблей не признает:
«У нас – ванна, у нас – газ, а штапель не в моде… По вечерам телевизоры смотрим, обедаем автоматически…»
Ребят если взять – тоже урон несем. Или по месту службы влюбится, или на стройку куда вместе со своим взводом махнет.
Пошел Мироныч к председателю.
– Наташки лишаемся, Иван Васильевич. Уезжать девка собралась. Поговорили бы?..
– Удивляюсь! – председатель толкует. – Раньше доярки, взять хотя бы твою Кузьмовну, это же трехжильные какие-то труженицы были. И стадо-то обиходят, и сено косить бегут, и на прополке, и на току! А эти одно вымя знают, и все им неладно. Ведь и жизнь продвинулась! Клуб поставлен, кино регулярное. На отгоне – радиоприемник, книжки… На дойку ехать – машину под них подгоняем. Зарабатывают побольше доброго мужика… Шей себе платья, гарцуй на тонких каблучках! Старухам-то, матерям ихним, и не снилось…
Мироныч возразить хотел: мы, мол, свои трудодни оценивали по признаку – сколь крепко они к земле нас пригибают. Принимаешь чувал с зерном, и спине твоей сладко. А молодые – им крылатый трудодень грезится. Не к земле бы который давил, а поднимал бы тебя который. Высил.
Хотел он это высказать, да поостерегся.
– Значит, ничего и не предпримешь? – у председателя спрашивает.
– А чего предпринимать? Говорено с ней. И у меня была, и в комсомольском комитете… Ты вот разве чего примыслишь? Воробьи ничего в этом случае не подчирикнут? – на прищуренном глазе так спрашивает.
Мироныча укололо. Ворохнул он своими дворнягами и без «до свиданья» ходу.
И вот что он, кудрявая голова, отпрактиковал.
Приходит Наташкина группа на вечернюю дойку – глядь, у коров… цветы на рогах. Кукушкины слезки, горицветики, кашки… Вышивальными нитками привязаны. Ни у чьих нету – у Наташкиных только.
«Что за диво, девушки?!»
Окружили Мироныча – объяснения факта требуют.
– Подошел ко мне, – Мироныч поясняет, – в летчицкой форме молодой незнакомый человек, подошел, значит, и спрашивает: «Укажите мне, будьте добры, папаша, Наташи Селивановой коров».
«Пожалуйста! – говорю. – Вот Гадалка, вон Верба, а там Калымка».
«А не могли бы вы, – говорит, – попридержать мне некоторых?»
«Это зачем?»
«Рога им цветами украсить хочу».
Я попридержал.
У бригады и глаза замерли:
– А кто… как он назвался?
– Никак пока не назвался. Со временем, говорит, если приятные будут Наташе такие мои знаки чувства, она сама узнает.
– А какой он? – заторопилась бригада. – Какой из себя? Красивый?
– Волосы само красивые. Белые… мягкие… ээ… обходительный! Коровам глотки почесал…
Сидят девчата над подойником и перекликаются.
– Может, он из Вакариной! – ближнюю деревню вспоминают.
– Или из Синичкиной кто в отпуск пришел?!
– Это надо же такой специальный нежный подход к девушке поиметь!
– Летчики – они вообще… лирицкие, – Олька Остроушкова подчеркнула.
На всю дойку толковища у них хватило. И после дойки. И на другой день!
А на третий – опять рога у коров цветут.
– Приходил?! – к Миронычу подскочили.
– Ага. Из колочка вывернулся, поздоровался и опять…
Тревожно бригаде жить стало. Вот и не волк вокруг стада ходит, а тревожно.
– Ты, Наташа, – советуют, – записочку в букетик и тоже… на рог. Скорей свидитесь. Ведь он, поди, обуглевел от таких нахлынутых чувств!
– Еще что выдумаете! – вздерет припухлую губку Наташка. – Меня на краковяк приглашают, и то не тороплюсь разбежаться. Сказал «а», скажет и «бэ».
– Какое же «бэ» у вас должно произойти, если от одного «а» душа растворяется, – посоловеют глаза у Ольки Остроушковой.
Интересная тоже девчонка… Глаза, понимаешь, зеленые! На щеках, на носу веснушки роями, ротик умильный – такая лисичка-сестричка рыжая.
И вот, не будь эта Олька простофиля, приспособилась девка после доек за костяникой ходить. Вроде за костяникой, а сама со стада глаз не сводит.
И устерегла!
Прибегает перед обеденной дойкой на отгон, корзинка пустехонька.
– Дуры мы! – кричит.
– Почему так?
– А вот придет стадо – понаблюдайте за мной. Изображу ловкость рук…
Коровы со цветами опять идут!
Олька, ненароком будто, возле Мироныча очутилась. В ловкий момент запустила руку в карман плаща и достает оттуда, на виду у всех, разноцветные нитки мулине.
– Видали летчика?! – спрашивает.
– Ка-а-ак?..
– А вот так! – зверьком глянула она на Мироныча. – Вот так у нас… Своими глазами, подружки, видела, как этот изуит цветы собирал, а потом на рога их навязывал. Сличите нитки!..
Подбежали к Вербе, к Прокудаихе – цвет в цвет ниточки.
Вот это «бэ» дак «бэ»!!!
– Ты что же… дя-дя?! – с нехорошими глазами окружает Мироныча бригада. – С какой целью такую сильсификацию?
– Мне это… – растопырил пальцы Мироныч. – Мне это летчик препоручил… Выходной он сегодня… нитки дал… разноцветные.
Врать-то он не горазд, мужик, совсем не горазд. Ну и на перекрестном допросе сознался:
– Не хотел я, Наташа, чтобы ты уехала. Потому и предпринял. Грешен, девки.
– Дуры мы, – заревела Олька.
А у Наташки из глаз чуть не искры:
– Летчиками меня привлекаете!.. Кто тебе насоветовал? Комсорг? Председатель?
– Сам я, Наташа. Прости, моя славушка! Старуху я таким же способом…
Наташка не слушает. Срывает цветы с рогов да в навоз их, в навоз.
К вечеру всей деревне об этом происшествии известно стало. Пока укрывался Мироныч в «летчицкую форму» – среди одной молодежи толки шли. А сейчас и пожилой контингент воспрянул. Кто что! В складчину.
Добрые соседушки в таких случаях и вовсе «милые» делаются. К Найденихе с этой вестью, к Кузьмовне. Сперва про лен с коноплей, потом про пряжу, про вышивки… А там и про нитки.
Кузьмовну даже на лавку осадило:
– На рогах? – чуть выдохнула.
– На рогах, милая, на рогах! Об чем и разговор, что на рогах… Букетиками.
Старуха, когда осознала, хлесть себя по коленям:
– Ой, тошнехонько!!! Это что же он, враг мой, надо мной выделывает?!
Соседки первым делом по солидарной слезинке выдавили, а следом – по наводящему вопросу:
– И в молодости такой был?
– Да я за него, за каторжника, из-за цветов и вы-шла-а-а. Ничьи, бывало, а мои с незабудками на рожках иду-у-у-т…
– Да ты успокойсь, успокойсь! – хлопочут соседки. – Ты по порядку нам… Канкретна…
– Вызнал через меня женску нашу слабость и применя-я-яет теперь.
В таких случаях, хоть бы и не старушечья ревность, а все одно… Умишко-то куцый делается. Что сердцу больно, то и наружу. На обнародованье.
– Не глядите, что ей восемнадцатый год… Меня эти цветочки от добрых женихов увели. Дом – полну чашу – бросила, благословенья не спросилась – в одной маринатке убежа-а-ала-а…
А про то, что ее благоверный шестой десяток добирает, ей не в память сейчас. Забыла! Молодой он, ее Богданушка! Такой, каким у поскотины запомнился: кнут на все плечо размахнут, черные кудри с ветерками играют, глаза удалые, отчаянные, беспощадная, не к Добру, улыбочка.
Два ее братана, Кузьмичи, по свинчатке в кулаках затиснули, жених Сенька Смурый гирьку на ремешке из кармана тянет.
«Оставь, Богданко, свои цветочки! Убьем!»
«Убивайте! Доразу только убивайте! Живого оставите – с отцами сожгу. Пеплом ваше богатство пущу!»
«Уходи из деревни, полцыганщина!»
«Надумаю – не спрошусь».
– Жизней своей за меня рискова-а-а-ал! – живой слезой скатывается старая.
– Глони водички. Плесни на сердечушко. Конец света, видно, подходит, – накаляются соседки.
Вечером является Мироныч с отгона – сеношная дверь закинута. Постучался так, не очень авторитетно, ждет.
– Чего надо?! – рыкнула Кузьмовна.
– Отворяй, голодный я, как волчик.
– На любове своей проживете. Цветочков нанюхаетесь.
«Известилась, значит», – вздохнул Мироныч.
Слышит, и избяная дверь запором щелкнула.
Потоптался он на крылечке, и в огород его поманило. Огурца там съел, морковки, бобов пошелушил – сочные корма все.
Утром слез с чердака – Валетко пузатый его встречает. А самому хозяину сала со спичечный коробок пластик, тоненький ломоток хлеба и одно яичко – в газету завернуто, на косяк выложено.
– Налей хоть молока бутылку! – позвякал он щеколдой.
– Кобель съел! – Кузьмовна отвечает.
Идет мужик к молоканке и подозрительно много встречных ему попадается. Женский пол все больше. Которой по воду приспело, которая полыньки на веничек наломать дорогу перебегает. И каждая с приглядочкой. Как на свежего поселенца или на снежного человека глаза дерут.
«Мякины бы вам в оловяшки! – косится на них Мироныч. – Вот радиолы!»
И ведь что интересно! Неловко ему становится. Как бы на самом деле Христову заповедь оскоромил, морально разложенье учинил.
Грузят фляги на машину – Наташки нет.
Подъехали к дому, посигналили – не выходит.
В дом девчата забежали.
– Не пойду! Не увидите меня там больше.
Да и впрямь, кому нужна такая славушка? Которую девушку старухина ревность украсила?
– Не пойду! – твердит. – А на этого несчастного жулана, – сквозь окна на Мироныча указывает, – в суд передам.
Ну, дойка ме ждет. Поделила бригада Наташкиных коров – подоила день. А на другой – Мироныча заставляют. Олька эта Остроушкова…
– Садись! – скамеечку подает. – Не все цветочки – поголубь вот Ягодку…
Вечером заворачивает он к моей сторожке:
– Выручай, друг! Окружили меня смех и горе. Мечтал – для государственного интересу, а угадал в Гришки Распутины…
– А может, действительно, бес в ребро?.. – подначил я.
– Не болтал бы…
И ставится мне задача «просочиться» к Кузьмовне в избу, а потом хозяина каким-нибудь способом запустить. Не двери же мужику ломать.
Позвал я свою Клавдею Митрофановну за магазином присмотреть – отправились мы.
Кузьмовна, замечаем, у калитки стоит.
Подходим ближе – не убегает. Наоборот – к супругу посовывается.
– Пакет тебе! – тревожно так сообщает. – Бандероля какая-то.
У нас сейчас же догадка: «Детский садик это!»
Зашли в избу, разрываем конверт – так и есть.
В два тетрадных разворота картонка, а на ней ребячьи фотокарточки. Каждый в кружок взят и названы. Соловьев Володя, Курзюмкина Надя, Лихих Петя… Кузьмовна тоже подошла, заприщуривалась. Лампу давай выкручивать.
Ну, где удобнее момент найдешь!
Рассказал я ей про язвенника, про солдата, про то, как в белые халаты мы наряжались.
– С этой точки, – говорю, – и цветы оценивай. Дело тут никакое не сердечное, а само натурально – государственное. Мужик с обчественным сердцем, а ты его голодом моришь, на чердаке ночует. Девки вон под коров садят…
Старуха чует – каяться надо… Да хоть одна из них каялась сразу-то!
– А зачем не спросился? Зачем самовольно?! – обиду изображает.
– Да ведь для государственного интересу! – подчеркиваю опять. – Вот, сине море, убыль тебе какая?
– Мало их, этих цветов, растет… – подбурчал Мироныч.
– Сколько ни растет – все мои! – повела по горизонту руками Кузьмовна.
Изловила Миронычевы глаза и подступает к нему:
– Без спросу единой незабудочки чтобы не смел! Все мои! Слышишь? – И даже раскраснелась. И даже, ей-богу не вру, помолодела.
– Да твои, твои, моя славушка! – приобнял ее Мироныч.
На другой день, после утренней дойки, побежала бригада к Наташке. Сфотографированных ребятишек с собой несут, письмо ихнее.
– Смотри, подруженька! Читай, подруженька! Ну, и в семь голосов Мироныча превозносят.
– Такого лирического старичка – в комитет комсомола только! – Олька Остроушкова кричит.
И вот какое прострельное слово случается.
«Здравствуйте, дорогие наши няни!» – ребятишки пишут.
Оно, конечно, не ребятишки, но как бы и ребятишки. От ихнего имени.
Прочитала Наташка первую строчку – и шабаш. Слезинки вдруг накипели, губка дрогнула. Няни?!
У нас, в Сибири, старших сестренок принято нянями называть. Под чьи «баюшки» возрос, чью шею ручонками оплетал. Желанные они маленьким-то, сестренки-няни, с материных рук на ихние бегут. До седых волос иной братик доживает, а старшая сестра все – «няня». Даже по смерти. Не скажет – сестру, няню, скажет, похоронил.
Наши няни…
А ведь если обдумать эти слова, обдумать если!..
Крепким сном спят еще матери… Раскидались в своих кроватках, разбрыкали розовыми пятками свои одеяльца завтрашние заселенны земли. Золотая почка на неисцветаемом народном дереве. Улыбчивые сны им грезятся… С потягушками. Со сладкой слюнкой на щечке… Вдох – выдох, молочное брюшко. Спи. Не спят твои няни. Звенят подойниками няни.
Не гудят еще утренние заводские гудки, не ушли еще в шахты ребята, не ступили еще городские девчонки в свои цеха, физзарядка еще не играна, а уж хлопочут у всесоюзной застолицы молочные наши няни.
Славен русский хлеб. Славен квас с луковкой. А славно же и ты – родное русское молочко!
Из ваших подойников, няни!
Я, случается, зайду ночью домой, спичек там не станет или махорка кончилась… Зайду домой – не спит моя Клавдея Митрофановна. Складет руки на грудь и нянчит их: «Рученьки вы мои! Матушки вы мои!» Тридцать лет продоила! И морозу и бруцеллезу досталось. Открываю я тогда чекушку с денатуратом и начинаю ей суставы растирать. А одно время подошло – кончился денатурат! Чем ей боль унять?
Взбодрил я голос и по возможности веселей:
– Не стони, – говорю, – Клавдея! Вашему брату, старым дояркам, памятник в Москве сотворяют…
– Какой такой памятник?
– На одном камне с Гагариным, – говорю. – Он будто бы перед полетом земным видом насытиться вышел, а ты ему в этот момент крыночку молока протягиваешь. Испей, мол, сынок, земного. Гончарного еще производства крыночка, – разрисовываю ей. – Щербатая такая…
– Почему же щербатая? – напугалась старуха. – И почему именно меня поминаешь?
– А кого же, – говорю, – поминать, если не тебя да не вас. Кто их, таких ребят, вскормил-вспоил? Из щербатой крыночки…
Врать-то я весело начал, а набрел на эту думку – самому волнительно сделалось.
– Поищи, – говорю, – по белу свету таких старух! Ни рожна нету нигде таких старух!
Затихла моя Клавдея Митрофановна.
Рукам-то, может, и не легче, а душе – воскрыленье. А сердцу-то и радостно.
Многое искупили они – звездолазы наши. На льдинах потеплело, в горячих цехах посвежело…
– Нету таких старух! – шумлю. – Взлетают ребята лейтенантами – садятся майорами! Это же… Сине море…
Вот и твои, Наташа… Улетят, белозубые, улетят, синеглазые, туда улетят, что ни с крыночкой к ним не дотянуться, ни «творожку на рожку» подать. Ступят они, смелые твои «братики», на чужедальные запредельные неземные тверди, а ты им, бесстрашным, – няня.
Самый радостный в мире атом несешь ты в своем подойнике. Царь-витамин! Первочудо умной зеленой Земли! Солнечные зайчики ребячьего хохотка, разворот богатырских плеч, витье тугих жил, могучий мосол недробимой широкой русской косточки…
Не плотины из-под твоих рук встают, не сады расцветают – самая радостная и удивительная красота. Румянец на щеках у родного народа – вот твоя золотая слава. Твоя и подружек твоих молодых, нецелованных.
Звонких же вам петухов, веселых и ясных зорь вам, народные наши няни!
Вот Наташку слово-то до слез и прострелило. А к этому – мордашки ребячьи.
И не уехала наша Наташка.
Ходит со скамеечкой за известной Вербой и напевает:
– Будешь убегать – я любить тебя не буду. Бить тебя буду. Стой, душок, стой!
И послушайте, что говорит по этому поводу Мироныч.
– На солнышко, – говорит, – я удивляюсь. Вот кто труды свои украшать умеет! «Зацвети! – от каждой согретой выращенной былинки требует. – Зажгись!» Яблоко, к примеру, взять… Мало, что круглое оно, сладкое, душистое наспело, мало, что пчелиные следки розовой искоркой по нему пролегли, мало этого солнышку – дай еще зорьку на самом глядельце зажгу!
Вот и людским трудам тоже бы… Не только сальдо-бульдо, а еще и каждому свою зорьку. Как Наташке… Одна маленькая словинка, один теплый лучик из чьего-то умного сердца, а какая правда вдруг ожила, засияла: няня! Удивительного завтрашнего народа няня! В миллионы молочных зубок улыбается ей сегодня краснощекое горластое державное племечко!
Вот и все пока. Кому мало – навестите мою сторожку. Мироныча позову с Валеткой-пчеловодом… Этот хоть и не говорун, а тоже его люблю. Тоже… дикой полянкой пахнет.
1962 г.
ДЫМКОВО БЕССМЕРТИЕ
Счастье-то люди по-всякому понимают. Один берет бессмертную, скажем, свою душу, кладет ее на пачку трехпроцентных облигаций, накрывает сверху сберкнижкой, стягивает все это хозяйство резинкой, приставляет к нему волкодава поклыкастей – и комплект. Весь апогей и перигей тут. Другому опять апрельская зорька, журавлиный клич да непойманный пескарь спать не дают. Третий – картавого лепетка-щебетка не наслушается, чем ребячья теплая головка пахнет, не надышится. У четвертого – любовь…
Я не про такое счастье начал…
Проживает с недавних лет на центральной усадьбе нашего совхоза некто Ефрем Матвеич Тилигузов. В запенсионных годах уж… Одинокий. Путевки никакой не предъявил, подъемных не требовал. «Печник я», – и все тут. Ну, печник на целине – должность громкая… Дали ему сразу же квартирку – живет. Кладет в новых домах печи да плиты, без останову при этом громадную с крышкой трубу сосет да бессловесные какие-то песенки себе под нос мурлычет.
В конце первого месяца вызывает его прораб в контору.
– Сколько, – спрашивает, – сработали, Ефрем Матвеич?
Другой блокнотик бы там развернул или – невелика цифра – по памяти ответил, а этот вдоль окна по конторе ходить принялся. Ходит, свежие трубы на домах определяет и нараспев ведет:
– Дымок… другой… третий…
В двери даже выглянул, чтоб досчитать.
Отпроцедурил так-то и докладывает:
– Шесть дымков пишите… Шесть дымков над вашим Сибирем засмолил.
Сказал так и трубку набивать принялся.
Строителям, которые тут случились, и потешно немного, что он дымами перед прорабом отчитывается, и опять же уловили: со своей гордостью старичок, с загадкой. Поначалу на кисет все уставились. Не поступит ли, мол, оттуда какого разъяснения… Потом самого разглядывать принялись. Каждую морщинку на лице испытывают. А они умные высеклись, морщинки-то, приметные… Смешливая. Гневливая. Для задумчивого часа… Каждую определишь. По нужде пролегли, а не как у другого: от сна – всмятку, от верхоглядства – вразбежку. Стоит сивенький, присугорбленный, шоферской комбинезончик на нем, борода – на клинышек, усы – без затей, трубку свою расчмокивает. Табачинки стреляются. Добился настоящей затяжки, помохнатей да покудрявей папаху дыму выпустил, голицами тут же его разогнал – и на выход. И вот так в конце каждого месяца.
– Шесть дымков пишите… Шесть дымков над вашим Сибирем засмолил.
И сочинилось ему на эту его особинку милое такое прозвище – Дымок. Дымком стали звать. Хоть и позаглаза, а с почтеньем… Так он благополучно да нетревожно и до последней переписи населения дожил. Переписчиком по ихней улице Антошка Мандрыка угадал. Завклубом наш. Он, этот Антошка, до нашего совхоза и до своего завклубства в зенитных войсках служил. Видом боевой, грудь кочетком, ерш на голове, румяный, белозубый, голос старшинский… Пальцы по баяну пустит – ровно чертики вприсядку заскачут. Колеско-парень… Солдатского присловья этого принес – короб! Ко всякому случаю присказулька. Задумает в песенники какого призывника завлечь, тот отказывается: «Голосу нет». А он: «Сорока не присягала, да поет, волк не служил, да воет – какой же ты солдат будешь?!» Про себя особо любил подчеркнуть, что он, Антошка, на три метра в землю видит. Девчата его за это «геологом» прозвали. А впоследствии по совокупности – «Ветру брат». Напроказил он им, видимо…
Ну и вот, ходит, стало быть, эта военная косточка из дома в дом, перепись ведет. Вопросы задает круто, ответа требует, чтобы «четко, ясно и коротко», а ведь народ-то не все под его началом «действительную» служили.
– Верующий? – у Дымка спрашивает.
Тому бы уж без задержки отвечать: грешен, мол, или – «Никак нет!», а он закашлялся, слезы завытирал. «Геолог» кинул взгляд в передний угол – небольшой божок на полочке стоит. «Ясно», – думает. А что в божка шило было воткнуто и три пачки махорки рядом лежали – внимания не обратил.
Месяца через три приготовилась у него в клубе лекция с концертом. Сам же Антошка и лектор. Для неверующих объявление выкинул, верующим персональные приглашения разослал. В том числе и Дымку. Все как у добрых людей… Ну, собрались! Взошел Антон на трибуну, пальцы по-под ремнем просмыкнул и приступил. Бога, говорит, дикарь изобрел… Грозные силы природы его к этому принудили. Гром с молнией, ураганы, землетрясения. Робел он перед такими явлениями, не понимал их, в бессилье впадал. Рухнет эдак ничком на мамонтовую шкуру, уши заткнет – и черт те что ему в дикие неразвитые мозга заползает! После бедствия барана освежует, сожгет его в отблагодаренье, что живой остался, и опять злаки собирать. Или пещерных медведей бить… Кратенько ведь и излагал, а через двадцать минут ни на пророках, ни на апостолах живого места не оставил. Куда Савел, куда Павел… Под конец для оживления рассказал еще, как один зенитчик роту чертей огневой подготовкой замучил. Потом воды выпил и спрашивает:
– Вопросы есть?
Ну а как без вопросов?!
Стали интересоваться, из какого рода войск происходил тот солдат, который целый год черта в табакерке протаскал. И какой тогда был год: нормальный или високосный… Народ молодой большинство. По комсомольским путевкам приехал. Местных сибиряков взять, дак тоже забыли, когда в последний раз крестом осенялись. Погоготали, и сошло. Только поднимается посреди хохота Дымок и спрашивает у Антошки:
– А вы, молодой человек, сами лично Библию читали?
– Нет, – Антошка отвечает. – Я на политподготовке, да вот популярную книжечку разыскал… Отсюда почерпнул…
– Тогда я к вам больше вопросов не имею, – Дымок говорит. – Политподготовку я тоже проходил. Без пригласительного билета даже…
Заявил так – и к выходу. За ним старушек божьих несколько. Антошка забегал: концерт, мол, православные, еще будет, а они: «Спасибо, сынок. Насмотрелись».
До Антонова начальства эта история дошла.
– Я, – поясняет Антошка, – не начетчик какой, а зенитчик. Мое дело – ориентир солнце, на два лаптя вправо, бе-е-глы-ы-ым!.. – На одном только стоит, что эту «ехидную специю» – Дымка – он еще в перепись раскусил: – Кашель, видишь ли, его пронял! Сектант, наверно, запрещенный… Он и парнишку к своей присяге приведет.
– Какого парнишку?! – встревожилось начальство.
– Подсобником у него, Невидимка. Огурцы воровал…
Ну, у Антона коротко все. Я вам поподробней.
Этому Невидимке, ввиду переезда родителей, одна свободная зима выпала. Не учился – баклуши бил. На другую зиму опять переезд. Учителя сменились, пропуск у него образовался. Парнишка и расклеился. Прилениваться начал. Первые годы, верно, переползал из класса в класс, а потом и застревать начал. В школе – улита, а на улице – первый прокурат. В огород к кому забраться, из чужих мордушек карасей вытрясти – это он, поискать умельца. Отец разъездным механиком работал, мать – телефонисткой, догляду нужного за ним нет. «Невидимка» – себе прозвище дал. Так, значит, свое шкодничество оборудует – ни одна душа… На плесах проказит – медная трубка при себе. На случай, если в воде придется отсиживаться. В огородах ужом-ежом совьется, проползет – поискать, говорю, разведчика. Ни чистый, ни грязный ходит, как жучок, загорелый, нос облупленный, глаза – бесенята, ватажка за ним неотступно следует. И вот наметилось этому Невидимке к Прохору Суковых в огуречник забраться. Наши сибирячата, хоть и поменьше, а отговаривают командующего:
– Не надо, Бориска… Дяденька этот быстроногий, волчий охотник, хитрый!
Приезжие тоже остерегают.
Не послушался. Ватажка за частоколом прячется, а он – в гряды. Сколько-то огурцов спровадил за пазуху и попмался. В волчий капкан ступил. От капкана, от дужки, звонок к Прохоровой кровати был проведен. Когда рванулась дужка, ему подъем и сыграло. Определил он, какой зверь в гряды наведался, кричит жене:
– Давай, Марья, двустволку! К нам волк в капкан попался. Достреливать сейчас будем!..
– Где ты его видишь? – та подыгрывает.
– А вон между гряд сидит… Вон!
– Ой, батюшки. А глазищи-то как горят! – ужасается Прохориха.
– И зубами клацает, – подсказывает Прохор.
А Невидимка и в самом деле клацает.
– Сейчас я его с обоих стволов полысну, – Прохор проектирует.
– Да бей перво с одного… – Прохориха советует. – Во-первых, шкура целей, а во-вторых, пешней добьем.
– Д-дяденька, н-не стреляй! – заверещал Невидимка. – Я не волк… Я – Бориска Курочкин…
– А зачем ты, Бориска Курочкин, здесь очутился?
– Огу-у-урцы ворова-а-ал.
– Дело! – протянул Прохор, – Пойдем, когда так, в казенку, добрый молодец. Пересидишь до утра…
Капкан, хоть он тряпьем был обмотан – «ноги бы не перешшолкало варначатам», – Прохор с Невидимки все же снял. Пожалел. В остальном же – под замок кладовку запечатал и даже фуфаечки под бок не бросил. А утром подогнал телегу, на которой известку возил, в волчью «обувку» опять Невидимкину ногу заправил и в сельсовет его повез.
У всех на виду Невидимка.
– Ай, варвары же вы, сибиряки! – качает головой Дымок. – За несчастный огуречик дитенка так истязуете! А кто же из нас яблоков не крал?
– Я не крал, – Прохор говорит. – У нас ведь цитрус – огурец. А кроме того, я не первого таким макаром воспитываю… Люди потом получаются.
У Невидимки дома скандал. Мать к отцу приступает:
– Говорила тебе – надо его в пионерские лагеря отправить!
– В награду за второгодничество?.. – бухтит отец.
– Он голенастый у нас, он малокровный у нас… На днях футболом в нос попало – кровинки не высеклось…
– Ценный, значит, нос, – повеселел механик. – А что голенастый, говоришь, – стать у них, тринадцатилетних, такая. Самые журавлики… Работать его надо, чертенка, заставить! На прополку его!..
А вечером к ним зашел Дымок.
– На однолетках сейчас нехорошо ему быть, – говорит. – Просмешки пойдут, да и самому пареньку совестно… Давайте его мне.
Стал Невидимка у Дымка подсобником. Заберутся вдвоем в дом, и вся тут бригада.
Вот Антоново начальство и затревожилось. С одной стороны, по Антошкиным словам, неизвестно, какой масти «трясун», а с другой – молодая душа на ущербе. Что может получиться? Нехорошо может…
А Антон знай нагнетает:
– Таких сам Емельян Ярославский от суеверства не отрекет.
Походит, походит и опять:
– Копыта откину, а разоблачу! С катушек собьюсь!
Ну и, конечно, упоминает, что на три метра в землю видит.
А заведующий отделом культуры – Помпей Помпеич он имя-отчество носил – такая перина по комплекции был: на один вздох две лошадиные силы тратил. Вот ему, значит, до некоторой степени и приятно, что кадры у него такие… Ну, настырные, зоркие, юркие. «Он, может, от своей живости и беседу запорол, – думает. – Потом опыта нет, – размышляет. – А парень – колобок! Живчик парень!»
– Ладно, – говорит, – наблюдай там пока… А вскорости я сам подъеду.
В уборочную и подъехал. Уполномоченным от района к нам был назначен. Ну, совхоз большой, обязательства взяты высокие, директив много, а тут еще погода гадит – он даже похудел несколько. Впрочем, чтобы нашего директора, извечного хлебороба, заставить семенное зерно сдавать – тут, я думаю, не один Помпей похудел. Дар речи все-таки надо было иметь… Получилось как? Квитанции от Заготзерно авансом взяли, а в бункерах пусто. Была одно время такая система. Только когда приказал наш Петро Васильевич, со всякими матерками, семенные амбары выгружать, тогда только вспомнил Помпей про свои прямые обязанности: «Посмотреть, однако, что за старик».
Ну, поздоровался. Недокладенную печь пошлепал. Про свод, под, дымоход кое-что разведал, обогревательными оборотами поинтересовался. А когда этот разговор иссяк, спрашивает:
– Вы, папаша, как пожилой человек, не смогли бы пояснить…
– Что изволите? – отозвался Дымок со стремянки.
– Непонятное мне место есть в Библии, в самых заповедях… «Не убий», «Не укради» – это ясно. Это даже в уголовном кодексе подчеркнуто… А вот как понимать «Не вари козленка в молоке его матери» – ума не дам.
– Не вари, значит, козленка… – задумался Дымок. – В материном молоке, значит… Хм… чего ж тут мудрого… У козлухи-то сколь чаще всего козлят нарождается?
– Два или три бывает… – предположил Помпей.
– Ну-й вот… Тут всякому Авелю ясно… Если я выдою козлуху и сварю в еёном молоке козленка, то второй козленок не сосамши останется. Верещать будет…
– Не-е-ет… – протянул Помпей. – Тут другой смысл должен быть… глубокий какой-нибудь, в другом надо зерно искать.
У Дымка и стремянка скрипнула:
– Зерно, говорите? Можно и к зерну применить… Семенное вот сдаем… Ведь это же истинным образом козленка в молоке его матери кипятят! То же… в уголовный бы кодекс…
– Это как же понимать? – колыхнул грудью Помпей.
– Землю примем за мать, за козлуху, значит… Семенное зерно – это молоко. Директор наш – козленок…
Тут он не то что позапутался, а Помпей его обезъязычил.
– Вы, может, и повара назовете? – с загадом спрашивает.
«Болтаю, – мелькнуло у Дымка. – А чего знаю, болтаю… Может, сорта меняют. Может… да мало где меня не спросили».
Ну и – воды в рот.
Помпей, однако, на ус себе:
«Вон ты как трактуешь?.. Действительно – специя!»
С тем и уехал.
Остался Дымок при собственной трубке. Сосет ее до свисту, молоточком по кирпичам постукивает. Постукивает, потесывает их, бессловесные себе песенки под нос мурлычет. Антошка прислушивается другой раз: «Псалмы – не псалмы, лявониха – не лявониха. Пожалуй, псалмы. Потому что – без слов. Замаскированным образом. Так, так…» А тут еще, как на притчу, после Невидимки подсобника Дымку немого дали. Поговорить бы Антошке, а как? На пальцах-то про бога поди-ка размаячь.
Подошло опять лето. Невидимке – каникулы… Снова он к Дымку. Сам пришел, попросился. Матвеичу, конечно, приятно это. Стал он по-настоящему паренька к мастерству приучать. Даст ему урок и наблюдает. Видит, ладно дело подвигается; кирпичиков поднесет мастеру, глинки замесит. Не отвлекает. Так они обороты прошли, два свода парнишка своими руками поставил, к другому приглядывается. Чуть минутка посвободней – чертежики себе для памяти чертит. Затронуло парня. Не торопится с себя глину отмывать.
– А что, Бориска… – завел как-то Матвеич. – Почему это печи другой раз очагами называют?
Парнишка задумался.
– Вот еще говорят: защитим родные очаги. Умрем за них…
– Это, наверное, в стихах так да в песнях, – задогадывался Бориска. – Ну да… Неудобно же запеть: умрем за родную печку. Смешно получится.
– Действительно – неудобно… – согласился Дымок. – Ну, тогда вот так скажем… Вот стоит дом, – повел он вокруг себя рукой. – Проконопачен он, покрыт, оштукатурен, застеклен, пусть даже будет побелен и покрашен – печи только нет. Дом это? – прищурился старый. – Нет, скажу я тебе, не дом. Сарай покуда… гараж, склад! Разоставь ты в нем красивую всякую мебель – зеркала там, диваны, шторы повесь, ковры постели, цветами убери, музыку даже включи – все тебе удовольствия, кроме тепла. Что получится? Неуют. Дикая красота получится. Ко всему этому печи именно и не хватает. Мы души с тобой в дома вставляем. Веселые, добрые души… Семейные такие солнышки! Вставим, а потом человек всю жизнь вокруг него свою орбиту и водит.








