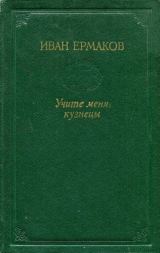
Текст книги "Учите меня, кузнецы (сказы)"
Автор книги: И. Ермаков
Жанры:
Сказки
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 25 страниц)
Старый Турков еще в притворе задохнулся:
– Со… со… соболишко?
– Соболишко, – подтвердил цыган. – Не желаешь ли, дядя, совершить купчую?
– Я т-т-тебе покажу купчую! – взвизгнул да всхлипнул старый Турков.
– Не серчай, дядя, – погладил соболя Миколка. – Я тебе тоже могу показать… цыганское колено, чтоб твое сердце не болело.
– Изгаляться, пор-рода! Я сечас к уряднику!..
– Опомнись, дяденька! Нету урядников. Кончились. Лапти сушат…
– Отдай соболя! Митька, бери его впереверт!
У цыгана неизвестно откуда здоровенный кинжал в кулаке засиял.
Весело, беспощадно спрашивает:
– Которому первому икру выпущать? Старому или молодому?
Турковы задком, труском, вразворот да ходу. Индейко тоже кинжала сробел.
Уж больно глаза у Миколки недобрые. И ноздри свирепые.
Дорогой его Турковы полегоньку били – не настиг бы цыган, озирались, ну а в чупровской ограде – до полного ублаготворения.
– Скимость! Гнида! Снистожество!!! – с поскоком совал в Индейкины губы сухой кулачок старый Турков. – Допусти, Митька, я ему вздохи отшибу!
– Я сам, тятя, – бухтел Слюнтяй.
– По блину его! По блину!..
Индейко упал.
Старый Турков рвал гармошку:
– Хлеба наелся – музыки захотел! За цыганскую рынду со… со… соболя?! Цены полперста не знает, а туда же… Сделки сотворять.
Отдышались.
– Брось его в сенник, – подопнул недвижимого Индейку старый Турков. Закрутил, закрутил тощей шеей, зажалобился: – Удушает меня чего-то. Хочь пьявиц подпускай… Запри, Митя, ворота. Ни
…Воду для кухни и прочих нужд в наше расположение с Полуя возили. В то дежурство дружинник Акеша поехал. Томский студент. В отряд к нам он из самой глубокой тундры пришел. Кочевал там от стойбища к стойбищу, незван, негоним, ненецкие песни, сказки, пословицы собирал, обычаи, поверья записывал, людей, оленей, собак, зверей зарисовывал. Говорок у Акеши напевный. Русая бородка кудрявилась. Очки от близорукости. И еще что запомнилось – ребячьи песенки любил петь. Для самого дошкольного возраста. Вот и в тот раз… Сидит на бочке и по привычке мурлычет:
Шарик Жучку взял под ручку,
Пошел «польку» танцевать.
Славный песик – наш Барбосик —
Стал на дудочке играть.
Попоет, попоет – с лошадкой перебеседует:
– Но-но, милая! А то ударю…
И замечает вдруг Акеша: человек с ружьем и с собакой вдоль заборов себя скрадывают.
Остановился, спрашивает:
– От бога или от людей хоронитесь?
В ответ ему невнятно так, по словечку:
– Котора места… нарьяна тю… красные рукава?.. Друзына нада. Николай Вануйто надо.
– Дружину тебе? – засуетился Акеша. – Садись. Садись в передок – мигом доставлю.
Разместил и по лошаденке:
– Но-но, милая, а то ударю!
Вот так-то и появился у нас в отряде Индейко. Губы расхлестаны, нос расплылся, от глаз щелочек не осталось, на малице кровь печенками смерзлась.
– Кто тебя так изуродовал? – спрашиваем.
Молчит. Зверком озирается. Озноб его немилосердно бьет.
Чаю горячего дали. Кровь с лица мокрой тряпочкой сняли. Молчит. Пришлось Николая Вануйто с поста сменить. Прибежал – залопотали по-своему.
А так и не сказал! Ни Николаю, ни нам не признался, что купцы его разукрасили. На неведомых людей сослался. А зря. Потянули бы за ниточку, глядишь бы, и до клубка… До змеиного гнезда. Впрочем, винить его за это особо нельзя. Боялся, что мы за соболью шкурку тоже вором его посчитаем.
В отряд нового дружинника под собственной фамилией записали – Осип Поронгуй. Только бесполезно. Отвык он от собственной у купца. Построение, бывало, начнется – Дунайко с правой стороны от хозяина место займет. На перекличке: «Поронгуй! Поронгуй!» – голосят.. Не откликается Поронгуй. Глазков, командир наш, в порядке шутки как гаркнет тогда:
– Индейко с Дунайкой?!
– Я! Стесь! – грудь выбодрит. И собаку тихонько ногой подстрекает: отзывайся, мол. Дунай знай блох ищет. За всю свою службу голоса не подал.
Стали мы нарожденного Осипа товарищем Индейкой звать. Тут нелишне сказать, что и самому ему приятное это имя было. Кто на гонках всегда побеждал? Не Осип, а Индейко. Кто первейшим стрелком назван был? Не Осип, а Индейко. Как бы спортсменскую и охотничью доблесть оно собой являло. Внушилось так.
Висел в нашей казарме портрет Владимира Ильича. Студент Акеша из старой газетки перерисовал. Индейко поначалу ничего. А как осмелел, обзнакомился – спрашивает:
– Это кто такая?
– Ленин, – отвечаем. – Неужто не слыхал?
– Которая такая – Ленин?
Не слыхал! Не знает, оказывается!
Ну, против него из нас всякий комиссар. Поясняем:
– Вождь мирового пролетарьята он.
– Председатель Совнаркома.
Индейко хлоп-хлоп глазами.
Покосился на нас Акеша, приглашает его к себе на топчан.
И вот как у него насказалось… Поначалу «самоедскую песню» вспомнил. В том, говорит, еще веке записана. От пьяного ненца. Отдал меха за «веселую воду» и лазит в ногах у купца. Поет. «Благодарю тебя, знатный брат, ты дал мне водки, сделал меня пьяным. Я, негодный, дурной, кланяюсь до земли, благодарю тебя, целую тебя».
Индейко приулыбнулся. Знакомая картина. Акеша, наоборот… Серьезный сидит.
– Не так ли, – говорит, – и народ твой, Индейко, богами, попами, шаманами запуганный, царями, властями поруганный, есаулами, урядниками битый, сеченный, турковским, чупровским зеленым вином одурманенный, к тупому покорству и скотству почти приведенный, не так ли и народ твой, Индейко, земно кланяется своим грабителям, целует преступные руки своим умертвителям?
Затихла казарма. Только распевный Акешкин голос по ней:
– Едет в тундру Ленин на белых оленях. Три светлых заветных ленинских слова, как три поднебесные вешние радуги, на оленьих кудрявых рогах сияют…
Поднимет Ленин с колен обесчещенный, изнемогающий, вымирающий народ твой и скажет ему первое заветное гордое слово: «Ненэць» – «Человек».
Ленин окликнет ограбленный, истираненный народ твой и скажет ему второе заветное слово: «Ерв» – «Хозяин». Хозяевами жизни, земли, воды и неба своего назовет ненцев Ленин.
И радостно будет видеть его глазам, слышать его ушам, как обнимаю я тебя, как говорю тебе третье его заветное слово: «Папако. Пебя. Нюдя ня» – «Брат мой. Желанный мой младший брат».
С этими словами действительно крепко, скула в скулу, обнял Индейку: «Ленин велел, папако».
Индейко наш задышал, задышал неровно, глаза вовсе сузились:
– Скоро придет? – на портретик указывает.
– Он бы давно уже здесь был, – вздохнул Акеша. – Не допускают его.
– Кто?! Котора не допускают? – схватился за берданку Индейко.
Ну, тут уж из каждого угла разъяснения:
– Кулачье, бандюги…
– Контра офицерская из тайги повылазила.
– Купчики-голубчики… Старейшины ваши, вотчинники.
– А шаманы?! Шаман – он тоже психиятр.
– Избили ленинские олени янтарные копыта свои, – досказывает-распевает Акеша, – посекли жгучие пули кудрявые их рога, заледенели оленьи слезы, из ноздрей сукровица сочится, а не могут, не могут прорваться они через вражьи лихие заслоны…
Опять вскочил Индейко:
– Где олени? Говори место. Индейко выведет!
Индейко выведет… И ничегошеньки-то он не знает, соболий охотничек.
Не знает, что от Алтая и до Березова свирепствуют по Сибири кулацкие банды, полыхает восстание, что вся полнота власти на Тобольском Севере на нашем жиденьком войске держится. Стоим мы здесь под командованием товарища Ивана Глазкова как отряд Особого назначения, и задача наша – до последней, до крайней возможности охранять и защищать Обдорскую радиостанцию. Через нее единственную держит Москва связь с островом Диксон, а через Диксон – с Дальневосточной Республикой.
– Понимаешь теперь, какую надежду на тебя да на твою берданку товарищ Ленин содерживает? – спрашиваем у Индейки.
Нахмурил черные брови:
– Понимаю.
– Тут не соболей стрелять…
– Купеца Туркова? Митьку Слюнтяя?
– Возможно, что и Слюнтяя.
Я говорю: Индейко ничего не знал… Многого не знали и мы. На другой день ударил по Обдорску набат, а в подголоски ему – стрельба. Из чупровского подворья, из прочих потайных берлог вскосматилась против нас разномастная контра. Первым делом ревком да радиостанцию захватить норовят. Председатель ревкома Иван Владимирович Королев из-за угла убит был. Командир отряда Иван Глазков в перестрелке погиб. Начальник радиостанции Иосиф Волков команду принял[3]3
Фамилии подлинные.
[Закрыть].
– Держать, ребята, радиостанцию!
Держим. Отстреливаемся. На неделе еще несколько лобовых и обходных приступов отбили. В дружине урон. День ото дня редеем, редеем. Больше половины боеприпасов истрачено.
На одном из рассветов видим: всадник со стороны противника в нашу оборону скачет. Вслед ему заполошную стрельбу бандючки открыли. Миколка-цыган скакал. В чупровскую конюшню пробрался, жеребца обратал, выждал момент, когда ворота откроют, и наудалую. Только косоворотка на горбу пузырится. На шее соболь повязан. По соболю – кровь. Скулу пулей чиркнуло. Соскочил с жеребца – кричит:
– Вы мне вольных бумаг не давали, а я вам, как отцам родным… Добра желаю!..
Желал добра, да недобрые вести Миколка привез. Сообщил цыган, что из Березова к обдорским крупная банда на помощь подходит. Разведка наша подтвердила. В таком числе подходит, что не нашими реденькими штыками сдержать ее. Между дружинников много коренных, обдорских, было. У этих семьи.
Когда определилось, что нет нам другого выхода, кроме неминучей поголовной смерти, решили мы отступать в тундру. И полетела в Москву последняя с Обдорской радиостанции телеграмма. Такие писались слова: «Коммунисты Тобольского Севера, истекая кровью, шлют пламенный привет непобедимой РКП, дорогим товарищам и нашему вождю Ленину…» И партийным, и беспартийным ее зачитали. Индейко поначалу не разобрался что к чему, а когда дотолмачил, подхватил свою малицу и бегом в аппаратную.
– Индейко тозэ… Тозэ, товарису Ленину просяльный привет!
Иосиф Волков кивнул. Передам, мол, Индейко.
На два отряда разделились. Наш в тундру двинулся, а Сергиенко решил через Урал на Печору, к своим пробираться.
Тогда-то я поел дохлой оленинки. Вспоминать страшно. Кабы одни, а то детишки с нами, женщины. От зверской кулацкой беспощады уходили. Тундра – пустыня. Ни обогреться, ни обсушиться. Олени из сил выбиваются, падают, а ко всему этому со дня на день, с часу на час обдорской бандитской погони ждем.
Двое девчонок умерло. Раненые на нартах застывают.
Посылает командир Индейку к сородичам. Нарты дает, денег дает.
– Любым способом разыщи чумы, вези в отряд оленины. И хлеба. Хоть детишкам…
С Индейкой в провожатые Миколка-цыган напросился:
– На деньги, может, не продадут, дак я соболем рыскну, – командира обнадеживает.
И тоже на нарты.
Чупровского украденного жеребца съели. Пришлось цыгану с оленями спознаться. Хореем подцеливает, ворчит:
– А, мамынька, моя мамынька! Да поглядели бы твои глазыньки, на какой безобразьи родимо твое жигитует.
Отправили их.
Закупили они полмешка муки, шесть туш мяса да к упряжкам по паре свежих оленей добавили. Сытые едут, довольные: вот, гляди, обрадуют отряд.
Вдруг – выстрел по ним.
Оглянулись – с полдюжины нарт вдогонку идут.
– Алюры, родненьки! Алюры, золотки! – засуетился цыган с хореем.
Прикинул Индейко: не выиграть ему на этот раз оленьи гонки.
Поравнял свою нарту с Миколкиной, кричит цыгану:
– Скоро-скоро отряд ходи! Индейко стрелять будет!
И выпал из нарты.
Стрелял по оленям. Две упряжки остановил, остальные его обезоружили.
– Ваше благородье! – дуриком заорал подоспевший Митька Слюнтяй. – Ваше благородье! Это же наш Индей! Вот и Дунайко с ним! Дунай, на-х, на-х, на-х, – за-подманивал он собаку.
У офицера потемнели глаза:
– Чему обрадовался, долдон?! Пулю он тебе в башку не поместил?
– Пре-ат-личный стрелок! – забрызгал слюной Митька. – Мы с тятей со своим умыслом его в Обдорск привезли. Он бы знаете скольких этих кумоньков улобанил, кабы не гармошка… В ножик, в лезвие, на шесть шагов попадает!
– Неужто? – прищурился на Индейку офицер.
– Истинный бог! – перекрестился Митька. – Картече пополам рубится, а на ноже синие чатинки от свинца.
– Лю-бо-пыт-но…
Офицер снял с японской винтовки ножевой штык и воткнул его рукояткой в снег.
– Отмерьте шесть шагов и отдайте ему ружье, – на Индейку указал.
– Ястребин Коготь! Не подгадь! Не обстрами турковское оружие! – заприплясывал Слюнтяй.
Индейко выцелил, выстрелил, штык клюнулся в снег.
– Подайте, – приказал офицер.
На стальном полотне штыка по обеим сторонам обозначились синие полоски.
Посвистел, посвистел благородье – подает штык Слюнтяю:
– Выколи глаза!..
– Кому? – спятился обробевший Митька.
– Своему пре-ат-личному стрелку. Ну!..
На Митьку родовая заика напала. Заквакал наподобие тятеньки:
– Ва… ва… Ваше благородье… Мине это… Ужасть не дозволяет выкалывать… Я его из обреза лучше…
– От-ставить из обреза! – визгнул офицер. – Ты, – Индейке на Митьку указывает, – застрелишь его?
– Застрелишь, – кивнул Индейко.
– Ну и атлично… Без соплей.
– Ваше благородье! – заметался, затошновал Митька. – До… до… дозвольте, я обтреплюсь… обветриюсь… Притом… собаку убрать надо. Порвать может.
В семь жгутов плетенным тынзяном привязали Дунайку к Митькиной нарте.
Индейку свалили.
Склонился над ним Слюнтяй с японским штыком в руке.
– А-а-а!! – настигнул Миколку-цыгана приглушенный верстами, похожий на стон, протяжный Индейкин крик.
Насторожил чуткие уши полярный волк.
Куропатка в тальниках вытянула шейку.
Перестал на минутку мышковать песец.
Плавила в белой тундре снега горячая Индейкина кровь.
Грыз в семь жгутов плетенный тынзян Дунайко.
На стоянке пережевал Дунайко белым каленым зубом последнюю нитку оленьей кожи и намахом пошел по обратному следу.
Неведомо куда брел по тундре его хозяин.
Ищет Дунайко человечьи глаза и не находит глаз. Отпрянул пес. Седую свирепую морду к звездам поднял и неумеючи, жутко завыл.
– Дунайко! Дунайко… – бережно звал его слепой.
Подошел. Дал огрызок тынзяна нащупать.
– В чум, Дунайко… В чум веди!
Годы вы, годы… Вихревраждебные.
Королев, Глазков, Терентьев, Обухов, Рочев[4]4
Фамилии подлинные.
[Закрыть], Акеша-студент на Ангальском мысу в братской могиле покоятся. Из отряда Сергиенки, который на Печору уходил, три человека только уцелело. Остальных, голодных и обессиленных, у зауральской деревушки Ошвары перестреляли, перерезали зырянские кулаки. Дошел ли до Ильича ваш «пламенный прощальный привет», тундровые коммунисты?
Не забудь их, суровая северная земля. Взрасти им цветы.
А про Индейку… Доходили слухи потом… Везут сородичи от стойбища к стойбищу Темного Ненца. Где чай он пьет, где ночует он, сбирается там народ. И рассказывает Темный Ненец: едет, едет в тундру Ленин на белых оленях. Три светлых заветных слова, как три молотых вешних радуги, на оленьих рогах сияют, горят…
Дальше Петрушкиному ребячьему рассказу доверюсь.
Довезли слепого Индейку до таежной избушки – плачь, семья, радуйтесь, белки, соболя, куницы. Два сына у него подрастало. На турковских, видимо, оленях из тайги вывезли в тундру. Имя «Индейко» постепенно забылось. Стали его соплеменники Темным Ненцем звать.
Власть Советская долго до пустынных тундровых просторов дойти не могла. По всем законам пенсию бы надо Индейке выплачивать, да кто знал, кто думал об этом.
Дунайко семью спасал.
Привяжет его Темный Ненец за поводок к поясу, капканы с приманками на маленькую нарту сложит, и тронулись. Глаза незрячи, зато пальцы… Дунайко на следу остановится, носом своим обнорышки звериных лапок укажет хозяину – определяй, кто здесь пробежал: волк, лиса, песец, горностай. Пальцами и отгадывал. Ловушки тоже ощупью настораживал. Куда бы ни забрели, Дунайко прямою дорогой в чум приведет. Где бы ловушки ни расставили, Дунайко тем же порядком одну за другой наутро разыщет. Весь промысел на нем держался.
Ненцы редко ласкают собаку. Погладить ее за грех считалось. Бог Нум, видишь ли, голой ее сотворил, а шкуру, оказывается, она у злого духа уж охлопотала. Темный Ненец плевал на это поверье. В обнимку с Дунайкой спал, лакомого куска не жалел, разговоры вел, целовал. С годами примечать стал: стареет пес. Дремотный сделался, в прошлогодней шерсти, не облинявши, ходит, резвость не та. Заказал тогда Темный Ненец цепочку медную. Один конец цепочки на Дунайкиной шее закрепил, другим – молодого щенка к старику приковал. Учится молодой Темного Ненца по тундре водить, чутким своим носом обнорышки звериных лапок ему указывать.
Удивляло сородичей в Темном Ненце и вот еще что… Знают: слепой он. Шило к глазу неси – не отпрянет. А людей узнает. Не по голосу – по походке, по дыханию. Соседство в триста верст, не встречались годы, а он приезжего за три чума опознает, по имени называет. На памяти остался и тот случай, когда он докторшу спас. Каюр у нее тайком допьяна напился, а ей к срочному больному надо. Рискнула одна ехать. Оленей-то посреди тундры и упустила. Пешком шла. Обессилела. Застывать начала. Никто ее криков не слышал – Темный Ненец услышал. Все стойбище взбудоражил, направление указал.
Погоду предсказывал. Здесь, конечно, раны… Глаза. Стали его в тундре как бы за провидца какого почитать.
Второго Дунайку Третий сменил, Третьего – Четвертый…
Много, новостей слышит за последние годы Темный Ненец. Рассказывают ему зрячие сородичи, что летают над тундрой крылатые железные нарты-самолеты, ходят по рекам белые красавцы теплоходы, по вечерам в поселках зажигаются «русские звезды» – э-лек-три-чес-тво. «Умные говорящие деревья» – ра-ди-о – веселят сердца людей музыкой, песнями.
А еще рассказывают сородичи, что появились в тундре белозубые бородатые люди – ге-о-ло-ги, построили бу-ро-вы-е вышки и сейчас железом долбят, грызут студеную, мерзлую землю, ищут газ – «голубой огонь», который осветит и согреет чумы, подарит ненцам «второе солнце».
– Саво (хорошо), – кивает головой Темный Ненец.
А однажды задрожала на бойце Индейке старая малица: Ленин в тундре! Пришел!
– Где?! – сорвался голос у Темного Ненца. – Где?! Не слышу бега его оленей!..
– Пришел! В поселке! Стоит на высоком камне лицом к сиянию, рукой к сиянию…
– Дружинника Индейку… не звал… не искал?..
– Он молчит. Он неживой. Он – па-мят-ник.
В жизни не слыхал такого слова Темный Ненец. Смутился старый, озадачился. Однако в тундре же Ленин… В тундре! Как Акеша говорил…
– Живы ли его белые олени?
– Нет оленей у Ленина. Даже серых нет.
– Есть ли у него чум, еда, чай?
– Нет чума у Ленина. Не пьет он чая. Он – па-мят-ник.
– Есть ли у него ружье, собака, одежда?
– Нет ружья у Ленина. Нет собаки у Ленина. В легкий пиджак одет Ленин. В руке фуражку сжал. Голова лысая. Лицом к сиянию. Но ему не холодно. Он – па-мят-ник. Застыл. Не движется.
– Разве иссякла тундра мехами, разве перевелись в ней белые олени? – задал сородичам последний вопрос Темный Ненец.
– Не иссякла тундра мехами, не перевелись в ней белые олени, – ответили Темному Ненцу сородичи.
…Известный всем в районном поселке милицейский старшина Иван Иванович, имеющий к тому же прозвище «Самособой», шел на жиденьком заполярном рассвете с дежурства домой. Шел, размышлял, чем жена угостит его: оленьим ребрышком или рыбной котлеткой? Чайку опять же крепкого – дна не видать «капитанского» – выпить жаждалось. И вдруг нежданно-негаданно регистрирует он своим старшинским взглядом небывалое в милицейской практике нарушение. К памятнику Ленина лесенкой приставлены нарты, к нартам три белых оленя привязаны, и люди в малицах исхитряются надеть на бронзового Ильича… малицу.
– Эт-то што?.. – оторопел, приостановился, спросил сам себя Иван Иванович. – Это как понимать надо?
По улицам народ движется. Иному уж на работе надо быть, а он остановился и наблюдает, как Ильича, симбирца-волжанина, северянином обряжают.
– Ребята! Ребятушки… – дал голосом «петуха» Иван Иванович. – Вы это… само собой… чего удумали?
С постамента – слово по-русски, два по-ненецки, кое-как поясняют:
– Приказал Темный Ненец одеть Ленина в малицу. Худо ему на ветрах да морозе с голой головой. Зябко в одном пиджаке стоять в нашей тундре. Разве иссякла она мехами? Разве перевелись в ней белые олешки?
Окончательно растерялся Иван Иванович. С одной стороны посмотреть – теплом да любовью своей народ Ильича одаряет, с другой – нарушение же! Притом скопление публики… И посоветоваться не с кем – прямого начальства нет. Одному и немедля вопрос решать надо.
Оглядел Иван Иванович еще раз окрестности – сам один должностное лицо.
– Это что за стратегик такой у вас – Темный Ненец? По темноте, само собой, знаете чего натворить можно?.. А со скульптором вы согласовали?! Может, он в корне за основу не примет! Притом, местные власти есть, хоть и в командировке… Где он, ваш Темный Ненец?
– Хотел сам приехать… Заболел шибко. Нас послал. Сорок лет Ленина ждал…
– Не положено, ребята, поймите мое разъяснение, – принялся убеждать Индейкиных соплеменников Иван Иванович. – Вон, посмотрите! Вон, пожалуйста… Главный геолог экспедиции идет… Думаете, куртку, шапку, унты свои пожалел бы? А вон хирург! А вот начальник аэропорта… Да любой из здесь стоящих не токмо что форму – последнюю рубашку, как говорится… А не положено.
Стало быть, и не положено, раз старшина говорит. Трое суток добирались до своего стойбища Индейкины посланцы.
В сознании еще Темного Ненца застали.
– Отдали вы Ленину белых оленей?
– Отдали, – кивают.
– Стрелял ли он из моего ружья?
– Стрелял, – кивают. – Песцу в ушко попал.
– Приласкался ли к нему Четвертый Дунайко?
– Приласкался. Погладил Ленин его.
(Дунайко в соседнем стойбище оставлен был. Пусть в светлой вере умрет Темный Ненец, дружинник Индейко.)
Под утро забываться стал.
– Владимир Ильиць… Дунайко собака хоросая… хоросая… хоросая…
Похрипит, побулькает грудью и вдруг – песня:
Винтовоцька, бей, бей,
Винтовоцька, бей!
Вихри враждебные снятся. Снятся до смертного часа старым бойцам.
– Скоро-скоро отряд ходи, Миколка! Индейко стрелять будет!
…Второй месяц пошел, как я дедушкой Нянем зовусь. И с ненцами, и с хантами, и с татарчатами передружился, и с селькупами. Теперь уж про себя песни слышу:
Дедко Нянь, дедко Нянь,
Нам воробушка достань.
А где я им в Заполярье достану воробушка?.. Смейтесь, огольцы этакие. Индейкиного внучка, однако, наособицу отличал. Сидим как-то в моей дежурке, и лепит он по памяти своего дедушку – Темного Ненца. Мне, ясное дело, любопытно. Вдруг задает мне Петрушка такой вопрос:
– А почему нельзя Ленину в малице? Почему заругался Иван Иванович?
Как ему объяснить?
– У скульптора, – говорю, – он без малицы отлит, и неправомочны мы…
– Не был он в тундре! – загорячился, заобижался на скульптора Петька. – Разве правильно это: в одном пиджаке, голова непокрытая… В тундре так никто не живет. И Ленину так нельзя.
А что, думаю… Может, им, ненцам, действительно нехорошо, несвычно в таком одеянии Ильича видеть? И не только для глаза – для сердца ущербно. Даже совестно, может быть. Ведь, ишь, говорят: «Разве иссякла тундра мехами?»
С этой догадкой отвечаю Петрушке:
– А ты вылепи его в малице! По-вашему, по-тундровому… И будет вериться всем: хорошо ему в тундре, тепло, родной и домашний он здесь человек. Олешки на север идут – он им вслед глядит, олешки с севера – он нарожденных оленят считает…
Не успел я досказать, схватил меня Петрушка за руки: губешки приоткрыты, побледнел, сполох в глазах…
– Пойдем! Пойдем, дедушка Нянь!.. – тормошит меня.
– Постой… Погоди, – выручаюсь я от него. – Куда пойдем?
– К памятнику. Посмотреть хочу!
– Завтра бы, Петушок… Поздно уж…
– Сейчас, дедушка Нянь!
Ну, оделись мы с ним, спустились на крыльцо и прямо под сияние угадали. Взыграло – полнеба горит.
У ненцев ни в сказках, ни в песнях про красоту эту дивную ни словечка не сказано. За обыденку им. А у русских старожилов сочинилось. Дни в это время коротенькие становятся, вот иная бабушка и догадывается: «Линяет солнышко, роняет перышки… Летят в полуночи, извиваются, и чудны светы с них изливаются: девушке-Весне – на сарафан, красну Лету – на узорчатый кафтан, Грому ярому – на радугу-дугу, Ване малому – сказал бы он «агу».
У таежных охотников своя песенка: не спят-де в такой час глухари. Со всех суков, со всех вершин тянут они свои шеи к сиянию. Бородки будто да брови на этом свету себе румянят-закаливают. А в сказе опять говорится, что это жар-птицы токуют. По-всякому наслышишься.
Стоим мы с Петькой перед памятником, а сполохи по нему струят, струят. И вызеленит его, и выкраснит, и серебряным маревом высветит. Петька свое выискивает, а я думаю.
Далеконько же, думаю, ты, Владимир Ильич, заселился. Ни от оленеводов, ни от геологов не отстаешь… Да что говорю: ведешь их!
Не успел додумать, ка-а-к высвистит да взгудит, да взвоет неведомо какое чудовище на правом берегу, аж содрогнулись мы с Петькой. Обернулись – снега горят. Хоть перекрестись – снега горят!
И тут-то как зарыдает по местному радио вне себя от восторга:
– Бра-а-атва-а! О-олухи сонные!! Третья буровая газ дала-а-а!
Одно окно светом откликнулось, другое… Через минуту весь поселок огнями сиял. Двери по морозцу заскрипели, в гаражах пускачи на вездеходах затрещали, рыбокомбинатский гудок не в пору взревел. А тут и народ… Что подкуренная пчела взроился.
Набежал на нас с Петькой главный геолог, стиснул моего нулевика за ребрышки, вскинул над головой и без складу-мотива запел:
– За-а-апомни этот миг, ма-а-алый!! Засеки миг! Студеная твоя земля великое тепло народу отворила! Вот оно, твое «второе солнышко»!
Пока он Петьку кружил да подкидывал, приметил я, что не в унтах наш главный из дому выскочил, а в ночных шлепанцах. Вот до чего! Отпустил Петьку, к памятнику подшагнул:
– Товарищ Главный Геолог!.. Газ!
Больше ничего не выговорил. Всхлипнул, полбородой закусил и помчался в своих черевичках к гаражу.
У моря студеного сполохи, сполохи. За Тазом-рекою горят-золотятся снега… Сказка, быль ли? Обронило ли солнышко еще одно перышко? Стоит Ильич с двух сторон осиянный. Отсверки по нему, блики, зарницы.
– Он улыбается, дедушка Нянь! – дергает меня за рукавицу Петрушка.
– Ага, – подтверждаю. – Как не улыбаться… Олухами по радио обзываются, по морозу в шлепанцах бегают, без мотива, по-шамански, поют, бородой слезы вытирают, а ведь он, Ильич, смешливый. Даже бронзовый не выдюжил… Потом, слышал, Главным Геологом его называют? Геолог, а тут, открытие…
– Ленин не геолог! – замотал головенкой мой нулевик.
– Геолог, Петя, – говорю. – Такие драгоценности в людских сердцах разыскал!.. Ну да подрастешь – узнаешь. Пошли спать.
Весь режим мы с ним в ту ночь нарушили. Ответственности, верно, мне нести не пришлось. Газовый фонтан всех побудил. Да и на второй день от занимаемой должности «Нянь» освобожден был. Прежняя выздоровела. Шепнул ей, чтоб Петрушку не притесняла, искра, мол, в нем, и распрощался со своим «интернационалом».
Перед отъездом захожу в сторожку – лепит мой Петя, поет:
Сейчас маленький, маленький Тибу,
Подрастет – вожаком в упряжке пойдет.
Держись за нарту, дедушка Ленин:
Быстроногий Тибу-олень.
Ну, и другое прочее в своей песне выдумывает.
Заглянул я ему тихонько через плечо – Ленина лепит. В узорной малице Ильич, в откидном капюшоне. Улыбается. Лакомство олененку подносит: Тибу-Попрошайке, по-видимому. А тот коленца свои у него на груди сложил и всей своей принюшливой сопаткой торопит: «Скорей, Ильич!»
Стою, шепчу над стриженой черной Петькиной головой:
– Не оленько твой авка-сиротка на грудь Ильичеву копытца сложил – то народ твой, былой горемыка и пасынок, к великому верному сердцу припал… У великого сердца воскрес…
Петрушка обернулся:
– Чего рассказываешь, дедушка Нянь?
– Чего рассказываю?.. Талану твоим пальчикам желаю, Петушок. Не напрасно, знать, разбудил тебя олененок… пошептал в ушко.
1966 г.








