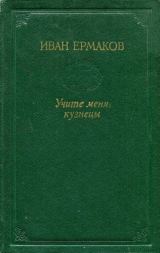
Текст книги "Учите меня, кузнецы (сказы)"
Автор книги: И. Ермаков
Жанры:
Сказки
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 25 страниц)
Мир.
Детей-то всего лишь Алеша случился, вот и избывалось оно, материнство, на них двоих поделенное.
«Пуля-смертынька, – шепчет Денисья Гордеевна. – Ты не все возьмешь! Лишь свое возьмешь. Есть па-амя-ять!.. Любовь есть…»
Треугольнички…
«Всемилая радость моя, жена дорогая, Денисья Гордеевна! Рассказывал нам политрук, как в котором-то веке крестилась в Днепре наша Русь. Ныне снова она почитай что крестилась.
Плыли мы на плацдарм – его надо еще захватить, удержать – плыли мы кто на чем. На лодках, на бревнах, на бочках, на плащ-палатках, соломой, и сеном, и кукурузным будыльем натисканных, на связках хвороста, на водопойных колодах, на бабьих корытах, на прочих иных чертопхайках – я же плыл на свиных пузырях. При поспешном своем отступлении перестреляли немецкие интенданты породных свиней и иную окрестную живность, чтобы, значит, при встречах геройского нашего фронта не взлаено было, не хрюкнуто и не кукарекнуто. Свинота была еще теплая, и назначен я был, в составе нашего взвода, палить их и свежевать.
Не забудь: впереди был Днепр. Доносилось до командиров, что придется форсировать эту преграду с ходу – с ходу в воду, без броду, на всяких подручных средствах. И вот тут-то, когда свежевал я свиней, почему-то припомнилась мне ребячья крестьянская на им забава. Свининый надутый пузырь вдруг припомнился. Засекретишь, бывало, в него три-четыре горошки для грохоту, понадуешь, завяжешь, подсушишь и льняною суровою ниткой наростишь к кошачьему хвосту. Эко было весельюшка, хохота – в цирк не ходи!
Вынул я девять штук пузырей, круто их присолил, пересыпал золою, и вместилися у меня «подручные» эти средства в одну консервную банку. А банка в один уголок вещмешка. Ну и далее – вперед Афанасий…
Близ Днепра раскатал пузырье я в поле, камышинкой, по степень объема, надул, два – на самую шею себе привязал, три – под грудь, остальные четыре – на руки и ноги. Оружейны приемы опробовал – получается ладненько, гранату свободно могу зашвырнуть, даже, мыслю, стрелять на плаву смогу, так как руки свободные. Кругом в легкости.
Посмотрел на меня старшина подозрительно и говорит:
– Стратегии!.. Да тебя любой ерш либо окунь подколет.
– Поглядим, – говорю. – Там увидим! – гремлю пузырями.
И тут во всем-то свиноубранстве был застигнут внезапно командующим нашего фронта.
– Это что за воздушный вдруг шар на земле объявился? – у нашего ротного спрашивает.
– Изготовлен форсировать реку, товарищ командующий!
А командующий наш тоже носит усы. Стоим два усатика друг перед другом. У меня они в строгости – усинка не дрогнет, а у товарища командующего засвербели они, заподергивались…
– Чингисханы, – говорит, – на кобыльих требухах водные преграды одолевали, а этот, видали, чего отчебучивает?..
Улыбаться или хмуриться – не знаю. Стою, молчу. Мое дело вживе Днепр переплыть.
– Сфотографировать его при всех пузырях – и в газету! – приказал адъютанту командующий. – «Нет предела солдатской смекалке» – такой рубрик поставить. Пожирней наберите!.. – И ко мне обращается: – Стало быть, доплывешь, доберешься, сержант, до Высокого Берега?
– Рядовой, товарищ командующий!
– Сержант, говорю! Повторяю!..
– Доплыву, товарищ командующий!! Кровь с носу, дым с уха! Лопни мои пузыри! – заклятье даю.
Смеется опять, улыбается.
– Не забывайте, ребятушки, – к остальным обращается. – За захват и последующее удержание плацдармов на том берегу приказал нам Верховный Главнокомандующий не жалеть никаких орденов. Даже Звезд Золотых не жалеть! На монетном дворе по три смены работают.
Вот такой разговор…
Сфотографировать меня не успели. Взревела, взъярела наша артподготовка. А следом бомбежка. Фашисты – взаимно. Небу жарко – поют херувимы стальные!
И ринулась Русь опять в свою первозданную Реку.
И ринулись с Русью во Днепр единоприсяжные в братстве племена и народы Совецкой Нации.
Над головами – шрапнель и бризанты, кругом фугасы рвутся, в рот, в заглот тебе, в очи, в темечко пули летят, в плечи, в груди, в ребра оскольчаты мины целятся…
Один мой пузырь, чую, дух возле уха, от пульки должно, испустил.
А у меня еще восемь!
Второй, знать, пронзило осколышком.
А у меня еще семь!
Третий по детонации лопнул.
А у меня еще шесть!
«По-го-ди-и-и, крутолобенькой!..»
Кипит и взмывает к небушку Днепр, солят его немцы гремучим тротилом.
Вот он, вот он, Высокий тот Берег!
Вижу, кустик шиповника рдеет…
У меня только три пузыря, а сам цел.
«Теперь я, товарищ командующий… Верховный наш Дедушко… Теперь я на собственном родном своем доплыву!»
Кустик рдеет, и ягодку видно.
Я г о д к у в и д н о!!
«Держись, крутолобенькой!..»
– Безунывная твоя головушка! – отрывается от письма Денисья Гордеевна.
Третий шелестит треугольничек:
«…На плацдарме мы бились поболее месяца, а потом одолели фашиста – пошли. Утром, шестого ноября, в канун праздника, вступили мы в Киев, и в этот победный момент по усталому нашему войску, под дыхание полкам и под самое сердце дивизиям ударили киевские колокола. Вот чего мы еще на войне не слыхали и слышать не чаяли. У бойцов-украинцев от первых же звонышков высекло слезы, не выдюжили и некоторые сибиряки. Слеза – ей только дорожку наметить… Вот скажи ты!.. Возвысилась, взреяла грудь, заселили ее сокола и орлы медногласые, закогтились в душу мою и высоко, высоко, и чутко, и зорко понесли ее над большим и великим понятием – Родина. И уж мнилось, сплавлялось – шагаю по Киеву вовсе не я, малорослый Афонька-опупышек, а шагает вся рода моя до колен Святославовых, целовавшая меч у Отечества, коням ратным храп пенный подолом рубахи своей утирающая. Реют, реют над нашими ранами, над небрито-немытыми ротами орлы медногласые – Победу поют! Победу поют! Славой венчают! Раны крылами овеивают! Вот чего на войне не слыхали и слышать не чаяли. Плакал я, Донюшка… Слеза, тварь, – ей ведь только дорожку наметить. Да и то сказать, давно уж, давно не держал я в руках мою милку-тальяночку и давно уж, давно не пивал от нее «соловьиного молочка». Душа отощала и сделалась странно-приимчивая…»
«Пуля-смертынька! Ты не все возьмешь…»
– Ну, сойди… Покури… – из поблекнувшей рамки, из невнятных миров опять вызывает Гордеевна дорогого Афонюшку.
Нет, Денисьюшка, нет…
Ни любым табаком, ни наполненной чарой вина не воззвать, не поднять их из братской могилы. Обнялись там высокие, светлые русичи, онемели, слеглись, как ложатся в горнила штыки, им звание – России Старшины Бессмертные. Лишь одни подзнаменные духи исходят из этих могил, вкруг знамен наших реют, незримые, по казармам, в полуночь присяжным внучатам своим молодые ресницы овеивают, проверяют оружие и заслуги-значки начищают на их гимнастерках к тревожной заутрене.
– Видно, так… не сойдешь, – складывает Денисья Гордеевна военной поры треугольнички.
А на выгон, к Седому Дразнилушке, все летят и летят молодые скворцы.
– Ну, табак… Марш в рукав. Полежи. Будет час роковой – внукам-правнукам дам закурить. «Заверните, парнишки, дедушкова. Причаститесь-ка, повдохните от духа его отбронелого, всепобедного, безунывного… Приключенчецкой жил-был дедушка!.. Пули с гривнами ел, а окурки выплевывал. В трех державах окурки выплевывал, зеленой мужик!»
И глядит, и глядит на Афоню, и ласкают, и греют былого Гармошечку негасимо-родные глаза:
– Так, Афонюшка? Ладно сказала?
А с Алеши и карточки нет…
…Память, память моя!.. Женственные заснеженные деревеньки…
1973 г.
«Учите меня, кузнецы!..»
СОКОЛКОВА БРИГАДА
Фамилия-то ихняя не Соколковы – Елкины они. А «соколками» – это уж по отцу зовут. Отец был «Соколок»…
Вот, говорят, что человек делами красен. Верно говорят. Только я бы к делам-то и детей еще добавил. Другого по делам впору на божницу посадить, а детки с конфузом получаются. Бывают и от здоровой яблони с изъяном яблочки. А Соколки!.. Ну да про молодых сказывать – со старых начинать. А старый Соколок – о-ох! – сокол был! На смешинке, видно, парня замесили, да чуток переквасили. Ухарь был, покойная головушка! Скажи в те поры кто-нибудь, что из него плотник будет, – засмеяли бы начисто: «Андрейко Соколок плотник? Вот спеть, сплясать, на гармошке сыграть, словцом кого огреть, отчебучить чего посмешнее – это его дело».
Чуб смоляной. На ветру из кольца в кольцо завивается. Глаза, что два вертучих беса, а зубы вечно наголе. Идет, бывало, по деревне – не одна занавесочка на окнах заколышется. И цветы-то у девушек не политы, и иголки куда-то запропастились… Удалой был! Так его Соколком и прозвали. Оно известно – молодо-зелено, кровушка-то бродит, силушка-то играет… Кому этакие годочки не красными были? Гуляй пока. Жизнь – она тебя на свою точку определит.
Так и с Соколком случилось.
По порядку сказывать, то и именитых покойников потревожить придется. Колчак еще тогда у нас по Сибири толокся. Верховный правитель – кость ему в горло, куриному адмиралу. Ну и правил! Мобилизовал всех подчистую. И молодняк по семнадцатому-восемнадцатому году, других уж в годах, грыжа на виду, все едино – примай присягу. Только мало охотников находилось… Богатенькие – те, верно, шли и сынов вели, а насчет прочих – сегодня присягу, а завтра – тягу.
Твердого фронту не было. Наша деревня раз семь из рук в руки переходила. Красные займут, день-два постоят – дальше. Глядишь, колчаковцы налетают. А там опять… Чуть не каждый день власть менялась. Да и два раза на дню когда. А старостой все меня назначают. Я так-то три раза белым старостой был и четыре – красным. Раза два, верно, меня вгорячах чуть ли не к стенке ставили – ну да народ не выдавал. Да и сам я – не ухо от лоханки… Белые придут – я при всех «Георгиях», красные – я им, пожалуйста, человек пяток колчаковских дезертиров приведу. Принимай, мол, пополнение… Ну, а все же стерегся! Кто его знает – какая наутро власть? Попадешь еще как кур во щи. Вот я и наказываю Никишке – звонарь он при церкви был:
– Ты вот что… Глядеть у меня в оба! Красные будут идти – давай звон этакой, с подголосками, а белые – бей редко, да гулко. Да веревку с колокола до земли опусти, не лазить бы тебе за каждым разом на колокольню. С твоей-то прытью, пока до колокола доберешься, и власть переменится.
Так и повелось.
Ударит Никишка на колокольне – в другой избе какой нынче день, середа или пятница, не знают, а какая власть на деревне – известно. Только однажды под утро такой звон раздался, такой шальной да бестолковый, ровно три власти враз нагрянуло. Чисто пожар. Повскакал народ, огляделся – нет, не горим. А звон того тошнее. Давай это мы, всем скопом, осторожненько к церкви подвигаться. Идем – а шаг у нас все короче, короче делается. Хоть бы и совсем остановиться.
А звон – ну чисто сбесился кто! Церковь-то на пригорке стояла, а все равно не видать, что там деется. Не рассвело еще как следует. Обменялись мы мнениями, да человек шесть, которые побоевитей, решили идти. Была не была!… За нами и остальные любопытствуют. Подходим – тю!.. К веревке, которая с колокола спущена, конец нарощен, а к этому концу бабки Марфин козел Борька за рога привязан. И сколько ему свободы есть от веревки – носится да трезвонит. Разбежится в один конец, как бахнет в колокол, перевернется – да вдругорядь.
К этому моменту Никишка на звон прибежал. По морде видать – со здоровой похмелюги. Заслонил я от него козла – спрашиваю:
– Про какую власть звон идет?
Он у меня рваться.
– Я, – кричит, – сейчас разберусь! У меня поозоруют!
Пустил я его, скакнул он шага три – и поджилки зашлись… Чего-то горлом забулькотал, закрестился и взадпятки. Смотрю, а он к натуральному бегу изготовился. Схватил я его за скуфейку, удержал.
– Чего ты? – говорю. – Опомнись!
А на нем лица нет. Заика напала. Еле-еле он с языком совладал.
– А-а-анчихрист… анчихристова власть… пришло число шестьсот шестьдесят шесть!..
Тут и бабенки закрестились, и старики…
– Да какой, – говорю, – тебе анчихрист мерещится? Не видишь – козел Марфин!
А он свое:
– Пришло его царствие!.. В козлином образе явился…
– Не мути, – говорю, – народ, глиста такая. Бабка Марфа! Где ты! Иди, вызволяй свою скотинку!
Та за спины прячется и, подумай ка, от козла отрекается.
– Провались он, – говорит, – сквозь тартарары, когда так! Я его с рожочка вспоила, а он нечистиком оказался.
Тут Михайко Громов говорит мне:
– Иди сам, Пантелей. На георгиевских кавалеров чертям меньше власти отпущено. К тому же – староста…
Быть – идти… Боязно, слушай-ко! Анчихрист не анчихрист, а козел-то возмужалый! И рога, что стоговые вилы. А тут еще Никишка под руки орет:
– Не опущай, Пантелей! Не бери греха на душу! Видишь, ему святая церковь воли не дает. Господень аркан ему на рога накинула.
Стал я все-таки его ловить. А у него глаза кровью налились, по бороде пена, и мемекает не по-домашнему. Изловчился я, резанул по веревке складнем, вызволил козла. Взрявкал он от радости и как был – к народу мордой, – так и заколотил в улицу. Народ от него во все подворотни щемится. Никишка на тополь полез. Заметил оттуда, что поп наш, отец Гавриил, калитку открывает – ревет ему с тополя:
– Упасись, владыко! Анчихриста спустили!
Тот на ухо сильно тугой был, почему и на трезвон опоздал, ладошку насторожил да на середину улицы подвигается. Козел как двинул его под седалко, так батя и кувыркнулся. А тут собаки налетели… За Борькой гнались… Вовсе свалка пошла. Не поймешь, где собачья шерсть, где козлиная, а где от попа клок.
Я – поспешать на свару. Разогнал собак, гляжу, батя навалился на Бориса и сует ему под дыхало. Бьет да приговаривает:
– Скотина бесовская! На кого рога поднял?! На кого рога поднял? – А у самого из носу юшка каплет. Ну, я тут ввязываться не стал. Домой пошел.
А там гостенек. Андрейко Соколок сидит. Разодет – во всю колчаковскую! Мундир английский, погон нет, табаку – тоже.
– Или сдезертировал? – спрашиваю.
– Так точно, Пантелей Ильич! Прибыл на твое довольствие и в полное твое распоряжение. Где прикажешь красных дожидаться?
– Ну, это, – говорю, – определим. А ты вот что… С козлом ты напрокудил?
Смеется.
– Я, – говорит, – дядя Пантелей. Опасно было в деревню заходить, не знамши, что у вас за власть, пришлось Борьке разведку сделать. Я с мельницы глядел… Колчаков нет – тихонечко задами к тебе. Живой он хоть – козел-то?
– Живой, если батя его не ухристосует, – говорю.
С полчаса мы с ним не перемешкали, – глядь, вступают в деревню красные. Командир к моему дому подъезжает.
– Ну вот, – говорю, – Андрюха… Видал, как ловко? И прятать мне тебя не придется. Сдам с рук на руки.
Доложил я командиру про деревню, а после про Соколка.
– Конь есть? – командир спрашивает.
– Нет, коня нету. Гармошка есть, – отвечает Соколок.
– Что ж нам с тобой делать, с безлошадным… Отряд-то ведь у нас конный. Опять же гармошка… – задумался командир. Потом позвал кого-то, посоветовался и говорит: – Вот что, парень, забирай свою гармошку да прихвати какой ни то топоришко. Будешь пока при кашеваре состоять, а там видно будет.
Вижу, не по ноздре Андрюшке такая должность. Последнее дело дрова рубить да кашевару подтаскивать. Выбирать, однако, не из чего, Отзывает он меня в сторону и говорит:
– Дядя Пантелей, ты мне дашь топор?
– Неужто, – спрашиваю, – у тебя дома не найдется?
– Дома как не найтись… Найдется. Да зазорно мне с ним через всю деревню тащиться. Смеяться ведь будут, «Андрейка Соколок под кашеваровым началом». Проскулят на все лады. А я, может, в первом же бою и коня, и оружье добуду. Ты, дядя Пантелей, уж пожалуйста, не говори никому про кашевара-то. А то на всю жизнь присохнет…
– Ладно, – говорю, – беги за гармошкой, а топор найдем. – Ну, дал я ему топор да, можно сказать, на топоре и женил. Колчака тут вскорости кончили, а действительную Соколку пришлось в саперах служить. Там он и вник… И домой с топором явился. Только уж не с моим. Черен такой легонький, фасонистый, с загогулинкой на конце. Лезвие аж горит – да звонкое, звонкое.
Мать у него к той поре умерла – один парень остался. Насчет земли не тревожится, насчет покоса – тоже.
– Куда мне, – говорит, – с землей? Лошаденки нет. Так перебедую. Один топор, один сапер – не пропадем.
Минеич, который сейчас за Соколками приглядывает, тогда в самой силе мужик был. Дока по плотницкой части. Одна беда – молчун несусветный. Баба попервости уходить от него собиралась из-за этого.
Вот Андрейко и вступил с этим Минеичем в компанию. Кому домишко, кому амбарушку срубят. Внедолге школу затеяли строить, а тут колхоз организовался – вовсе дела хватает. Так они с топора и кормились. Что и говорить – мастера отменные, да и дело свое любили.
Я нет-нет да и напомню Андрейке про кашевара. Смеется. Не бывает, говорит, дядя, худа без добра. А сам ноготком лезвие топора пробует. Женился он, дом себе сгрохал пятистенный, ребятишки пошли. Живет полной чашей. На народе ему уважение, на гулянье первый запевала, гармонист – самый компанейский мужик, одним словом. Шутки свои не забывал. Так и жил с задиринкой.
Помню, до колхоза это еще было… Завел себе Тихон Огнев – кулачок он у нас был – орловского рысака. Гоняет по деревне из конца в конец, гикает, ухает, кур, поросят топчет – любуйся, мол, православные, как я свою натуру распотешиваю. Андрейко с ним и заспорь:
– Твой, – говорит, – орловский ни за что так не побежит, как я побегу. Меня, – говорит, – в армии ни один конь не мог обогнать, а твой – тьфу!
Тихона заело, хоть и посмеивается. А Андрейко свое толмит:
– Ноги у него еще не так вставлены, чтоб меня обогнать…
Как раз воскресенье. Народу тут порядочно набралось. Неужто, думаю, и верно рысака обгонит? А Андрейко зудит:
– Двухколодешных обгонял, а этого…
Поспорили на четверть вина. Бежать от Тихонова дома до молоканки.
Оседлал Тихон рысака.
– Ну, – говорит, – захлебывай ветерку, Андрюха!..
Прочертили черту – стали перед ней.
Раз, два, три!.. – скомандовали.
Тихон как даст шпоры – конь змеем взвился, из милости земли копытом касается, а Андрейко повернулся да задом к молоканке трусит.
Тут народ и грохнул… Сообразили, почему он говорил: «Твой конь так не побежит, как я побегу». Поставил в дураки Тихона. Тот после от досады да от смеху людского и рысака куда-то сбыл. «Нечистых кровей», – говорит. Андрейка и тут ему подпустил:
– Точно, дядя Тихон! Разве это кровя? Чистокровные хвостом впереди бегают!
Мда-а… Так все было бы ладно… Жили люди, радовались, а тут бац – война! Пришел черед Соколку идти. Жена, известное дело, ревет, ребятишкам тоже мало веселого… Три сына у него осталось. Сам-то, хоть и сумно на душе, однако крепится:
– Брось, – говорит, – Аленушка, сырость разводить, а то я, до военкомата не доехавши, заржавею.
Отшучивал ее от слез Соколок.
Служил он опять в саперах. Года три писал – все в порядке было. За границей уж случилось… Рассказывал это его сослуживец, сапер же, из одного с ним взвода. После войны специально Андрееву семью разыскал… Стала молодежь у них во взводе роптать. Чертова, дескать, служба… Славы тебе никакой. Оружье за плечами таскаешь, а топор да пилу в руках. Воюешь холодным способом с чурбаками да со сваями… А фриц как засекет, где саперы копошатся, – всей нормой выдает. То артиллерией пугнет, то самолетов нашлет, а то и из пулемета обгавкает. Сверли, сапер, пупом землю!
Служба эта, что и говорить, опасная. Переправы-то под огнем другой раз наводили. Опять же мины… Сапер их ставит, сапер их снимает. Оплошает рука, да что там рука, палец – и найдут от сапера одну пуговку да хлястик. Но больше всего собственные погоны молодежи не нравились. Топор на них обозначен. Расскажи-ка спробуй какой кареглазой, что ты на «ура» ходил! Сапер, верно, что крот. Молчком да ощупью работает. Но случается и «ура». А какое этому подтверждение топор может дать? «Натеши-ка щепочек», – скажет кареглазая.
Андрей в ту пору командиром отделения у них был. Слушал он, слушал эти разговоры и не вытерпел.
– Раскукарекались, – говорит, – петушата, раскудахтались… А того не соображаете, что нет оружия сильнее да ловчее, чем топор в руках у человека. Он, топор, – наместник бога на земле.
Вон он куда им закинул! Так и сказал. Ну, тут и молодые и бывалые уши навострили. Как так – наместник бога?.. Наместником, дескать, папа римский числится, а ты – топор…
– Папа это так, – продолжает Андрей. – А настоящий наместник – топор, и больше никто!
Ну, зацепил за интересинку… Как, да что, да почему – пристают. И повел им Соколок рассказ из Ветхого завета:
– Первый человек, прародитель наш, Адамом звался. И была ему дадена жена – Ева. Поселил их бог в раю – живите на полном довольствии. Ну, Адам был мужик степенный – непьющий, некурящий и прочее, а Ева со змеем шашни завела. Попользовалась яблочком – сама оконфузилась и Адама в конфуз ввела. Бог видит такое дело. «А ну-ка, – говорит, – шагом марш из рая! Блюсти себя не умеете. Я на вас как на себя надеялся, а вы семейственность в раю разводить?! Ать-два отседова!» И вытурил их на землю.
– И вот представь, – обращается Андрей к одному молоденькому саперчику, – что ты тот Адам. Как бы ты жил на земле, не будь у тебя топора? Избенку какую-нибудь срубить надо? Загоны для скота загородить надо? Соху сделать надо, кнутовище вырубить надо? Еву пристращать надо? А чем? Без топора, дружок, человек как без рук… А с топором – бог! И все, что на земле построено – города, деревни, мосты, кресты, коробок спичек, сапожная колодка, приклад винтовки, – все это от топора свое начало ведет. Недаром ученые определяют, что первый инструмент был у человека – топор. Пушка – дура, на войне голосит, а топор, что птичий звон, никогда на земле не смолкает. Самый способный инструмент! Я им дерево свалю, и обделаю его, и гвоздь забью-вытащу, и колодец выкопать могу, и фашиста раздолбаю, и твоему сыну люльку смастерю, и даже, если командованье дозволит, Гитлеру гроб спроворю. Топор, можно сказать, сынок, человека в люди вывел. Вот и получается: бог землю сотворил, а топор – все остальное. А раз так, то и выходит, что он наместник богов…
Ну, посмеялись. А молодежь дальше любопытствует:
– Товарищ сержант, бог Адама с топором выгнал или Адам его сам изобрел?
– Надо думать, сам.
– А пилу?
– Пилу?.. Пилу, должно, Ева сконструировала…
– Неужели баба дойти могла?
– А вот женишься – узнаешь!
– Да! Тут пока до женитьбы доживешь, пять раз туда попадешь, откуда Адама вытурили.
– А ты не унывай! Случится – дак топор не забывай. С ним и в раю надежней… Я свой в случае чего обязательно захвачу. Посмотреть, как там мосты-дороги…
Все шутил…
А наутро наводила саперная рота мост. Семь осколков пронзили Соколка.
Пал он на белые бревна и залил их алой кровью. Подскочили к нему и, должно, первый раз тут не пошутил:
– Топорик-то мой сынам отвезете. Пусть помнят…
После войны вспомнили это Андреево завещание. Сапера откомандировали, сослуживца. Привез он топор, подарки семье от командования и рассказал, как сложил свою удалую головушку наш Соколок.
Ребята Андреевы уж большенькие стали. Петьке – пятнадцать, Володьке – двенадцать, а младшенькому, Егорке, седьмой пошел. Ребята славные росли. Учились неплохо… Мамке помогали. Петька с Володькой летом в колхозе работали. Волокуши там возить, картошку полоть-копать, веники овцам ломать – да мало ли что! Глядишь, за лето трудодней двести набежит. Подспорье матери.
Егорка – тот больше с коршунами все воевал. Оборужится рогаткой, сядет середь колхозных цыплят и стережет. Поглядеть – сам чисто цыпленок. Головка белая, пушистая, шея тонкая, носик востренький, голосенок писклявый.
Кто мимо идет, возьмет пошутит:
– Доглядывай, Алена, как бы твоего караульщика коршуны не унесли.
Алена-то птичницей работала.
Старших с годами к машинам потянуло. Петька еще до армии на трактор сел, Володька об том вздыхал. Егорка рогатку бросил, в школу пошел. Тоже при исполненьи обязанностей оказался. Только нет-нет да и к матери:
– Мама, я возьму тятин топор построгать?
У той слезы на глаза. Погладит она ему головушку, заглянет в личико, а оно у него все капельки отцовы подобрало. Только взгляд строгий какой-то, без озорства.
– Возьми, – говорит, – сынок. Только не оставь… – Сама опять на работу. Ласкать-то некогда было. А Егорушка за топор да к плотникам на стройку. Другие ребятишки сладкий луб с берез скоблят, а он все норовит потесать чего-нибудь. Обрезок какой-нибудь ошкуряет, досочку ровняет. Приметит его Минеич и начнет за ним наблюдать. Глаза поволгнут, не заметит, как на усы слезинка скатится. Напоминал ему Егорка Андрея. И стал Минеич его отличать. То отпилить его позовет, то по доске прочертит, потесать даст, то покажет, как с удара гвоздь забить, – полюбился ему Егорка.
Как-то обчертил он выем в бревне.
– Ну-ка, – говорит, – Егорушка, выбери это топориком.
А сам куда-то отлучился. Егорка сперва с одного боку за черту ушел, а потом и с другого стал так же направлять. Когда расчухал, чего натворил, носишко-то и свесил. Минеич приходит, видит, мальчонка вне себя. В чем дело? Разглядел когда – хлоп Егорку по плечу.
– Не горюй, – говорит, – когда б не клин да не мох, дак и плотник бы сдох! Дело поправимое.
И тут же показал, как исправить. Одним словом, исподволь стал приучать парнишку к отцову ремеслу. А тот и рад. Так и пропадал в плотницкой бригаде.
Когда кончил семилетку, по-настоящему стал там работать. Минеич на что молчун, на что скупой на слова был, а тут разговорился:
– Ты, слышишь, Егорка, брось силой баловать… В нашем деле взмах да глаз нужен. Глаз соврет – не в ту чатинку попадешь, взмах соврет – то перерубишь, то недорубишь. Вот ты и лови… Замечай, когда у тебя взмах и точный, и в силу. Тут и добывай привычку. И к дереву привыкай, приглядывайся. Оно, сказать, хоть и бревно, а тоже свой секрет имеет. Есть прямослойное, есть свилеватое, а то и с заворотом. Станешь сколок делать, не доглядишь и напортишь. Где сук попал – тут и разговор другой… Тут добавь удара. На вершину идет полсилы, на комель – полторы… Вот оно и равно, вот оно и славно!
А то тешет-тешет, остановится вдруг и спросит:
– Чуешь, Егорка, какой дух от дерева растворяется?
Нюхает Егорка.
– Хороший! – говорит.
– То-то – хороший! Славный дух! Природой пахнет. Ну-ка, закрой глаза.
Егорка защурится, а Минеич насбирает щепочек и заставляет его носом угадывать, какого дерева щепка. Сосна там, или береза, или осина…
– Ох и люблю же я, Егорка, этот дух! Такой он тревожный да здоровый. Слыхал я, что плотники да столяры дольше всех на этом свете живут. Потому – деревянным духом дышут. Душа, значит, размягчается и сосуды всякие. Жить задорит он, этот дух!
Ну, и всякое. Про любимое дело любой молчун столько наговорит – в рукавицах не унесешь. Идут деревней с работы – Минеич Егорке дома показывает, которые вместе с Андреем рубили.
– Видишь, Егорушка. Стоят! Нет Андрея, а они стоят… В них сила его живет, мастерство его. Нет Соколка, а сила его на тепло да на радость людям жить оставлена. Да на добрую память еще. Мастерству, Егорушка, смерти нет. Два глаза, две руки да десять пальцев на них человеку дадено, а если к этому еще и мастерство – другой вечно у людей на памяти останется. Я вот, видно, на спокой скоро пойду, а охота напоследок для памяти себе чего-нибудь потесать. Клуб вам, молодым, что ли… Вы дольше помнить будете. Да и дети ваши… Ты, Егорка, затрави-ко холостяжник! Теребите правление, председателя – давай, мол, клуб. Мне уж по годам неудобно, да и не мастак я разговаривать. Самое ваше дело…
И провернули, слушай-ко! Председатель сперва было ни в какую. А молодежь чего удумала… Соберутся напротив председателева дома, да до вторых кочетов – гулянку. Гармошек натащут, пляс учинят, песни опять же – разлюлюшеньки-люлю! Тот было им выговаривать, а они в голос:
– Давайте клуб! Иначе до утра плясать будем. Посменно.
Председателю они, верно, не так уж досаждали. Намается за день – до подушки бы добраться. Да и спать здоров. А у супруги неврозы врачи подозревать стали. Не знаю через чего, а только клуб построили. Егорка с Минеичем отличались. До темного темна на лесах, бывало, торчат.
Так-то вот, года через два получился из Егорки плотник. На отличку по колхозному обиходу.
Старший-то, Петька, в ту пору как раз отслужился. Домой пришел. Перво-наперво женился. Зазнобушка его тут ждала. Потом строиться задумал. А топор в руках держал, когда кол тесал да отцу табак мельчил. Егорке повиниться зазорным ему показалось. Пошел к Минеичу.
А тот ему:
– Чего я у тебя оставил? В плотницкой семье – чужой топор ни к чему.
Он, видишь, недовольный был, что старшие Соколки отцово ремесло обошли. Ну так и ответил. Петька к Егорке. А тот без слова:
– Ну-к, что, братка… Сегодня после работы и начнем.
Рубят. У Егорки горит дело! Петька глазом косит, пыхтит, тоже присноравливается. Смелеть начал. Один день даже самосильно простенок собирать принялся. Егорка пришел, поглядел и говорит:
– Напортил, братка…
Заскреб тот затылок.
А Егорка ему:
– Ничего, братка! Когда бы не клин да не мох, дак и плотник бы сдох. Поправим.
Петька глядит да дивится: «Вот тебе и меньшенький».
И заразился. Присох к топору… Тоже плотничать пошел. А тут Володька из флоту подоспел. Исполнил присягу. Морскими лентами с месяц девкам мозги позаплетал и тоже к братьям подался. Где двое – там и третий.
Которые ребята смотрят: «А мы чем хуже!» И тоже к ним. Так она и образовалась, Соколкова бригада. За бригадира – Минеич. Сам не работает, правда, сил нет, а догляд нужен. Да и учить ребят кому как не ему.
Другие колхозы телятник там, свинарник ли построить, на стороне плотников ищут, «дикими бригадами» не гнушаются, ну и бедствуют. Рубли длиной с топорище выкладывают, а построечку получают тяп-ляп. Глаза замазать… А у нас – Соколки. Соколки! Заметьте!
Вот я и говорю… Дети красят человека не меньше, чем его славные дела. За что помнит народ Андрея Соколка? За шутку веселую, за ремесло доброе, за службу верную, за смерть праведную, а пуще того, что у всех на глазах отцову славу несут дети его – Соколки.
Как ударят, как ударят в топоры – перестуки-стуки-стуки!
Щепа брызжет, дерево поет – перезвяки-звяки-звяки!
Весело в деревне: шумит Соколкова бригада!
У Егорки в руках искрит, гудит, звенит, зайчиками играет отцов топор – боевое благословенье Андрея Соколка. «Пушка-дура, на войне голосит, а топор, что птичий щебеток, – никогда на земле не смолкает», – говорит он.
Крепче держи его, Егорушка, и, может, не придется тебе менять топорище на приклад.
1958 г.








