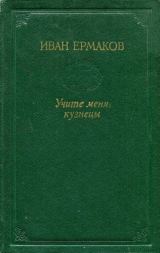
Текст книги "Учите меня, кузнецы (сказы)"
Автор книги: И. Ермаков
Жанры:
Сказки
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 25 страниц)
И порешили близнецы делиться.
Скотину поделили, инвентарь, землю, постройки, урожай, домашнюю утварь, птицу, кошек, собак – все, кажись бы. Ан нет! Стояла у них в кладовке преогромнейшая, здоровенная кадка с квасом. Решили и квас поделить. Ковш Спиридону, ковш Свиридону… Ковш бездетному, ковш детному… Когда дочерпались до гущи – переглянулись братушки. Лежит на дне утоплый борзенький щенок.
– Гы! – сказал детный Свиридон.
– Ге! – сказал бездетный Спиридон.
И загрохотали, засмеялись они, может, до слез, а может, до болей в пупках…»
Голого борзенького щеночка на соседнюю ограду подбросили. Глухонемому Евдокиму Горохову. Савостьке он каким-то прапрапрадедом доводится. С той поры и повадились близнецы озоровать. Сдохнет курица – через тын-забор ее к глухонемому. Околеет поросенок – туда же. Гусенок – к нему же.
А что же глухонемой Савостькин пращур?
А вот почитаем, почитаем у Стратоныча.
«Евдоким Горохов, глухонемой, мелконький мужичонко был. В ссору с близнецами не ввязывался. Подберет дохлого подброшенного курчонка, закопает его на задах, и вся недолга. Сам же молчун меж тем готовил близнецам премудрую каверзу. Одну весну, как только оттаяла земля, занялся он копать на огородных межах хрен. Ведер шесть корневищ заготовил. Мелкомелко, длиной в наперсточек, порубил их и одной ночью рассеял но бадрызловскому огороду. Близнецы этот хрен запахали, заборонили. Ну, а овощ известная… Дай только за землю уцепиться, а там и в корешки и в вершки пойдет. И не вытравить, не выполоть потом эту зловредную специю. С тех пор, с прошлого, сказать, века, в изобилии зарастает бадрызловский родовой огород непроходимым свирепым хреном. Люди по два раза картошку пропалывают – Бадрызловы по три да но четыре. В потомстве отомстил глухонемой Евдоким озорным близнецам. На века смех и горе заделал. И неистребима с тех пор неприязнь между бадрызловской и гороховской фамилиями, как неистребим хрен на Захаркином родовом огороде».
Понятно поэтому, с какой охотой и готовностью принял Захарка прорабское указание: спилить, искорчевать Савостьяна Горохова тополь. Хоть маленькая, да пакость. Хоть дереву, да отместка. Парнишка, жаль, помешал, ну да ничего. Утречком. На коровьем реву.
До позднего темного вечера просидел голодный Савостька на тополе. Продрог – плечишки, как у плясовитого цыганенка, сотрясаются, зубы «Камаринского» отстукивают, а все ждет, когда погаснет свет в Захаркином окне. Погас – он еще с полчаса просидел, чутко подслушивая реденькие скрипы калиток.
Мать спала. На столе под полотенцем Савостька нашел горбушку хлеба и полкринки молока. Наскоро, жадно поел. «Что делать, как отвести беду?» – обжигал и студил мятежную ребячью головку недоуменный, немилостивый вопрос. «Разбудить мать?.. Рассказать ей?.. Заругается, и все. Савостька знает. Неужели же нельзя на другом месте клуб? Грунт им понравился… Дед! Дед! Что же придумать, дед?!»
Далеки стены Кенигсберга. Сыра и нема земля. И безгласны цветы на могилах…
«Двустволку!» – выпрямила Савостьку отчаянная, пугающая мысль. Отчим давал ему выстрелить… Знает, как переламывается, как патроны… как взводится… Чуть дыша, он прокрался к стене, снял ружье, вынул из патронташа две увесистые гильзы и на цыпочках отступил к печке. Нашарил на теплой печке дырявые свои валенки, надел телогрейку, неслышно выбрался в темноту.
Спит деревенька под звездами. Гладит мальчика похолодевшие стволы.
«А как я ее на тополь подниму? Не залезть ведь…»
Вернулся во двор. Отвязал и засунул в карман телогрейки бельевой шнур. Возле тополя присел. Расковырял ржавым гвоздем дробовой пыж, ссыпал в ладоньку дробь, разметнул ее. Второй патрон остался заряженным.
На зоревом журавлином рассвете скрипнула бадрызловская калитка и заспанный Захарка с бензопилой на плече направился к тополю.
Савостьку затрясло.
– Дядя Захар! Не подходи! Я стрелять буду!
Захарка обопнулся, остановился, долго выискивая слившуюся с серой корой тополя Савостькину фигурку.
«Из чего ему стрелять? – прикинул он в следующую минуту. – Кто ему ружье доверит? Стращает еще! От настырная порода!»
– Слазь! – зашагал смело к дереву. – Слазь, не то вместе с тополем загудишь!..
– Не подходи!!! – зарыдал, заколотился на суках Савостька.
Захарка не остановился.
Деревеньку разбудил выстрел.
Сбежался народ.
Осмелевший, но все еще бледный Захарка, потрясая бензопилой, указывал на Савостьку:
– Одиннадцатый год, а он – пожалуйста Под уголовный кодекс лезет. Убийством занимается! Ей-бо, мимо уха картечь мявкнула…
– Обманываешь, дядя Захар! – тихоньким прерывающимся голоском отозвался с тополя Савостька. – Я порохом стрелял. Если бы ты не остановился – тогда…
– Слыхали! – завертелся Захарка. – Видали, какой жиган растет? Что я, по своему личному желань-сердцу твой тополь пилить собрался? Прораб велел. Архитектором предусмотрено…
– А я и прораба… И архитектора, – снова заплакал Савостька.
Отделилась от толпы горькая вдова Маремьяновна. Раскинув руки, неверными шагами двинулась к тополю.
– Детынька ты наша храбрая, – заголосила старая. – Никто не трог его! – развернулась она к народу. – Никто! Он дедушкину память обороняет!
Рядом с Маремьяновной встала Савостькина учительница. Шагнул к ним Илья Летописец.
И зароптала, загневалась деревенька.
Вырвали вдовы у Захарки бензопилу, сорвали с головы малиновый берет, били Захарку вдовы.
– Вы же видите, видите? – оборонялся дюжий Захарка. – Колышки видите?! Клуб на этом месте будет!
– Не будет здесь клуба! – властно выкрикнула Маремьяновна. – Другой пяди земли не нашли?!
Вытирал рукавом телогрейки похолодевшие слезинки Савостька.
«Ребячье сердце в неправой обиде что птичий подранок… – впишет потом в свою тетрадку Илья Стратоныч. – Отчаянным становится оно, отважным, неустрашимым. Отвага та чистая, безгрешная, неподкупная… Вспыхнет ею сердечко и так воссияет враз, так озарит окрест, что много других, все изживших, изведавших, до нежданной и тайной слезы обожгет…»
– Слазь, Савосюшка, слазь, голубок! – звала деревенька солдатского внука.
Приняли двустволку, бережно подхватили мальчонку, и поплыл он, поплыл, не коснувшись земли, на горячих людских руках. От вдовы ко вдове, от вечной невесты к невесте, под седые бороды, на хриплые груди солдатских отцов, на жесткие протезы сельчан-инвалидов, в крепкие порывистые объятия учительницы.
«Народ мой, – запишет потом в тетрадку Стратоныч, – не исцвела твоя память, не изболела боль, не исплаканы слезы о грозных сибирских ротах. Слышишь, слышишь братских могил голоса: «Ты прости, отчий дом, отчий край, отчие звезды и солнышко… Ты прости, мать-Сибирь, что не кажем лица. Не летают от нас самолеты и не ходят от нас поезда».
Удивительное дело, но никто за последнюю неделю не дернул Савостьку за чубчик, не попросил «горошку». Ребятня стайкою вокруг него обитается. Вот и сейчас. Сидит Савостька под тополем, строгает тросточку, а с ним рядом: Колька Третьяков, Васька Петелин, Женька Суковых – да много.
– Савось! – подтолкнул локтем его Женька.
– Чего? – отозвался Горошек.
– У тебя дед му-у-у-удрый был…
– Почему – мудрый?
– Тополь тебе оставил…
– А мой ничего не оставил, – вздохнул Колька Третьяков. – Не знал, что на мину наступит.
Замолчали ребятишки. Через минуту опять Женька.
– Савось! Я посажу своему деду тополек рядом с твоим?
Савостька перестал строгать. Просияли веснушки.
– Это ты мудрый! Конечно, посадим! Ведь они в одной роте были.
– А я, Савось? – поддернул штанишки Колька Третьяков.
– И ты… Все садите! Пусть у нас тут будет дедушкина роща.
Разбежалась ватажка по дворам за лопатами. Полетели с Савостьянова тополя черенки с тугими клейкими почками.
На шум-гам да галдеж подвернул сюда вездесущий Стратоныч.
– Это что за воскресник, ребятушки?
– Мы… дедушкину рощу! – доложил-выпалил ему чумазый счастливый Савостька.
– Тогда вот что… – облизнул белый ус Стратоныч. – Тогда вот как… порядочком надо. По шнуру. Пусть, как в строю, стоят ваши дедушки.
И опять забелели вокруг Савостьянова тополя колышки. А к вечеру на место их ровненькими шеренгами выстроились тополиные черенки.
Наутро Савостьку подняла Маремьяновна:
– Срежь мне пять черенков, Савосюшка.
Ладят Колька, да Васька, да Женька помочь Маремьяновне ямки вспушить.
– Я сама, я сама, голубятки… Последняя моя баюшка.
Набежали с подмогой к Стратонычу – тоже всех отстранил.
– Сам, сам осилю.
Назвались Аграфене Кондратьевне, Савостькиной учительнице, и эта «сама».
– Дедушка Илья, – зашептал Савостька Стратонычу, – кому она сажает?
Стратоныч тоже вполголоса:
– Ее тогда Груней звали… Связала она одному пареньку перчатки… Ему и сажает. До самого Берлина чуток только не дошел.
Третий день режет черенки Савостька Горошек. Дедам, мужьям, братьям, отцам, сынам, женихам зеленую память творит деревенька. Пришел и Захарка. Помялся – сообщает Стратонычу:
– У меня ведь тоже дед был. Тоже под Великими Луками…
– Обращайся к Савостьке, – указал костыликом Летописец. – Он комендант…
– Обидел я его, – вздохнул Захарка.
– У них сердечки чуткие, праведные, – кивнул опять на ребят Летописец.
Выслушали ребятишки Захарку – порешили солдатские внуки:
– Дед не виноват. Да! Дед не виноват.
…Стоит меж лесов деревенька, зеленеет в ней роща героев. Сегодня стар и млад огораживает ее штакетником. Одной Маремьяновны нету. Зато голос слышен. Она привязала и шлепает по лукавым губам свою единственную животину – козу Машку:
– На святынь? На святынь покусилась, фашиска!
Илья Стратоныч развернул тетрадку и аккуратной стопочкой складывает в нее трешки, пятерки, червонцы. Это деньги на камень сносит народ. Скоро поедет Савостька со Стратонычем на Урал. Подойдут к горам, поклонятся низко и скажут:
«Урал-батюшка! Ровная у нас земля. Далеко окрест нет на ней ни галечки, ни плитнячка. Дай нам, Урал, камня. Камня белого, крепкого, вечного».
Даст Урал камня, и пойдут Савостька со Стратонычем к Старому Мастеру: «Мастер, Мастер! Дал нам Урал камня. Камня белого, крепкого, вечного. Выбей, высеки, Мастер, на нем имена:
Савостьян Горохов – под Кенигсбергом.
Маремьяновнин Степан – под Варшавой.
Егорушка – в Сталинграде.
Кирилл – на безымянной высоте.
Алеша и Вася – в танке сгорели.
Захаркин дед – под Великими Луками.
Кому Аграфена Кондратьевна, Груня, перчатки связала – под Берлином.
Всех обозначь на вечном камне, Мастер. Никого не забудь».
Привезут Савостька со Стратонычем камень в родную деревню, в дедушкину рощу, и на вечную перекличку с людскими сердцами и памятью встанет грозная сибирская рота.
…Стоит меж лесов деревенька.
Спит деревенька под звездами.
На петушиной зорьке приходит к Савостькиному изголовью кенигсбергский дед. Огнем, дымом и порохом от него пахнет. Видит Савостька каску, может потрогать автомат, вдыхает запах последней грозы от мокрой плащ-палатки, но только лица… не кажет дед лица.
И бормочет в раскиданной дреме солдатский внук:
«Дедо! Была у тебя борода? Стратоныч в летопись безбородым тебя записал…»
1966 г.
О ЧЕМ ШЕПТАЛ ОЛЕНЕНОК
Детинка с сединкой везде пригодится… В Крыму гостил – яблони окапывал, за Байкалом – внучонка доглядывал, а в Заполярье… впрочем, здесь сказ не на час.
Заболела в школе-интернате ночная няня. А на Севере с кадрами дело известное. Недостает народу. Пришлось учителям ночами дежурить. Не оставишь же ребятишек безнадзорными. Один вечер, гляжу, и мой собирается – сам директор школы. Ну, гость, гость я у него, а надо же и гостю совесть чувствовать.
– Ложись-ка, – говорю, – Владимир, да спи. И так ни дня, ни ночи. И учителей своих больше не тревожь. Пока живу – подежурю.
– Ладно ли будет?.. – замялся сын. – Женская должность… Да и тебе докука. Неудобно.
– Все ладно, все удобно, – твержу. – На рогожке сидючи, о соболях не рассуждают.
Стал он меня инструктировать. Ребятишки, поясняет, в интернате разноплеменные. В основном ненцы, а там дальше и ханты есть, и манси, и селькупы, и коми, и татарчата. Есть и первогодки. Только-только из тундры. За этими особо доглядывать наказал.
И вот в первый же вечер обзавелся я на старости лет новым прозвищем. Набегает на меня один оголец и при всей ребячьей массе спрашивает:
– Дедушка Нянь! А вас как зовут?
– Алексей, – говорю, – Елисеевич.
Дудки брат! Не прижился «Алексей Елисеевич». Глаза свои черные узкие щурят на меня, бесенята, и со всех сторон зудят:
– Дедушка Нянь, который час?
– Дедушка Нянь, в окошко глянь!
Постарше возрастом на розыгрыш меня берут, а нулевички, которые по первому году русский язык изучают, – эти от чистосердечности:
– Дедуска Нянь, ты зубы цистись?
Ну, я смирился. Пусть Нянь буду. Лишь бы порядок велся.
А порядок какой?.. Вспетушатся – разнять, пристрожить. Вовремя спать уложить. В умывальники воды налить. А в самое ночное время и сторож я, и доктор, и пожарник… ну и побудить еще некоторых обязан, дабы не «нарыбачили».
Заприметился мне в первый же вечер ненецкий парнишка один из нулевого класса. Петя Поронгуй звать. В умывальнике холодной водой на себя плескал, визжал при этом. Полведра воды извел, а глядельце свое на сон грядущий так и не удостоил сполоснуть. Черноголовый, черноглазый, зубки, как у песца, востренькие, беленькие, нос в пуговку сплюснутый – словом, мальчонка весь в свою нацию. Я бы, может, с первого вечера его и не заприметил, если бы той же ночью разговор у нас с ним не состоялся. Обходил я потихоньку спальни, и заскрипи вдруг дверь. Он как подхватится, как встрепещется! Глаза диковатые, удивленные и не на меня смотрят, а мимо да сквозь – вдаль куда-то.
– Чего ты соскочил? – спрашиваю.
– Ко мне… ко мне Тибу сейчас приходил. – На дверь все смотрит.
– Это кто – Тибу? Сродственник?
– Олененок мой.
Вытер будто бы на школьном крылечке четыре скорых своих копытца и, звонко поцокивая, похрустывая ими, взобрался на второй этаж. Одну дверь понюхал, другую понюхал – в третью вошел. Одного парнишку понюхал, другого понюхал – третьим Петя оказался. И зашептал, зашептал олененок горячими мягкими губами в Петино ухо. О чем шептал – не помнится, куда сбежал – неведомо.
Когда Петя вскочил, он уже в дверях мелькнул. Только белый короткий хвостик показал.
Потрогал я у парнишки лоб – нормальный лоб. Приласкал его, успокаиваю:
– Здесь ведь не чум, а школа… А оленей в школу не пускают. Ни-ни! И разве догадается олень вытереть ноги, снег с копытец сбить? И разве умеют олени ходить по лестницам? Подумай сам! Сон это тебе приснился, детка. Греза.
– Чесны октябрятское, приходил! – заклинается мой нулевик. – Вот сюда потихоньку разговаривал, – на ухо себе указывает. – Целовал немножко… Силюнявый…
– Ну ладно, – твержу ему. – Ладно. Верю. Во сне каких только чудес не происходит! Скучаешь, видно, вот он и приходит, оленько твой. А ничего с ним не случилось. Живой да веселый, скачет да пляшет.
Заулыбался. Шепотком, сколько по-русски владеет, принялся мне про своего любимца рассказывать.
Мать у олененка, оказывается, волки разорвали. Стал он «авкой». Так ненцы оленьих сироток называют. Их запускают погреться в чумы, ласкают, надевают на шею звонкие веселые колокольчики. В первый же день Петя скормил сиротке целую банку сгущенного молока. Частично, конечно, сам съел. Кое-что по щекам да по носу размазалось. Пустяк совсем. Олененок за два зализа всю эту сладость с него языком смыл. Петя даже пободался с сироткой, чтоб не очень он по матери тосковал. А теперь вот сам Петя тоскует. К 8 Марта воспитательница Нина Александровна письма мамам писала – Петя наказал своей: «Поцелуй моего олененка, моего Тибу. Семь раз поцелуй».
Шептался, шептался – уснул наконец мой оленевод.
А на другой вечер невеселый, белых зубок не кажет. Ходил, ходил неприкаянный, потом достал из своей тумбочки ком пластилину, лепить принялся. Олененка, говорит, леплю. Тибу своего. Вокруг тумбочки все эти селькупы, ханты, манси, ненцы, татарчата сгрудились. Наблюдают. Советы дают умные. Голова, туловище, хвостик куда с добром из-под Петькиных пальчиков формируются, а с ногами полная неустойка. Вылепит тоненькие, какие бы и полагались олененку, – они его сдержать не могут. Давит их туловищем. Крендельком подгибаются, в стороны их разводит. Олешек, бедный, то набок свалится, то, как богомолец, на колени опустится, а с третьей попытки и вовсе на хвост сел. Наблюдатели до живой слезы ухохатываются. Где же это было видно в тундре, чтобы олень на хвосте сидел! Сделает Петрушка потолще ноги – опять неладно. Со слоном олененка начнут сравнивать. Или со школьным бухгалтером Захаром Захаровичем, который одышкой страдает. Востроглазая публика! Терпел, терпел мастер разные реплики – рассердился. Шлеп свое искусство по носу, шлеп по хвосту – кикимора получилась. Спрятал пластилин, спать улегся.
На другой день заступаю на дежурство – опять лепит. И опять ноги.
Глядел я, глядел, говорю:
– Каркасик, Петя, надо изготовить. Из проволоки. Тогда у тебя и ноги и роги в пропорцию получатся.
– У оленят рогов нет, – заулыбался он над моей обмолвкой.
– А в каком ты его образе хотел вылепить? – спрашиваю.
– Что – образе? – не понимает.
– Ну… на бегу, на скаку, в игре, в драке?
– В драке! – глазенками сверкнул.
– А как оленята дерутся? – испытываю.
– Передними копытцами дерутся.
– Хорошо! – говорю. – Будет тебе завтра каркасик.
Через неделю подвожу к Петькиной тумбочке сына Владимира.
– Подазывай своего драчуна! – мастеру говорю. Покраснел, застыдился, но достает.
– Вот… Тибу мой…
Олененок предстал как природный. На задних копытцах напружинился, вздыбился в боевой позиции. Белый короткий хвостик вот-вот оживет, задрожит… Ноздри раздутые, лихие. Не то чтобы злые или свирепые, а так… ребячьи. Простодушные. На игру склонные. Головка на спину запрокинута, а ушки начеку. На груди бубенчик. Передние копытца до того игровито в подвысь взнесены, что, кажись, стукнет он ими сейчас парнишке в кухлянку, и затеется та развеселая кутерьма, по которой долго тоскуют в школах нулевички ребята, а в тундровых чумах их дружки – авки-оленята.
– Ты посмотри, как он душу живую схватил… подстерег! – восхитился Владимир. – Это же птица на взлете!
– Это Тибу, – Петрушка его поправляет.
– Тибу?.. Тибу.. Как же это на русский переводится? – обернулся Владимир к старшеклассникам.
– Попрошайка, – отвечают.
По словарю проверили, точно – Попрошайка.
– За что же ты такого красавца Попрошайкой назвал? – спрашивает Владимир у Петьки.
Оказывается, есть за что. Чистенький, сытый, красивый… Все его в чуме балуют, лакомят, ласкают. Ну и пристрастился. Перед Петиной мамой храпит, танцует, слюну вожжой пускает: «Дай моему языку сладкий кусочек!» Сестренку Катю бодает: «Добром отдай лакомство!» У Пети по целому часу обнюхивает рукавички: «Не запрятана ли там печенюшка? Не припасен ли там кусочек сахару?» И только к папе не подходит. Подходил, а потом перестал. Папа заложил Попрошайке за нижнюю губу щепотку табаку. Думает, если самому вкусно, то и олененку. Не-е-ет! «Сам соси табак, папа Поронгуй!»
Недели через две засадили Петькиного олененка в фанерный ящик, провазелиненной ватой со всех сторон обложили, и полетел его Попрошайка-Тибу на выставку всяких ребячьих поделок. Мастер рад. Просит меня собачий каркасик ему изготовить. Как вольная минутка – за пластилин. Лепит и тут же песни по ходу сочиняет. Когда собаку выделывал, про куропаточью охоту пел:
Э-эх, возьму я капроновые петельки,
Э-эх, уйду я далеко в тальники.
Э-эх, зимой снежной птице куропатке
Не добыть, не поймать жучка-червячка,
Не достать из-под снега сладкой ягоды,
Только почки тальника она ест…
Час сидит – час будет петь, полтора – и на полтора песен хватит. Тут и как он петельки настораживал, расскажется, и как, чтобы сова куропаток не расклевала, он капкан на вершинке хорея, в снег воткнутого, установит, поведается.
Э-эх, ты хитра, сова, ты мудра, сова,
Э-эх, а Петя Поронгуй хитрей тебя:
Выну из капкана коченелую
И отдам собаке: «Ешь, Дунайко!..»
«Дунайко… Дунайко… Откуда же я знаю эту собачью кличку? – сам себе думаю. Где-то рядышком с памятью из дальней, дальней были наплывает воспоминание и тут же, не доходя до сознания, истаивает: «Дунайко… Дунайко…»
– Это почему же, Петя, у ненецкой собаки русская кличка?
– Дедушка так ее назвал. У дедушки все собаки Дунайки. Он слепой был…
«Индейко с Дунайкой!» – выкрикнулся в памяти из дальней, дальней были голос командира отряда Особого назначения Ивана Глазкова.
Ну, вспоминай! Вспоминай же, старая голова!
Да… Незадолго перед первой мировой войной это случилось. Не пурга, не ураган ворвались тогда в тундру – пронеслась по оленьим угодьям страшная зараза – «сибирка».
Начисто скосила «сибирка» и небольшое стадо Осипа Поронгуя. Бежал с семьей от падежной поляны. Ладно, что у каждого ненца, кроме оленьего тынзяна, еще две ухватки в руках. Рыбачья с охотничьей. Пошел Осип к купцу Туркову. Купец муки дал, чаю, соли – не перемрет семья голодной смертью. А еще купец ружье дал, пороху, пуль, отвез Осипа в таежные заимки к охотникам-соболятникам, наказал им:
– Обучайте. Он мигом…
– Заблудится, поди-ко, Василий Игнатич. Несвычен в тайге…
– Не заблудится! Этот народ левой ноздрей дорогу находит. На всякий случай отдайте ему Дунайку. Дунай выведет.
Чей соболь в тайге?
Да ничей. Тайги – государыни-матушки вольный сын. Жирует он в ней, гордый зверек, резвится. В гибком пружинистом попрыске играет под драгоценной шкуркой дикая прыть жилок и мускулов. Белее белого снега алмазки зубов, под кедровый орешек глаза. Но горяча, неотступна собаки Дунайки погоня, ровно бритва, остер глаз безоленного ненца Осипа Поронгуя.
Чей соболь, жемчужинка черная, под охотничьи лыжи пал?
Купца Туркова соболь.
Не поил, не кормил зверья Василий Игнатьевич. Не тропил снега, не выслеживал. Хрящеватым носом своим только и знал что обнюхивал шкурки, да тощую бороду в мягкую ласку подшерстка любил окунать. Мех о мех тер… Не взовьется ли искорка… Дымно щурил глаза… В дюжины шкурки связывал. При этом не забывал повздыхать, посокрушаться.
– Чезнет зверь! А когда-то этого самого соболя дрекольем били, коромыслами.
Потом «прощал» Василий Игнатьевич Осипу долги. Муку прощал, соль прощал, сахар прощал. Ружье, порох, пули да чай – не прощал.
– Должен ты мне! – орлиным клювом впивался в неведомые Осипу буки да веди желтый костлявый купецкий палец.
И так из года в год:
– Должен!
– Должен!
Чей соболь в тайге?
Купца Туркова соболь.
Чей песец, горностай в тундре?
Купца Туркова песец, горностай.
А инородец чей?
Купца Туркова инородец. Василия Игнатьевича.
«Сибирка» олешек похитила у Осипа, а Василий Игнатьевич само имя его из обихода изъял.
– Я… я… я… – начнет хмельной заикаться перед собутыльничками, гильдейцами-купчиками. – Я Индейкой его нарек. У мериканцев индейцы охотники, а у меня И… Индейко, хе-хех! Шапку с перьями ему закажу. Рожу суриком выкрашу. Пу… Пу… пусть ходит на манер Монтигомы Ястребиного Когтя.
Поближе к весне с рек, из тайги, из тундры снаряжал оленьи обозы Василий Игнатьевич. Рыбу, меха грузил. Бесценное чадо свое, Митьку Слюнтяя, на торги вывозил, к делу купеческому приучал. В каюры Индейку брал. Пусть поглядят на ярмарочных стрельбищах да игрищах, каков его Монтигомо Ястребиный Коготь. Таких-то стрелков да гонщиков поискать по Обдорью. Не зря на него местное купечество с приезжими об заклад бьется. Азартный в гонках. Чуть ли не за хвосты оленей кусать готов.
На одной ярмарке познакомился Индейко с веселым человеком – ссыльным цыганом Миколкой-конокрадом. Мороз, а он без шапки. Нос горбатый, а ноздри на волю смотрят. И какие ноздри! Пещеры темные. Дал щелчка себе по носу – ровно шаманский бубен сыграл.
Обессилел Индейко со смеху. А цыган – черная борода в гости его к себе зазывает:
– Чаю нагреем. Винка попьем!
Угостил Индейку Миколка-цыган чарочкой и повел разговор: нельзя ли ему на турковских упряжках в родной табор побег совершить?
– Мне бы только из снегов выбраться, а там я коня раздобуду. Пойдешь проводником – на самой рысковой цыганке женю!
Нет, Индейко не пойдет проводником. Индейко не тронет чужих оленей. Спасибо, Миколка-цыган, за чарочку.
– Ну и век бы тебе воли не видать! Как ты есть проклятьем заклейменный, так им и останешься! А я уйду! Не снегами, дак водой, не водой – к гусиным крыльям привяжусь! Где моя гармоза?
Ой, играла, ой, пела Миколкина гармошка! Не знал, не ведал до этого часа Индейко, как тяжело вольному горностайке в ловушке, как отчаянно рвутся из тонких силков куропаткины крылышки. Никогда не болело, не объявлялось Индейкино сердце, а сейчас… Пошто тесно в груди ему стало? Пошто плакать Индейке охота? Пошто лебедем белым в бездонное звонкое небо взлететь и грудь расшибить о звезду зовет да велит ему стоголосая шаманка? Вот и верный Дунайко, что по целым неделям без бреху живет, что на зримого близкого зверя лишь голос дает, – вот и верный Дунайко седую суровую морду поднял и запел под гармонь, и запел, и запел по-собачьи, по-волчьи, по-птичьи, по-заячьи.
И не смыслит Индейко, чего говорит:
– Ах, Миколка-цыган! Ты прбдай! Мне гармошку продай… Индейко научится.
Скинул цыган ремень с плеча:
– Х-хе… Продай!.. А что дашь? На кажин лад по вошке?
– Соболя, Миколка-цыган, дам!
– Соболя? Сейчас?!
– Сейчас нет, Миколка. Другую ярмарку хожу – принесу.
– Ло-о-овок! До другой ярмарки тебя семь ведьмедей в тайге задерут, а Миколка гармошкой рыскуй. Да и врешь про соболя?..
– Нет, нет, Миколка-цыган! Индейко никогда не прет.
– Ну привози. Тогда и гармошку получишь. Вот дива будет! Ни один ведь еще самоед на веках не играл, В Питенбурх поедешь. С Обдорским маршем… «Тпру-у, тпру-у, Боже, храни царя и… оленя»… Хе-хех…
В тот вечер затвердил Индейко на ладах запевную строчку: «Славно-е мо-ре, свя-щен-ный Бай-кал…»
Как на нездешнее чудо смотрел он на свои грязные пальцы.
– Вези. Не боись! – жарко блестел зубами Миколка-цыган. – А про гармошку, кто потом спросит, сказывай, что я ее тебе подарил. А что? Очень просто! По-братански…
И опять рвал мехи и сыпал кудрями Миколка-конокрад.
Ты мой брат, я твой брат —
Делай по-братански.
У тебя, у меня
Волосы цыгански.
«Ах, Миколка, Миколка! Какой ты веселый шаман!..»
Остановится соболятник Индейко где-нибудь под тихим таежным кедром, и зазвенят, зазвенят ему стылые иглы: «Сла-а-а-авно-о-ое мо-о-о-оре-е, свя-яще-е-енный…»
Худой слух, однако, по тайге да по тундре ходит. Прогнали царя… Кто позовет Индейку в «Питенбурх»? Кого повеселит он «Обдорским маршем»? И Василий Игнатич не едет… Трижды цвела тайга, трижды медведь просыпался… Почему не зовешь ты, Василий Игнатич, своего Ястребиного Когтя на ярмарку?
Позвал Митька Слюнтяй.
Шагнул в охотничью избушку – здоровый, румяный, морозный, сопливый. Ледяшек еще из бороды не выпутал – подарочек Индейке преподнес:
– Винтовка образца девяносто первого года! Насовсем твоя. Тятин подарок. На ярмарку нынче поедем, товарищ-гражданин Индейко…
Ласковый. По плечу хлопает. Ребятишкам конфеток привез, вина выставил.
Не рыбу с мехами на нарты грузил в этот раз Василий Игнатьевич, а старые нюки от чумов да облезлые оленьи шкуры. «Кто купит их?» – гадал, удивлялся Индейко. Под шкуры винтовки прятали. Индейкину тоже под шкуры. И с Митькой неладно. Слюной реже всхлипывать стал. Гоготу от него по округе меньше. Может, женился – потому?
И вот едет с диковинным этим обозом Индейко, под малицей легкую соболью шкурку везет. От купецкого сыска сберег, от приказчицких глаз укрыл, жене не сказал, наезжему попу не покаялся – один Дунайко знает.
– Скоро Миколка-цыган, скоро… – шепчет Индейко.
Вот и Обдорск. Притормозила передняя нарта, пугливо затрепетали ушами олени.
Винтовочка, бей, бей,
Винтовочка, бей!
Красная винтовочка,
Буржуев не жалей!
Из-за поворота выступил вооруженный отряд. На рукавах полушубков и малиц красные повязки.
– Ань-торова! – окликнул из строя Индейку знакомый ненец Николай Вануйто. – Бросай свой купеца Тряси Нос! Иди наша друзына-отряд! «Какой такой начальник Николай Вануйто? – откинул капюшон малицы Индейко. – Некогда мне друзына-отряд ходить, Николай. Меня Миколка-цыган ждет. По-братански надо делать».
– Трогай… – заскрипел Василий Игнатич. – Рад зенки пялить…
Остановились в этот раз на подворье купца-миллионщика Чупрова. В тот же вечер встретился Индейко с Миколкой.
– Вывези ты меня из снегов, для-ради бога! – в первую же минуту заканючил цыган. – Летось по воде сплыть вознамерился – господа-купечество зашутковали, посередь Полуя меня за борт выбросили. Не гармошка с воздухом – затонул бы. Политическим всем, понимаешь, воля, а конокрадам – что при старом режиме, что при новом. Не дают вольных бумаг, и баста!
– Я соболя, Миколка, принес, – зашарился под малицей Индейко.
– Хороший ты мужик… – вздохнул цыган. – Не хватает моей цыганской совести тебя забижать. Гармошка-то, знаешь… подмокла. Четыре лада фальшивят. Вот если бы нам из снегов…
– Играй, Миколка, «Славное море…».
И опять пойманным горностайкой трепетало Индейкино сердце.
Часом позднее зашушукалась прислуга в доме миллионщика Чупрова:
– Девоньки!.. Бабоньки! В бане-то… В бане… Индейко-самоед в бане на гармошке играет. Во всю дурнинушку растягивает…
– Осподи! Тошнехонько. Уж не нечистик ли там?
– Глаз навзничь вывернись – Индейко!
Слух как огонь. Загорелось внизу, загорится и вверху. Вывалилось из горниц хмельное купечество. Обдорские и прочие потешку чуют, а Василий Игнатьевич язык покорить не может:
– Гы… гы… гы… гыде взял? – подступил к Индейке, головой трясет, на гармошку указывает.
– Миколка-цыган дарили.
– За… за… за какие такие дивиденты-проценты?
Индейко, как цыган, поучал:
– По-братански. А что? Очень даже просто…
Грохнуло купечество от брюшенька:
– Цыган гармошку подарил! Га-га-га-га-га!..
– Он тонул… В Полуе его в прошлом году утопляли, и то ее над головой держал – оберегал.
– Подарит, когда на плеши кудри взойдут.
– А… а… а ты не украл ее? – пронзился догадкой Василий Игнатьевич. – Может, украл? Скажи – украл! Ну? Ястребин Коготь! Признавайся от смелой души. Награжу молодца за ухватку!
– Не украл я, – потупился Индейко.
– То… то… тогда вот что… Митька! Бери его за шиворот – к цыгану поведем.
Туркова уговаривать начали:
– Потерпел бы, Василий Игнатич… К чему раньше сроку собак травить? Не сквалыжничай по медным – серебром сочтешься.
– До… доброхоты! – отмахнулся Турков. – А ежель он пушнину утаил? За самоедские глаза, что ли, гармошкой завладел? Веди, Митька!
Не закидывает крючка Миколка-конокрад, невелико цыганское богатство. Только вот соболь разве… Разбередил он, ознобил нетерпением Миколкину вольную душу. Не остудили злы-яры ветры горячего Миколкиного сердца, не затуманили даль, тайга да пурга росстанних твоих слезинок, молодая цыганка. Пусть загнали Миколку туда, где коня не украсть, не продать, где какие-то рогатые твари, вислогубые хари, языком, как собаки потеют, палкой понужаются, не кованы, не заузданы бегают, овса в рот не берут, родниковой воды не пьют… пусть. Миколка примчится к тебе на удалом коне, молодая цыганка. Кинет на смуглое гибкое плечико драгоценного соболя: «Помнил тебя, Зара».








