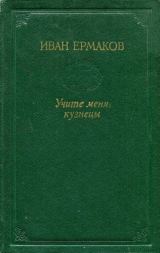
Текст книги "Учите меня, кузнецы (сказы)"
Автор книги: И. Ермаков
Жанры:
Сказки
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 25 страниц)
Кешка за куст, за кочку, опять за куст, а дальше некуда. Травка невысокая… Покажись – увидит. И стрелять – далеко… Сердчишко тотокает: на виду зверь, да возьми его! Тут тетеревенок и выпорхни в Кешкину сторону! Волчица в четыре скачка настигла его. «Эх, поближе бы!» Кешка до сей поры не помнит, как это пришло ему в голову, не иначе старый Куропоть шепнул. Сгреб он с себя фуражку и запустил ее в волчицыну сторону. Та прыжками к ней… тетеревенок, мол. В фуражку-то уткнулась, шибануло ей человеческим духом – она и замерла на момент. Кешка ей и отсалютовал. И не колыхнулась…
С полчаса он около нее сидел. Клыки считал, лапы щупал, шею обмерял: в радость-то поверить – время надо. Попробовал поднимать, да где там! Туша такая, что и доброму мужику загорбок намнет.
«Идти, видно, за лошадью».
Собрал он подушенных тетеревят – и в деревню. Бежит, что на крыльях летит… У скотных дворов увидел животновода Захара.
– Дядя Захар! Дай мне лошадь ненадолго!
– Зачем тебе?
– Да мне всего на часок… съездить надо в одно место.. – Робеет Захару про волчицу-то сказать. А вдруг, мол, она ожила да ушла. А вдруг мне пригрезилось.
– Ну, ежели на часок, – звонко засипел Захар, – то запрягай Упертого – как раз часа за четыре спроворишь.
– Ладно, Упертого запрягу.
Захар повострей на Кешку глянул: тетеревята, ружье, штаны мокрые – шутить ли тут?..
– Да что за дело у тебя такое срочное?
Глянул Кешка на тетеревят, а один ему подмигивает маленьким глазком: убил, мол, точно, чего ты?! Уверил его тетеревенок.
– Волчицу надо привезти… Убил я ее.
У Захара запоспешали ресницы:
– Значит… постой-ка… Не врешь?
– Нюхай стволы!
Захар понюхал:
– Пахнут… Истин бог пахнут! Только не волчицей – стреляным пахнут… Постой-ка… Ты, может, это тетеревят стрелял?
– Честное слово – волчицу!
– Убил?!
– Убил.
– В таком разе мы племенного Орла запрягаем! Кони-то еще в ночном… Сей момент, – запоспешал Захар. Дорогой спросил Кешку:
– А у колхозных амбаров не ты стрелял?
– Нет! А что?!
– Стрелял кто-то под утро… Семочкиной Лютре лапу отнизали напрочь.
– Это этот!.. Мантейфель… Лютре лапу?! О-ох!!! А еще Морфеем упрекал!.. Ха-ха! – раскатился на весь светлый лес Кешка.
Еле-то у него Захар суть дела вызнал.
До работы у Кешкиного двора вся деревня перебывала. Ребятишки в то утро не умывались, собаки лай потеряли, только звонкий Захаров сип не умолкал. Без конца повторял он всем и каждому:
– Тогда я, значит, решаюсь запречь Орла! На кой нам Упертый!
Часу в девятом с двустволкой в руках появился здесь и Демьяныч. Поглядел на волчицу:
– Тэк-тэк-и-тэк… – И больше слова не говоря, подошел к Кешке и подает ему свою двустволку. – Держите, юноша. Дарю. Три кольца… смертельный бой… Покойному брату по личному заказу делали.
Кешка отказываться:
– Что вы, Аркадий Демьянович?.. Зачем? У меня есть ружье.
– Ни слова, юноша! Виноват я перед вами, недооценил. Держите все три кольца!
– Да как это?.. А как же вы без ружья?..
– Обойдусь, и отлично даже! У меня ведь, молодой человек, если откровенно вам сказать, правый глаз всего сорок процентов видит. Я больше по чутью бью… Оружье, как говорится, обязывает. Про Лютру-то слышали? Окалечил собачку по слепоте. И поросенка судорогой сводит.
Кешка, однако, ни в какую! Совестится.
– Так вы продайте ее кому-нибудь, Аркадий Демьянович. А то и сами когда постреляете.
– Ни, ни, ни! Заклятье теще дал! Мне с этой машинкой опасно ходить. На браконьерство можно нарваться.
Уговорил-таки он Кешку! Потом волчицу начал расхваливать. Прекрасного, дескать, вида зверь… Кземпляр!! Кешка уж и так соображал, как бы ему отдариться, а тут такой случай:
– Берите ее, Аркадий Демьяныч, на память. Зверь – первый сорт.
У Демьяныча от волнения из сорокапроцентного глаза слеза случилась:
– Спасибо, молодой человек, спасибо! Век ваш должник… такой трофей… Вот только ободрать я ее не сумею. Все больше падеж вскрывал…
– Ну, эта беда небольшая!.. Дедушка Михайла нам хоть сейчас укажет.
В тот день Кешка застрогал на отцовской палочке сорок седьмую метку. И пошел!.. Ночь ли, непогодь ли, мороз ли трескучий – выглянь за околицу. Вот он – на лыжах, в старом отцовском кожушке, с капканами, с приманками, пошагал в леса Кешка Куропоть. Волкодав в третьем колене! До десятка уж добирает. Свою палочку завел, теперь не свернет уж… А с Демьянычем они великие друзья стали. И так встречаются, а бывает, и на охоте. Демьяныч зайцев петлями ловит… «Мудрейший, – говорит, – зверь! Талантливый!» Недавно он подарил Кешке заячьего пуха шапочку. Теща, говорит, вязала.
Все может быть.
1960 г.
ГОЛУБАЯ СТРЕКОЗКА
Приметили лесничии по нагорью реки Ишима отменную по красоте да выросту рощу молоденького березничка. Широким длинным языком потянулась она в степь. Рыженькие, по молодости лет, стволики деревцев дружной, тесной ватагой наперегонки рванулись к солнышку. И выходило, по расчетам лесничих, что этот березовый язычок двадцать тысяч десятин будущих пашен слизнул. Горевать, конечно, никто не стал. Сибирь по десятинам не плачет! К тому же – рядом степная казахская сторона. По прошествии лет из этого березничка десять тысяч домов срубить можно, да столько же амбаров, бань, да еще горы дров напилятся. А лесок-то какой взялся! Стройный, густой, ровненький – как будто под ершик его постригли. Что тот сосновый подрост в теневой стороне.
Одному удивлялись лесничии: как так случилось, что целые тысячи десятин одним годом осемениться могли? Примеривали, примеривали свою лесную науку к этому случаю, а остановились все-таки на стариковских приметах. Не иначе, это в тот год случилось, когда мыши набегали. Столько этой проворной живности в наших местах образовалось – шагу шагнуть нельзя стало без того, чтобы хвост которой не приступить или норку не замять. Все чистины черными бугорками, порытями своими, испятнали. Девчонки, побрезгливей да побоязливей, и за ягодами ходить перестали. Нагнешься за кисточкой, из-под нее шмыг зверушка… Сердечко-то и обомрет, пятки-то и прострелит…
Солнышко старики тоже из своих приметок не выбрасывали. За год до этого два засушливых месяца с весны стояли… Дождинки не капнуло. А жара – в пору собакам беситься. Земля, значит, и пощелялась… Хоть ладонь в трещины толкай. Плитки, угольнички, кругляшки на ней образовались. Осенью морозы поголу ударили. Еще рванин добавилось. А на другое лето – дожди да ветры… Вот березовое семечко по этим трещинам, мышиным порытям и засело. И давай она, береза, буйствовать! Вширь, вдаль, окрест – луг, увальчик, залежь – все под себя забирает.
Наша деревня Веселой Гривой зовется. Почему ее так наименовали – сейчас точно не установишь. Может, раньше это место звалось так, а по месту уж и деревню выкрестили. В другом случае сами наши старики могли в фантазию удариться. Уж больно радостный вид отсюда открывается.
Стоит Веселая Грива над ключевым синим озером. К самым берегам его, к самым деревенским огородам просторные березовые рощи подступают. Деревья по ним редкие, кудрявые… Как с благодатных островов, доносят оттуда ветерки запахи земляники, цветов, натомленного солнцем горячего березового листа. Летом эти острова зелены, осенью – золотые. Ближе всех к нашей деревне молодой березник подступил – стали и его Веселой Гривой звать.
Верст тридцать отсюда проедешь, начинается богатая степная земля – Казахстан. Течет сквозь нее река Ишим. Пароходы по Ишиму не ходят, осетров в нем не ловят, немудренькая, одним словом, река, а вот полюбилась же она вольному русскому дереву – березе! Кругом уж степи неоглядными коврами расстилаются, а по ишимскому нагорью все бегут и бегут белоствольные рощи да перелески.
Каждый год ветер-полесовщик своими горстями разметывает вдоль Ишима-реки березовое семечко. Ишим – он излучинами течет, вилюшками. Местами такую петельку завернет, что десять верст по нему проплывешь – на сто метров вперед продвинешься. Чуть не сольется руслами: в одном рыба плеснется, в другом рыбак вздрогнет. Берега такой петельки заселило белоногое березовое озорство. В кругу гектаров восемьсот пшеницы желтеет…
Вот у одной такой излучинки на берегу Ишима в усадьбе целинного совхоза и родился Ермек Сабтаганов. Мать у него работала в столовой, отец был электриком. Когда сровнялось Ермеку полтора года, увезли его родители к дедушке Галиму и бабушке Асье. У них он и стал жить.
Да… Были когда-то и на Веселой Гриве березы-девчушки… Только сейчас лучше не поминай про это. Обидятся, братец ты мой, заворчат! Какие мы тебе, скажут, девчушки?! И расскрипятся старые лешачихи, и раздосадуются.
Жил о ту пору в Веселой Гриве Кузьма Алексеевич Пятков. Был он большим охотником с берестой возиться. Посуду всякую из нее вырабатывал. И под квас, и под ягоду, и под домашний цветок… В этом случае даже узоры каленым шильцем выжжет. Коньков, петушков из нее вырезал, деготь гнал, плащи непромокаемые из нее кроил, и красил, и кудрявил ее, и даже в лапти вплетал.
При этом поговорочку имел: «Влезу на горушку, обдеру телушку: не дай мне кожи-яловины – дай берестышка».
Ну и допросился… Фамилию его постепенно забыли, имя-отчество не часто употребляли – стали звать его Берестышком. Берестышко и Берестышко!..
В Веселой Гриве он после японской войны появился… Без глаза оттуда пришел. Землю пахать, конечно, не большая помеха, а только лес его почему-то больше заманивал. Поступил он в лесники… Выдали ему форменный мундир, ружье, лошаденку, лесу на избушку отпустили. В обход ему эта самая лесная Веселая Грива досталась, а потом поселился он у нас в деревне. Отсюда, говорит, хоть горой поезжай, хоть под горой, хоть лесом – все равно в лес угадаешь. Оно и правда… И опять же я про свой лес скажу. В сказках да былинах что ни место, где про лес упомянуто, то и «дремучий» он, то и «не темны-черны леса всколыбалися». Наш не такой: светлый он, прострельно-звонкий, лепетливый!..
К тому времени, о котором дальше сказывать буду, Берестышко наш совсем уже дедушкой стал. Старуха у него померла, детей не нажито было – один остался. Один – да не без радости… От народа ему почет да уважение. От соседушек – по хозяйству помога. Сельсоветские дела решать начнут – он там нашим депутатом выбран. Только первой и неразлюбимой жалью лес ему остался. Идет по нему, бывало, легонький, сухонький, востропятый… Шаровары на нем из белого льняного полотна, такая же гимнастерка, ремешком подпоясанная. На голове – мятая, гнутая, линялая шляпа. Дегтем она травленная, дождями сеченная, градом битая, кострами копченная, колесами перееханная, скворчатами усиженная – в каких она переделках за сорок лет не побывала! Идет он по белоствольному раздолью, и не враз ты его от берез отличишь. «Японский» глаз ущурен, а живой, голубенький, доброй незамутимой радостью вокруг себя брызжет. Бородка у Берестышки в клинышек сведена, а усы – саморостом, как им любо, так и распушиваются. Нос широкий и в подвысь смотрит. Все ветра приветствует! Через это лицо у Берестышки всегда удивленное и по-ребячьи доверчивое. Встретишь его в лесу – то горсть какой-нибудь травы он насбирал, то снизку грибов тащит…
Другая радость у Берестышки была – тополя.
На нашу Веселую Гриву заезжий народ частенько дивится. Вот лешаки так лешаки, говорят. Доподлинные!.. Это к тому, что у нас не осталось дома, возле которого бы три-четыре тополя не росло. Кругом лес, и в середке лес! Вот и дивятся…
Первый тополь Берестышко против своей избушки в огороде посадил. Лет через семь наградил он черенками соседей. А потом уж и Берестышков тополь опиливали и соседские – образовалась у нас от одного корешка целая тополиная улица. Летом идешь деревней – тень тебе лысину от солнечных ударов оберегает, бравый дух дыханье твое бодрит, и мило глазам твоим. Не закрывал бы их!..
Вот Берестышке и приятно было.
«Умру, – думает, – не сразу меня забудут… Тополя-то пошумят в мою память, погудят, пошелестят!..»
Третья радость у него была – ребятишки да сказки. Не какие-нибудь там дедами насказанные, а свои – Берестышковы. Возьмет самый заурядный случай и в такие узоры его изукрасит, так быль с выдумкой перепаяет, что только сиди да покрякивай. И мухомор, и пчела, и окуневый глаз, и кукушкино яичко – все у него на свои особые голоса заговорит. Болотная кочка – та чего-нибудь мокрыми, моховыми губищами бухтит-квачет. На всякие изломы да извороты язык свой приловчил… Ребятишки другой раз спрашивают:
– Как это ты, дедо, всякому зверю-птице подражать научился?
Завздыхает Берестышко. В уголок отвернется и будто бы даже всхлипнет. Потом табакерку достанет, нос заряжать начнет.
Ребятишки ждут. Окинет их ласковым голубеньким глазком и поведет:
– За неволю, голубки мои, научишься… Вы вот при отце-матери безотлучно находитесь, а я до пяти годов у скворца Дразнилы в дупле жил. От него чего не переймешь!.. На все голоса птица.
Нынешних ребятишек разными там баба-ягами да кощеями не проведешь быстро-то… Ну и тут кто-нибудь не доверится, сфыркнет.
Берестышке того и надо! Примется удостоверять:
– Маленький тогда я был. Несмышленыш совсем… Вынесла меня сестренка, нянька моя, на лужайку, на свежий ветерок. Положила на одеялко, а сама убежала цветочков мне для забавы нарвать. Я тем временем уснул. И уследил меня Коршун Вострый Глаз. Подхватил за рубашонку и потащил в гнездо свое коршунячье, коршунят своих, большеротых обжор, полакомить задумал. Я сплю. Так то есть храплю, что в облаках дырки просвистываются. Укачивает меня на рубашонке-то. Теплым ветерком обдувает. Ни комар тебя, ни муха не тревожит – благодать! Потом чую, дыханья мне не хватает. Воротником горло перетянуло. Как заревел я на всю поднебесную – у коршуна лапки-то и сдрожали… Я и полетел без парашюта… Если бы не рубаха из «чертовой кожи», разбился бы на мелкий дребезг. Зацепился я ею за сухой сучок и повис на березе. Напротив меня дупло виднеется. А в дупле скворец Дразнило со своей скворчихой сидят. И оба впроголось ревут… Посиротила их хищная зверь-рысь, поприела ихних детушек скворчаток. Плакали они, плакали – скворец первый перестал. Вытер слезы, высморкался и говорит скворчихе:
«Новых скворчат нам теперь не завести – осень близко… Давай возьмем, старуха, этого парня на прокормленье!»
Созвали они скворцов со всего леса, и кто за волосы меня сгреб, кто за рубашку – тащат в дупло. Втащили и замяукали на разные голоса. Дразнило первым делом червяка мне разыскал.
«Ешь, говорит, наводи тело. Червей нынешний год не обери-бери… И жирнющие…»
Ребятишки глаз с Берестышка не сводят. А он опять вздыхать начнет.
– Ну, и ты ел? – не вытерпит какой-нибудь.
– А куда же ты, голубок ласковый, подеваешься? – разведет руками Берестышко, – Ел… И жуков ел, и стрекозу, и метличков – одной лягухой только брезговал.
Вздохнет. А у ребятишек сто один вопрос на языке:
– Как же ты зимой?.. Они ведь в теплые края улетают.
– Улетают! Верно, голубок, говоришь. И мои улетали. Только перед отлетом усыпил меня Дразнило. Такое «баю-баю» мне запел, что я как на третьем колене уснул, так до свежих червей и не просыпался.
– А как же ты не замерз?
– Дак они же меня с головы до пят пухом да мохом укутали!
– А как ты опять на земле очутился?
– Рассердился на меня Дразнило… Пять лет они собственных детей не выводили – все меня вскармливали. Я уж в ум стал входить… Примечаю, что скворец частенько по заплечью у меня шарится. А когда и ниже спустится. Раз как-то полазил и давай меня честить! И такой-то я, и сякой… «Мы со скворчихой, – кричит, – недопиваем, недоедаем, ни дня, ни ночи покою не знаем, у меня уж и темечки поседели через твою ненасытную утробу, а у тебя ни крыла, ни хвоста не растет!.. Прочь из моего дупла, поросенок неблагополучный!»
Ну и опять давай они скворцов со всего леса сзывать. Я к той поре толстый стал. Еле-то-еле совладали они вытащить меня. Добрался я после того до вашей Веселой Гривы и стал тут жить. А поскольку выпала мне судьба в лесу воспитываться – пошел я работать лесником. Так-то вот.
– А скворца ты, дедо, после того видел?
– А как же!.. Частенько видаемся. Он уж теперь не сердится. Я еще от дупла кто знает где иду, а он кричит: «Здррастуй, Беррестышко!»
При этом в такую дудочку губы сведет и до того чудно под скворчиное горлышко подделается, что ребятишки неделю после чивирикать на разные голоса будут Это его «Здрррастуй, Беррестышко!».
Застанет, бывало, Берестышко кого-нибудь за самовольной порубкой в лесу, по ручке с лесонарушителем поздоровается, глазок свой в него вонзит и спросит:
– Значит, посиротил земельку?
– Какую земельку? – вроде не понимает лесонарушитель.
– А на которой живешь, голубок!
– Дык… Дак… Кузьма Лексеич… Оно самое… – запереминает язык нарушитель, – нужда, во-первых, а во-вторых, подумалось, лес по дереву не плачет… Как и море по щуке.
– Про море я тебе не скажу, – насторожит пален Берестышко, – а про лес ты, голубок, врешь! Плачет он… А коли надобность, ты бы меня спросил. Срубил бы ты лесину – я бы тебе спасибо сказал. Да еще денежку в лесничестве для тебя выпросил бы. Вон ее, санитарной рубки, сколько! Подальше только ехать надо.
Это он так разговаривает с тем, кто по неразумению топору волю дал.
Который же постоянно в лесах пакостит, с тем у него другой разговор находится. Опять же по ручке поздоровается, химический карандаш из кармана достанет. Тут же форменную бумагу составит.
– Распишись, голубок! – предлагает.
«Голубок» и заворкует. На всякие выверты… Уговаривать Берестышку начнет:
– Стоит ли нам грех заводить, Кузьма Лексеич? Да нам с тобою добра не пережить. Давай уж как-нибудь ладком-рядком это дело согласим.
Ну, и тут кабанчика Берестышке обещать зачнет. Или овцу. Кто, опять, овчинами на полушубок его соблазняет.
Только зря это! Берестышко высоко свою службу понимал.
– Я, – скажет, – милки мои, не вам и не начальству служу. Я вашим внукам служу да красоте земли еще.
А чаще так говорил:
– У тебя одна мать, а у меня две.
– Как то ись две? – заудивляется порубщик. – Ты все притчами, Кузьма Лексеич, говоришь.
– А вот и не притчами! Ты до сивой кудри дожил, а она тебе и не вприметку, вторая-то мать… Земля-то зеленая… Всемилая наша…
И тут к такому разговору подойдет…
Родная мать, мол, песенки над твоей колыбелькой пела, сладким молоком вскармливала, имечко дала, русую головушку расчесывала, а стоило тебе сделать первый шаг, как вторая мать – земля ласковая – подошевки твои розовые целовать принялась. Первая в погремушку гремит, а вторая голубую стрекозу на мизинчик тебе садит. Ты ее изловить хочешь, а она – порх! И запела крылышками. И поманила тебя… «Иди-ко, голубок, гляди-ко, голубок… много див у твоей Зеленой Матушки про тебя наготовлено. В грудку – дыхание свеженькое, сквозь цветы да мяты процеженное. Животу да язычку-лакомке – земляники, малины да любой сладкой ягоды, глазам – жар-птицы, полянки лесные, ушам – соловеюшки звонкие». Кропят твою голову ее чистые дождички, мужаешь ты под ее резвыми громами, растешь, крепнешь, зорче становятся глаза твои… Вот у первой твоей матушки и морщинки на лице обозначились, и седые струнки по косам потянулись, а вторая что ни год все моложе да красивее перед глазами твоими является. Цветет она лугами, зеленеет лесами, порхает красной птичкой, снует веселой рыбкой, прядает вольным зверем – солнышко, звезды и радуга ее охорашивают, синие ленты рек ее украшают.
И все это – от голубенькой стрекозки до молоденькой апрельской зорьки – для радости глаз твоих, для тихого ровного счастья твоего цветет, человек.
Придет час, не пустобайкой зазвенят в тебе петые-перепетые слова: «Мать земля моя, Родина», – присягой зазвенят, и двум матерям станет биться твое просветленное сердце.
Обидят вторую – в бой пойдешь. Согрубят им – ты заступничек! На красоту и счастье ихнее кто замахнется – ты того за руку схватишь, остановишь!.. А надо – и кровь, и жизнь отдашь.
Вот какие у нас с тобой матери, голубок! Родимая и Всемилая.
Порубщику после такого разговора и дар речи закупорит.
Слюнявит он Берестышков химический карандаш об затверделый свой язык и расписывается.
Приезжает одно лето Берестышко в район и докладывает старшему лесничему:
– Так и так, Никифор Яковлевич… Лес на Веселой Гриве поспел. Приметил я с пяток лесин, у которых не в пору верхушки желтеть начали.
А желтая верхушка на летнем дереве – первая примета у лесников. Дай такому лесу еще несколько лет постоять – зачернеет он сердцевиной и вовсе сохнуть начнет. А ведь не для червяка рощен.
Поблагодарил старший лесничий Берестышку за его службу и говорит:
– Загудит нынче Веселая Грива… Городскому леспромхозу уж порубочный билет туда выписан. Скоро в твоем обходе, Кузьма Алексеевич, целый поселок построится. Казахи туда едут. Семей тридцать, однако… Так что – встречай и привечай.
– А они, – спрашивает Берестышко, – рубили лес когда, казахи-то?
– Не беспокойся… – старший лесничий говорит. – Еще нас с тобой поучат.
С неделю время после этого разговора прошло. Смотрит как-то Берестышко: что за полурота против его избушки с тракторной тележки спешивается? Они… Казахи. Только без семей. Мужчины одни. Подходит к Берестышке здоровенный мужчина, в годах уж… Подает руку, себя называет.
– Галим Сабтаганов – десятник.
Берестышко тоже ему отрекомендовался.
Предъявил Галим порубочный билет и говорит:
– Указывай, Кузьма Алексеевич, где нам тут поселок себе заложить.
– Поедемте! – говорит Берестышко.
Через месяц стояло на том месте тридцать срубленных и промшенных домиков, тридцать первый – под магазин, амбарушка, начаты были пристройки для скота, колодец.
И завизжали, запели на Веселой Гриве пилы, зазвенели топоры, завздымалась первая, легонькая пороша под хлесткими гонкими стволами чудо-берез. На нее же, на порошу, скатилась и Берестышкова слеза. Знает, твердо знает, что сводить лес надо, не гниль же из него разводить, а вот ранит сердце – и что хочешь делай! К весне высились тут штабеля делового и полуделового кряжа, стояли многорядные поленницы дров, кое-где облеживались вороха сучьев.
И вот… В мае месяце это дело было. Пустил кто-то по Горелому болоту пал. Посреди болота открытая вода… Сюда огонь дошел и сгас. К краешкам дымки подбивать стало. А тут ветер погодился! Как рвануло, как выметнуло огонь, и пошло пластать по верховой осоке. К болоту кустарники всякие прилегали, чернотал. Трава тут из-под снега вышла слеглая, плотная, ветрами ее продуло, солнышком насушило – только треск, да гул, да рыжий дым пошел. За кустарниками глухие осинники начинались. Охватил их огонь клиньями с двух сторон и жарит. Казахи трактор свой завели. Гусеницами подступы к своей заготовке обминают, лопатами траву секут…
Тут и выскочила на них лосишка с двумя лосятами. Увидела людей – да назад. А там огонь… Она опять поворот! Люди расступились… Проскочила она с одним теленком, а второго не видать. Стали разыскивать – из-под самого огня почти выхватили. Лежит он – глазки напуганные, и всей шерсткой своей сотрясается. Нога у него повреждена оказалась. Не то сам в суматохе обо что стукнулся, не то матка на повороте копытом пришибла. Что со зверяткой делать? Подогнали казахи телегу, положили его на соломку, припутали вожжами, чтобы не ускочил, и повезли в поселок.
Дней восемь он пролежал – полегчало ноге. Вставать стал. Заприступал на нее полегоньку. Поили его коровьим молоком. Нальют в бутылку, соску на горлышко натянут – и чмокай, Кырмурын. Кырмурыном его прозвали – «горбоносый», значит, по-нашему. Ребятишки не отходят от него: тот бутылку молока тащит, другой – в диковинку он им. Через месяц нога у него совсем отошла. Такой резвый сделался, такой балун – и старого, и малого распотешит. В середине лета стал он осиновые да ивовые прутики подъедать. Уйдет к болоту, поест там – и в поселок, на отдых. Приляжет где-нибудь в тенечек – поспит. Пить захочет – в лошадиной колоде вода. После этого играть начнет. В беги с ребятишками забегать. Те, значит, кинутся всей гурьбой в одну сторону, порядочно уж отбегут – он им вслед смотрит. Потом заперебирает, заперебирает ушками да как вскозлится со всех четырех. И моментом ребятишек обгонит. И вперед уйдет. Они завернутся, и он завернется. Забава детворе! Хохочут, гомонят… И вприсядку, и вприпрыжку пойдут. А Кырмурын остановится и тоже вроде присмеивается: нижней губой шевель-шевель… Хохоту на поляне гуще. Другой способ: сопатку вздирать начнет. В гармошку соберет ее, ноздри раздует, а зубы наголе окажутся. Улыбнулся вроде… Ребятишки попадают на траву, пятками по земле колотят. «Вайеченьки!.. – кричат. – Сдаемся, Кырмурын! Не смеши больше…»
Галимов внучек, Ермек – ему тогда третий годик шел, – этот все дорывался верхом на нем покататься.
– Посади меня! – деда просит.
Галим не соглашается.
– Нельзя, – говорит. – Хребетик у него еще тоненький. Повредить можно.
– А когда я на нем покатаюсь?
– На будущее лето. Ты подрастешь, он подрастет – славные будут джигит и лошадка!..
– Я сейчас хочу-у, – захнычет Ермек.
– Ох ты, – схватится вдруг за тюбетейку Галим, – Совсем старый я, из памяти выбился… Там тебе коян лепешек прислал с деляны! В сумке у меня лежат. Пойдем скорей!
Заблестят глазенки у Ермека. Уцепит деда за палец и Кырмурына из сердца вон. Кояновы лепешки!.. Славный дружок он – коян, зайка лесной! То сладкой клубники Ермеку насобирает, то веток с черной ягодой, смородиной, наломает, а когда и конфеток в берестяном кульке пришлет.
Грызет Ермек сохлые лепешки. Бабка их неделю назад пекла, завалялись они в дедовой сумке, а есть ли на свете что-нибудь вкуснее «заячьей лепешки»! Заяц спек! Лесом от нее пахнет, сказкой, диковиной, первочудом! Коян и лечить умеет. Помнит Ермек, что дедушка Галим лекарства от него привозил. Прямо с порога закричал:
– Ермек! Коян тебе таблетки прислал! Только горькие они… Я одну лизнул – целый час плевался. И как их зайчата глотают!
– А они разве тоже болеют? – затревожился Ермек.
– Болели!.. А заяц их лекарством вылечил. Сейчас здоровенькие… Через головы уже кувыркаются. Привет тебе передавали.
– Давай лекарство, дедушка!
Таблетки и на самом деле из одной горечи были спрессованы. От расстроенного живота такие дают. Все до одной проглотил их Ермек. И ни разу не закапризил.
Галиму Бакеновичу (отчество ему русские дружки изобрели) шестьдесят лет скоро сровняется. Ходит он по деляне с двухметровой рейкой. Кубометры замеривает. При разговоре, бывает, поставит он ее рядом с собой – тут и приметишь… Вася Волков – бригадир нашей полеводческой бригады – в таких моментах воробья ему на тюбетейку желает. Это к тому, что воробьиного росту Галиму Бакеновичу до двух метров недостает. Богатырь человек! Всегда он улыбается, посмеивается… Зубы, что у двадцатипятилетнего сверкают – ни один не нарушен. Говорит ли, слушает ли – они свой режим соблюдают. Ихнее дело – бодрый дух у собеседника поддерживать: «Беседуй, мол, беседуй. Очень хорошо беседуешь». Усы у Галима Бакеновича такие, как если бы кто ласточкин хвостик ему под нос наклеил. Двумя черными узенькими жгутиками круто опускаются они к подбородку. На концах в один волосок заточены. Вот уже побольше пятнадцати лет ездит он со своей бригадой по лесоразработкам. В одном месте вырубят лес – в другое переселяются. За такое время любой степняк в лесного человека переродится. Ну и Галим Бакенович… Само понятно, если и с зайцами разговаривать может.
Хрустит на Ермековых зубах заскорузлая, неподатливая лепешка.
– А где он, дедушка, живет, заяц?
– В сучьях. Сложили мы ему высокую кучу – настоящий заячий дворец получился. Теперь ему ни дождь, ни мороз, ни сам серый волк не страшен.
– А как он меня знает? Он меня видел?
– Видел, видел… Помнишь, ты в делянку со мной ездил?
– А откуда он на меня смотрел?
– Из-за пенька.
– А кто ему сказал, как меня зовут?
– Я сказал. Разговорились мы с ним, он и спрашивает: «Дедушка Галим! Что это за мальчик вчера с тобой приезжал? Волосы у него черные, как моих ушек кончики, глаза против заячьих – узенькие, щеки толстые и много, много белых зубов во рту…» – «Это, – отвечаю ему, – мой внучек Ермек». – «Ах, дедушка Галим! Я хочу с ним дружить, – говорит. – Передай ему вот эти ягоды…» Помнишь, я привозил?
– Помню, – шепчет Ермек.
Глазенки у него заворожились, на губах улыбочка дремлет… Замечтался джигит. И Кырмурына забыл.
А тот перезимовал и с добрым жеребенком ростом поравнялся. Важничать стал. Взапуски с ребятишками уже не бегал. А покататься, если в игровом духе находился, допускал. Только далеко не повезет. Пока сахаром подманивают – идет. Схрумкал сахар – и седока на землю! Проказник пуще прежнего сделался.. Утром задают лошадям овсянки – он тут. Стоит, своего пая ждет. Умнет тазик, вылижет его, в знак спасиба головой помотает и на другой промысел отправится. Идет по поселку, ушами помахивает, копытами постукивает, ноздрями принюхивает, глазами косит. Вот хозяйка удой в ведерке несет… Налетит на нее и скорей сопатку в молоко. Пока женщина причитает да ладошкой его охаживает, он уже языком донышка добыл. Зацвиркало там… Последние капельки дотягивает. После этого к магазину направится.
Сахарком его там продавец да покупатели баловали – забудь-ка эту сладкую тропочку.
Года полтора ему сровнялось – стали у него рожки проклевываться. Ребятишки ожидали, что они сразу кудрявые появятся, а он выпустил две спицы – и шабаш. Теперь уже по целым дням стал отлучаться. Дед Галим забеспокоился. Как бы, думает, его не подстрелили в лесу. Он ведь к людям без опаски… Решил пометить лосенка. Был у него обломыш чайной серебряной ложечки. Вечер плющил он ее, вечер дырки под закрепляющую втулочку сверлил, потом напильником вечера три скорготал, получился у него серебряный осиновый листок. Зубчики даже обозначены. Вытравил он на нем арабскими буквами какое-то казахское завещание, краешек уха Кырмурыну продырявил и полой втулочкой этот листок замкнул. С серебряным ушком стал лось ходить. Издали приметно. Еще одну зиму прожил он в поселке. А на лето по целым неделям в лесу стал пропадать.
Насбирается там всякого лесного лакомства и отдыхает. Рога у него три сучка пустили. В возраст стал входить.
Ермек спрашивает:
– Кырмурын, дедушка, от нас совсем ушел?
– Нет, он придет еще… Пожирует, пока везде вода есть, а потом пить захочет и придет.
– И не уйдет больше?
– Обязательно уйдет… Есть у него в лесу подружка… Как начнет она его звать – тут он и уйдет.
– А как она его будет звать?
– Как звать будет?.. А вот так: «Кырмурын ты мой, Кырмурын, – закричит. – Где ты ходишь, господин мой рогатый?! Как у меня весной народятся телятки!.. Маленькие, робкие лосятки… Кто их от волка, от рыси защитит? А у тебя рога крепкие!.. А у тебя копыта острые!.. У тебя уши чуткие!.. Сам ты храбрый и сильный! Приходи ко мне, господин мой рогатый!» Так вот каждое утро она будет кричать. Тогда и уйдет от нас Кырмурын. Насовсем уйдет.








