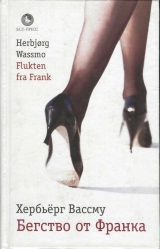
Текст книги "Бегство от Франка"
Автор книги: Хербьёрг Вассму
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 24 страниц)
Замерзшая Прага
Стол портье был обит красной кожей. Коричневые колонны с бра, похожими на подсвеченные гербы рыцарских времен. Далеко не новая мебель, обитая некогда зеленым и красным плюшем, стояла впритык друг к другу, словно забытый театральный реквизит на брошенной сцене.
На каждом этаже на лестнице были большие площадки, как в фильмах ужасов. С потолков свисали люстры с угрожающе острыми наконечниками копий, нацеленными в того, кто решится пройти под ними. Пол и лестницы были устланы потертыми коврами времен былого величия.
На первый взгляд номер 202 выглядел даже романтично, хотя все в нем было изрядно потертым. Две старых грязно-желтых деревянных кровати с резными изголовьями и такими же тумбочками. Платяной шкаф с трухлявой кружевной занавеской на внутренней стороне стеклянной дверцы был не лишен некой сентиментальной прелести. Обои, пережившие свою молодость, были теперь похожи на бумагу, какой накрывают полки в старом чулане. Безусловно отвечала своему назначению только ванна. Она все время булькала, хотя мы и не открывали кран.
– Унитаз похож на вход в шахту, – заметила я, утратив всякое мужество и вздрогнув при виде отвратительной дыры цвета испражнений, которую никто не чистил уже много лет. Это можно было понять.
– Успокойся! Ты помешана на антисептических уборных, – надменно сказала Фрида.
В целом комната напоминала лабиринт из углов, трещин, труб, разбитых керамических плиток, оставшихся от веселых 20-х годов. Штукатурка, окаменевшая паутина и жизнь, приходившая в движение, стоило закрыть глаза. Я опустилась на крышку унитаза, и передо мной возникло tableau:
Девочка сидит на унитазе в уборной в холодном и коротком коридоре, из бачка течет. У нее слишком короткие руки, чтобы удержать дверь, если кто-то захочет войти. Запираться на крючок нельзя, таков порядок. Она только-только успевает покончить со своими делами, как в уборную врывается большой мальчик. Она выбегает оттуда и бежит вниз по лестнице к треснувшему умывальнику. Помешкав, хватает большой кусок мыла. Этим мылом пользовались уже много людей. На нем засохли полоски грязи. В углу стоит ванна с желтой потрескавшейся эмалью и ржавыми трубами. Каждую субботу в ней моются дети, малышей сажают в ванну по трое. Старшим не всегда набирают чистую воду. Все зависит от того, насколько грязны были малыши. Стены хранят звуки дрожащих протестующих голосов. Девочка слышит их, хотя сейчас здесь никого нет. В банный день им выдают чистую одежду, это на всю неделю. Она боится, что в следующую субботу ее станут бранить за то, что она испачкала кровью штаны. Это так стыдно.
– Мы должны сменить номер! – решительно говорю я, беру ключ и спускаюсь вниз.
Группа киношников в холле не удостаивает меня даже взглядом. Актеры в странных костюмах небрежно развалились в креслах и на диване. Они как будто кого-то ждут. Их мало беспокоит, что я могу попасть в кадр в качестве неожиданного статиста. Выходит, здесь следует придерживаться только своего сценария.
Дама у стойки портье сказала, что получить другой номер нельзя. Брови и губы у нее были аккуратно подкрашены, и она объяснила мне по-английски, что все номера заняты.
– Таких ванн не бывает даже в трущобах, – невежливо заметила я.
Она стала уверять меня, что я преувеличиваю и что ее уведомили бы, если что-то было бы в неисправности. К тому же она ничего не может поделать: «Гранд Отель Европа» необыкновенно повезло, они заполучили на постой большую группу киношников. Я пыталась проявить настойчивость, но она только развела руками и пожала плечами. В конце концов она перестала обращать на меня внимание и заговорила со стоявшим у меня за спиной мужчиной. Судя по костюму, это был один из актеров, ожидающий своей сцены.
Фрида старалась отвлечь меня от этих неприятностей. Она показала мне вид из окна и заявила, что все так интересно. В ответ я молча вытерла пыль с тумбочки и распаковала вещи. Признаюсь, я даже вошла в пещеру, именуемую ванной и привела себя в порядок перед обедом.
Раздевшись, я обнаружила под грудью несколько красных пятнышек и решила, что перед сном приму душ и помажу пятна мазью. Я и в самом деле смазала мазью все выступившие пятна, дабы изничтожить всю заразу. Несколько раз – как и теперь – я успевала намазаться мазью до того, как начинался зуд. За одеждой я следила с маниакальной тщательностью. Это привело к значительному расходу пластиковых пакетов и напряженной умственной работе.
К веселью мое состояние не располагало. Я осознавала, что постоянно пребываю в унынии, причину которого не всегда могу вспомнить, потому что оно длилось уже очень долго. Множество крупных и мелких событий постоянно угнетали меня и создавали пустоту, которую я ничем не могла заполнить.
Было чистым безумием в такой холод идти гулять в юбке. Да и под тонкое пальто я тоже не надела ничего теплого. Наш отель находился рядом с Вацлавской площадью, на которой высилась громада Национального музея. Мы шли по направлению к Старомястской площади. Церковь Святого Николая не произвела на меня никакого впечатления. Церковь Богородицы Тынской и образ Марии с младенцем меня тоже не тронули. Когда мы проходили мимо астрономических часов, на которых каждый час появляются фигуры апостолов, у меня уже онемели от холода пальцы ног и драло горло. Я начала кашлять. Луна, звезды и разноцветье церковных окон заставили меня понять, что все это не для таких, как я.
– Мне холодно, я хочу вернуться в отель, – жалобно сказала я.
– Но ведь мы в Праге! – воскликнула Фрида.
– Человек, которому холодно, плохо воспринимает то, что видит.
– Не в этом дело. От тебя все заслоняют твои вечные мысли. Тебе сейчас все равно, где находиться. Ты не способна ничем увлечься, потому что позволяешь прошлому мешать себе. Детству, Франку. И рукописи. Или я не права?
– Ты не понимаешь. Моя роковая ошибка именно в том, что я не могу никого заставить понять… – сказала я.
Кончилось тем, что мы кружили по центру, разглядывали готические дома и фасады церквей, восхищались ларьками, поставленными для рождественской торговли, смотрели на рождественские ясли, на елки, фонари и на дрожащих от холода людей, кутающихся в шарфы и шали. Меня поразило, что почти на все, как и я сама были в слишком легкой обуви, подошвы гулко стучали и шаркали по скользкой брусчатке.
Продавцы жарили каштаны на обрезанных бензиновых бочках, наполненных горящим углем. Обнявшиеся влюбленные парочки разбрасывали вокруг себя скорлупу. Воздух гудел от голосов и уличного шума. Какой-то музыкант, наряженный шутом, бегал по кругу. На голове у него была шапка, похожая на спрута, на щупальцах которого висели бубенчики. Музыкант попросил у нас денег. Мы дали. Под холодным небом среди архитектурных подвигов прошлого этот человек в напульсниках и с усталыми глазами был представителем замерзшего человечества.
Не уверена, что именно шапка этого музыканта заставила меня вспомнить Франка, сидевшего в кафе «Арлекин» на Хегдехаугсвейен вместе со своей красивой женой. Я просто узнала чувство, которое испытала в тот раз, когда стояла на улице, уставившись в окно кафе, словно отвергнутая лягушка. Мне хотелось, чтобы они были несчастны, чтобы они поссорились, подрались, вцепились бы друг другу в волосы. Я хотела, чтобы их дети попали в приют. Но осознав это свое желание, я сразу опомнилась и схватилась за виски. Зачем показывать Фриде, что мне жаль себя, потому что я такая злая.
– Как всегда думаешь о Франке, – сказала она.
– А ты никогда о нем не думаешь?
– Я рада, что благодаря ему мы отхватили такой куш и что он не знает, где мы.
– Ты никогда не раскаиваешься?
– Нет. Разве у нас был выбор? Сидеть в Осло и чахнуть без денег, без друзей и без Франка?
– Ты цинична и бесчувственна.
– У нас с тобой разные роли, милая Санне.
На другой день, переступив через реквизит и барахло киношников, мы расположились завтракать на своеобразной балюстраде, или галерее, заставленной старой мебелью неизвестного происхождения. Следы былого величия были видны повсюду. На стенах, карнизах, люстрах. Покрывала и гардины выглядели так, словно их приобрели на блошином рынке, выручка от которого пошла какому-нибудь школьному оркестру; скатерти и салфетки были блеклого розового цвета, как будто несколько лет пролежали в витрине, обращенной на юг. Официантка напомнила мне тюремщицу, хотя я никогда в жизни не была в тюрьме, пока что не была.
Завтрак состоял из черствого хлеба, маргарина в каких-то пластмассовых коробочках, большой сардельки и мармелада из неизвестных фруктов. Пока я медленно все это жевала, передо мной возникло tableau:
Стены в комнате, где ели дети, когда-то были светло-зеленые. Но краска давно пожухла. Особенно там, где по обе стороны стола стояли стулья. На высоте стальных трубок, венчавших спинки стульев, образовалась четкая полоска, делившая стену на две части. Никто не знает, каким образом это произошло, потому что прислонять стулья к стене было запрещено. В простенке между окнами висела картина в позолоченной раме. На ней был изображен Иисус Христос, возложивший руки на девочку и мальчика. Как и подобает такому случаю, дети были нарядно одеты. Юбка у девочки была снизу оторочена оборкой, талию стягивал матерчатый пояс, завязанный сзади большим бантом. Может быть, их одежда была сшита из бархата, как воротничок на парадном платье директрисы. Стол в столовой был покрыт цветастой клеенкой. Многие цветы стерлись до самой основы. Кое-где на клеенке были порезы и царапины от ножей и прочих острых предметов. Поверхность стола была тусклая, словно стол переболел длительной лихорадкой. В торцовой стене было проделано окно в кухню. Когда детям полагалось есть, там уже стояли полные миски. Каждый должен был взять себе миску и сесть на место. Таков был порядок. На завтрак давали овсяную кашу, сваренную накануне. Вечером ломтик хлеба, разрезанный пополам. Кусочек копченой колбасы выглядел таким маленьким и одиноким на этом сухом полумесяце! Таким же одиноким выглядел и сыр на своей половинке. Девочка обычно сдвигала сыр подальше, чтобы оставить его на закуску. Однажды утром повариха закатила оплеуху своей помощнице за то, что та намазала слишком много маргарина на хлеб двум старшим мальчикам. Когда оплеухи доставались не детям, это выглядело почти торжественной церемонией. Но после этого помощница поварихи соскребала маргарин с хлеба так тщательно, что кусочки становились плоскими, а их поверхность рыхлой. Стаканы, с тем что в них было налито, детям не разрешали носить самим, их разносила либо помощница поварихи, либо старшие мальчики. Нельзя было пролить ни капли. Молоко стоит дорого, даже если оно синего цвета. Сок по торжественным дням был чуть розоватый, иногда в нем вообще трудно было угадать красный оттенок, тем не менее, он тоже был дорогой.
Когда мы перешли через Влтаву по Карлову Мосту, или Charles Bridge, как было написано в английском путеводителе, я поняла, что нахожусь в одном из красивейших городов мира. Мы перешли мост между двумя башнями, и теперь видны были и Старе Място и Мала Страна. Под нами и мимо нас текла река, сверкающая, как серебряная бумажка в детстве, разглаженная ложкой. То в одном, то в другом месте по поверхности воды пробегали волны, мимо дамбы, лодок, уток и чаек, которые, плывя против течения, оставляли за собой на поверхности треугольные шлейфы. Я почувствовала себя в родстве с этой рекой. О нашем с ней происхождении никто ничего не знал.
– В следующий раз я хочу приехать сюда весной! – воскликнула Фрида.
Мы поднялись по ступеням, прошли мимо кукольных мастерских с их лавками, мимо сувенирных ларьков и нескольких антикварных магазинов. Нашей целью был старый замок и за ним улочка, идущая от стены замка – Злата уличка или Golden Lane с ее «bizarre small cottages from the end of the 16-th century»[14]14
Причудливые особнячки конца XVI века (англ.).
[Закрыть], как было написано в путеводителе. Мы стояли в очереди, чтобы войти в маленький синий домик, над дверью которого было написано «№ 22», с маленьким чердачным окошком и двумя окнами в мелких переплетах на фасаде. Здесь с 1917 года жил и писал Франц Кафка. На портрете, как обычно, был изображен грустный молодой человек с большими темными глазами и слегка оттопыренными ушами. В безупречном белом галстуке, завязанном широким узлом.
На обратном пути я зашла в кукольную лавку. Продавщица разложила куклы и представила своих сотрудников, располагавшихся в задней комнате. Один собирал куклы, другой раскрашивал лица на деревянных болванках, молодая женщина шила куклам платья на старой ножной машине. У меня никогда не было кукол, если не считать той, которую я отдала Армии Спасения после того случая с грузовиком. Тогда я была уже слишком взрослая или… уж и не знаю, как еще можно сказать про бывшую мать.
Куклы качались на веревочках, каждая была прикреплена винтом к маленькому деревянному кресту. Продавщица с энтузиазмом стала обучать меня искусству вождения кукол. Она заставила двух одинаковых кукол танцевать друг с другом, словно они были живые, под светом, падавшим из круглого белого купола.
Девочке хочется дружить с другой девочкой, той, которой дальний родственник подарил на Рождество деревянную куклу. У куклы было два лица. Улыбающееся и плачущее, спереди и сзади. Можно было выбрать любое, повернуть голову, как надо, и скрыть второе лицо под волосами из желтых шерстяных ниток. Детям нравилось вертеть кукле голову. Поэтому она вскоре отвалилась. Хозяйка куклы горько плакала, а девочка не знала, как ее утешить. Она предложила похоронить куклу в коробке из-под обуви. Но стояла зима, лежал толстый слой снега, никаких полевых цветов не было, и поэтому она ничего не сказала. В глубине души ей было даже приятно, что у нее нет куклы, и потому терять ей нечего. Какое-то время спустя она сидела перед высоким шкафом. Большая комната. Окна как будто выросли, и гардины стали им малы, они висят, образуя над подоконником неровную линию. Они похожи на платье, которое досталось девочке после другой, уехавшей из приюта. Платье слишком короткое, на рукавах у него оборки. Девочка должна надеть его Семнадцатого мая[15]15
Семнадцатое мая – День принятия норвежской конституции – национальный праздник Норвегии.
[Закрыть], но только на один день. Абажур, белый стеклянный шар, свисает с потолка на металлической трубке, которая кончается блестящей металлической крышечкой. Холодный белый свет льется на девочку, и ей от него холодно. Дверцы шкафа открыты. Внутри на полке стоит пятнадцать коричневых деревянных ящиков. В них дети хранят свои игрушки. У девочки есть свой ящик. В нем она хранила деревянный пенал с большим плотницким карандашом и отделением для ластика. Но пенал исчез, и девочка не решается спросить, не видел ли его кто-нибудь из детей. Там же в ящике лежали еще два кубика, которые когда-то были красные. Таких кубиков было много, но ее кубики тоже исчезли.
Я купила двух кукол-близнецов. На них были балетные платьица и на головках пышным облаком вились волосы невообразимых тонов. Продавщица бережно завернула кукол в шелковистую бумагу. Потом положила в специальные картонки, которые было удобно нести. Лишь выйдя из магазина, я вспомнила о дочках Франка. По крайней мере, мне показалось, что это было уже после магазина. Если бы Франк был здесь, я бы предложила ему взять этих кукол для своих девочек.
По неосторожности я сказала об этом Фриде. В ее молчании было столько сочувствия, что я заплакала.
Предчувствие того, что должно случиться
Мы ехали через безобразные предместья Дрездена, мимо заброшенных домов и разрушенных лагерных бараков. Движение на шоссе могло кого угодно свести с ума, во что мы тоже внесли свою лепту. Союзники полностью разбомбили Дрезден уже после конца войны. Так сказать, справедливая месть немецкому народу.
– Хорошо вернуться домой в Берлин! – неожиданно сказала Фрида.
– Пожалуйста, смотри на дорогу! – ответила я и постаралась отмахнуться от этого слова, как от всего, что нам мешало.
Не помню, чтобы мне когда-нибудь пришло в голову назвать домом место, где я жила. Очевидно, я говорила просто: «Мне пора идти», или «Я хочу лечь», или «Я ухожу».
Слова «Мне пора домой» часто вызывали во мне неприязнь к тому, кто их произнес. Я понимала, что это несправедливо, но это ничего не меняло. Франк обычно говорил: «Мне пора домой!». Маленькое словечко «пора» означало, что он вынужден уйти, хотя и не хочет этого. И, тем не менее, день был уже испорчен. Еще и потому, что я не могла попросить его не говорить этого.
– Мне всегда что-то мешает. Расположение, комната, здание или же атмосфера. Слово дом не имеет ни субстанции, ни характеристики, – призналась я.
– Прости! – сказала Фрида, что было не в ее характере.
– Между прочим, мне сегодня приснилось, что я оказалась гостьей в доме, где было много народа. Казалось, там царит совершенная идиллия. Но постепенно выяснилось, что ко мне это отношения не имеет. Люди ходили, занятые своими делами, или же сидели и негромко болтали друг с другом. Ко мне никто не обращался. Я пыталась понять, почему я пришла в этот дом, но никто не хотел со мной разговаривать. Они обсуждали между собой обстановку, предстоящий обед, приглашенных гостей, полотенца, которые следует повесить, и тому подобное. Комнаты были в образцовом порядке, всюду цветы, красивая мебель, картины, яркие краски. Женщин было больше, чем мужчин. Мужчины по какой-то причине держались на заднем плане, в соседних комнатах, или же я видела их через окно. Неожиданно наступила ночь, и все заснули там, где стояли, сидели или шли. Словно застыли в различных позах, как манекены в витринах дорогих магазинов, торгующих мебелью или всякими хозяйственными товарами. Я ходила по темным комнатам. Вскоре послышался звук, похожий на жалобный голос. Когда я открыла дверь, ведущую в подвал, он стал громче. Нехотя я спустилась по узкой лесенке и попала в большую комнату, посреди которой стоял матрац. На сером шерстяном одеяле лежала девочка, нижняя часть ее туловища была скрыта покрывалом. Она, съежившись, плакала, лежа на боку. Жалобный голос принадлежал ей. Постепенно я поняла, что она пытается кричать: «Мама, иди ко мне!». Слов было почти не разобрать. Когда я подошла и хотела к ней прикоснуться, она исчезла. Но я знаю, что она там была.
– Ты должна была заявить на них, когда выросла, – сказала Фрида.
– Мне было стыдно, и я ничего не смогла бы доказать. Не я одна была в таком положении. Ведь такое случалось не каждую неделю.
– И ты никогда никому об этом не говорила?
– Нет, это бы ничего не дало.
– Ну как же! Все бы раскрылось. Так перестали бы поступать.
– Один мальчик написал об этом своим родственникам. Письмо обнаружили и, конечно, не отправили по адресу. А мальчика вызвали в кабинет к директрисе. Попечитель приюта тоже там присутствовал, он всегда помогал… нас наказывать. Думаю, он давал приюту деньги. А может, мне все это только приснилось.
– Что стало с мальчиком, который написал письмо?
– Как обычно, на какое-то время его заперли в подвале. И все дети должны были обещать, что никогда не станут говорить дурно о нашем приюте и о тех, кто там работает. А с мальчиком все было в порядке. Кто-то все-таки вынес тот случай за стены приюта. Но это была не я.
– Ты помнишь какие-нибудь подробности?
– Нет, доказать ничего невозможно. Люди подумают, что мне все это приснилось. Или я все придумала. Ведь я сочиняю книги. На действительность нельзя полагаться. Она ускользает. Кое-что из действительности лучше забыть. Надо жить дальше.
Фрида сосредоточилась на дороге. Большой дорожный знак предупреждал о сужении дороги из-за ремонтных работ. Мы въехали в узкий коридор с забором по обе стороны. Там было однополосное движение, и какой-то трейлер, как всегда, пытался протиснуться вперед. Но Фрида упрямо настояла на своем праве и не пропустила его. Водитель трейлера посигналил, и Фрида лишь сморщила нос в ответ на его гудок. Она победила, но меня била дрожь.
– Тебя не раздражает, как я веду машину? – спросила она, когда мы выехали на шоссе с трехполосным движением, и машины уже не мешали друг другу.
– Нет.
– Вот так всегда. Человек редко говорит о том, о чем он действительно думает, или о своих чувствах. Большая часть разговоров – чистый камуфляж. Настоящая жизнь редко, или никогда, не всплывает на поверхность. Она существует только в голове человека.
Дождь хлестал в лобовое стекло и «дворники» трудились изо всех сил.
– Думаешь, между нами есть прямая зависимость, так сказать, метафизическая связь, такая же, как между вымыслом и действительностью? – спросила я.
– Да! И между тобой и ребенком в подвале тоже. Напиши об этом, – сказала Фрида.
– Об этом… Для этого невозможно найти слова.
– Почему?
– Чтобы об этом написать, надо от этого отстраниться, а я не могу, – призналась я.
– Как же можно говорить, что ты хочешь покончить с прошлым, если ты не в силах даже отстраниться от него?
Я не ответила.
– Ты должна писать о жизни, не думая о том, что это может тебя скомпрометировать, разоблачить или выставить в невыгодном свете. Не думать о том, что это может повлиять на отношение к тебе окружающих. Даже если кое-кому, кто, возможно, не смеет признать собственную жизнь, не понравится то, что ты им преподнесешь, у тебя должно хватить смелости преподнести им это. Ты должна доверять первой же мелькнувшей у тебя мысли. Той, которая позволит тебе в нужное время найти нужные слова. Ты должна разрешить читателю принять или не принять твой рассказ, ужаснуться и разгневаться. Пусть он отложит книгу, потому что ему не нравится то, что ты ему даешь. Это его дело, не твое. Может быть, читателю важно презирать кого-то. Или ненавидеть. Даже сперва любить, а потом ненавидеть. Или наоборот. Пиши о том, о чем вообще невозможно написать в совершенстве. В действительности абсолюта не существует, но вымыслу нет до этого дела. Ты должна написать о снах, о которых никто не просит тебя писать. Только так ты сможешь вызволить нас из подвала, – закончила Фрида.
Мы остановились на площадке для отдыха. Поставили машину под кленами с видом на три зеленых контейнера для мусора. Там мы съели взятые с собой бутерброды и запили их горьким кофе из «Гранд Отель Европа».
– Поедим по-настоящему, когда приедем домой, – сказала Фрида, изучая карту. – Пойдем прямо в ресторан «Зорба» и там поедим, мы заслужили хороший обед.
Я представила себе этот греческий ресторан и почувствовала запах скампи[16]16
Скампи – моллюски (ит.).
[Закрыть] на шампуре и вкус аниса в бокалах, налитых нам в честь возвращения. Увидела портрет Че Гевары на полке с рюмками и маленькими бутылочками, словно речь шла о посещении какого-нибудь старого родственника.
– Так мы и сделаем, – согласилась я и вытащила зонтик, сунутый за сиденье после предыдущего посещения уборной.
Через несколько минут мы выехали на шоссе. «Дворникам» на стекле приходилось справляться с настоящим водопадом. Старое восточногерманское покрытие дороги поглощало огни идущих навстречу машин, и деревья черной стеной нависли над правой полосой. Ничего не стоило врезаться в чужую машину.
– Я должна кое в чем тебе признаться, – сказала Фрида.
– Слушаю.
– Я позвонила Франку в магазин. Никто не снял трубку.
– О чем это ты?
– После этого я позвонила его матери и выдала себя за его партнера по бизнесу. Она сказала, что Франк не был у нее уже довольно давно и попросила меня позвонить ему домой. И даже дала мне номер его телефона.
– Фрида! – воскликнула я, чувствуя, что дорожно-транспортное происшествие совсем близко.
– Я поговорила с его женой. Сказала, что у меня с ним была назначена деловая встреча и спросила, почему его нет в магазине. Сначала она выдала себя за няню своих девочек, которой ничего неизвестно. Но потом призналась, что она жена Франка, она была в ужасном состоянии.
– Когда ты звонила в Норвегию?
– Перед нашим отъездом из Праги.
– И ты говоришь мне об этом только теперь?
– Я вообще не хотела говорить тебе об этом. Но потом у нас был этот хороший разговор о… Мой телефонный разговор мог быть решающим для того, как сложатся отношения героев в твоей рукописи.
– Почему ты позвонила?
– Я же тебе объяснила. Рукопись. Мне хотелось узнать, что делает Франк. Права ли ты, предполагая, что он нас преследует.
– А он нас преследует? – Мне стало трудно дышать.
Большой грузовик намерился втиснуться перед нами. Фрида нажала на газ, давая понять, что не собирается пропускать его вперед. Я почувствовала удушье.
– Судя по его жене, не похоже, – сказала Фрида. – Но я не могла прямо спросить у нее об этом.
Грузовик сдался, но теперь какой-то трейлер пожелал перестроиться в полосу слева от нас. Реакция Фриды была молниеносной, она притормозила, чтобы избежать столкновения. Тяжелый корпус машины с прицепом словно присосался к дороге и протиснулся вперед. Как раз вовремя, чтобы Фрида успела свернуть в открывшийся проем.
– Я думаю, Франк занял деньги у влиятельных друзей, которые прибегли к неортодоксальным способам, чтобы вернуть их, – сказала она.
– Что ты хочешь этим сказать?
– Только то, что он взял кредит у людей, которые не пользуются услугами банков. У них свои методы.
– Я этого больше не выдержу. Давай вернем ему его деньги и попросим прощения, – предложила я.
– Что за глупости! Он все равно не станет отдавать из них свой карточный долг. Разве что они пригрозят его убить.
– Убить? Не шути такими вещами! – взмолилась я.
– Я не шучу. И мы не виноваты, что он проиграл в карты столько денег.
– Прекрати! Между прочим, откуда ты знаешь, что у него карточные долги?
– Я ничего не знаю точно, но интуиция мне подсказывает… – вздохнула она.
– Ты не говоришь мне всей правды, – возмутилась я.
– У всякой правды бывает тайный умысел и смягчающие вину обстоятельства. Кредиторы Франка опаснее для него, чем он для нас.
– Ради бога, расскажи мне все! – взмолилась я.
– Я разговаривала с его женой и матерью. Опираясь на их слова, я пытаюсь представить себе, что там происходит.
Хорошо, что не я вела машину, а то мы уже давно были бы в кювете.
– Как тебе могла прийти в голову такая безумная мысль?
– Я так и знала. Ты считаешь, что любая правда ведет к катастрофе. Но правда может оказаться и выходом из сложного положения. Не только у тебя трудности с Франком, у нее тоже. И сейчас ей хуже, чем тебе. Он снова обманывает ее. Она хочет покончить с этим. Но все дело в детях… Сперва она решила, что я новая любовница Франка. Бедняжка!
– Тебе ее жалко?
– Тебе тоже, только ты в этом не признаешься.








