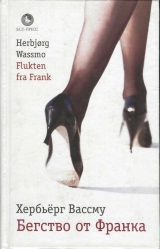
Текст книги "Бегство от Франка"
Автор книги: Хербьёрг Вассму
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 24 страниц)
Красный телефон
Когда на кухне зазвонил телефон, я писала в гостиной. При первом же звонке мне показалось, что нас обложили, но все-таки я позволила ему звонить дальше. Не станет же Фрида звонить по своему собственному телефону. Значит, это был кто-то другой.
Я углубилась в работу, мне хотелось использовать время, пока мы жили в Берлине. Фрида много гуляла, а я старалась не выходить из дому – люди, которые по той или иной причине шли у меня за спиной, вызывали во мне тревожное чувство. Иногда мы с Фридой только завтракали вместе за маленьким столиком на кухне, но не разговаривали. Потом я возвращалась к работе, а она куда-то уходила.
Но вот сегодня зазвонил телефон. Я пошла на кухню, чтобы посмотреть, с какого номера звонят или прочитать оставленное сообщение. Франка раздражала моя тупость в технических вопросах, и это свое раздражение он обрушивал на меня, когда ему наконец удавалось до меня дозвониться. Я не возражала ему. Напротив, всячески показывала, что понимаю его.
Собираясь узнать, кто нам звонил, я первым делом подумала, что это мог быть Франк. Риск, что это он, подействовал на мой кишечник и заставил пульс биться, как после тяжелой тренировки.
В Осло извинения Франка меня мало интересовали. Услышав звонок телефона или увидев, что мне оставлено сообщение, я понимала, что Франк не придет. Из-за этого, а вовсе не из-за причины, которая мешала ему прийти ко мне, у меня как будто воспалялась вся нервная система. Однако здесь, в Берлине, мысль, что это звонит Франк, окончательно доконала меня. Похоже, все оборачивалось к худшему. Словно этого было мало, телефон издал «би-ип», как только я взяла трубку. На этот раз мне удалось найти сообщение, сделанное по-норвежски: «Помнишь наш уговор? Дети пристроены. А вообще все ужасно. Нужно укрытие».
Я бросилась в гостиную и там обнаружила, что все еще держу в руке этот красный телефон. Задохнувшись, я вернулась на кухню и положила его туда, где он лежал до звонка. Словно этого было достаточно, чтобы звонок стал воображаемым, прозвучавшим только у меня в голове. Потом я набрала стакан воды и выпила его, не отходя от мойки.
От кого было это сообщение? От Франка? От его жены? О чем договорилась Фрида? Я вдруг подумала, уж не собирается ли она покинуть меня? Может, я потеряю ее так же легко, как и нашла? Или это она меня нашла? Я ничего не говорила ей об этом, не благодарила ее, но это она выбрала меня.
Я снова подошла к телефону, чтобы, если возможно, узнать, с какого номера нам звонили. Сразу я этого, конечно, не увидела. С изощренной осторожностью я попыталась выяснить номер. Только затем, чтобы понять, что он мне неизвестен. Однако мне стало легче, когда я поняла, что звонил не Франк. А еще я поняла, что в кругу моих знакомых я самая трусливая. И хотя круг этот был невелик, но тем не менее… Еще за завтраком я приняла последние успокоительные таблетки, больше у меня их не было.
Посидев в уборной, я вернулась к письменному столу. Где-то ведь мне надо было находиться. Чтобы доказать себе собственный оптимизм, я захватила с собой поллитровую пластмассовую кружку воды. Снова зазвонил телефон. На этот раз я быстро бросилась на кухню и схватила его.
– Слушаю?
Молчание, странное шуршащее молчание. Но ведь я знала, что там кто-то есть!
– Это ты?
– Да, – ответила я, не думая о последствиях.
– Еще раз здравствуй! Не могла удержаться и позвонила. Мне нужно с кем-нибудь поговорить. Ты получила мое сообщение?
– Да.
– Не узнаю твой голос. Что-нибудь случилось?
– Нет. – Я помолчала ровно столько, сколько было нужно, чтобы после паузы в трубке снова послышался женский голос:
– Он говорит, что они не уступают. Дело идет к гибели…
– Кто они?
– Господи, ты же знаешь!
Я нажала на красную кнопку и пришла в себя, только услышав чье-то астматическое дыхание рядом с собой.
Телефон зазвонил снова, я не ответила. Но оживить рабочий день было уже невозможно. На мониторе компьютера не появилось ни одного нового слова. Мозг работал, как мидия в солоноватой воде без кислорода. Отравление уже началось. К тому же у меня зачесалось запястье в том месте, где пульс. Я пошла в ванную и попыталась смыть зуд. Как я и думала, это почти не помогло. Я взяла мазь, которую хранила в пластиковом пакете из Ка-Де-Ве.
Намазав руку, я села к кухонному столу, чтобы осмотреть корпус Фридиного телефона. На одном конце была трещина, оставшаяся после того, как он упал на землю. Если поковыряться в этой трещине, он, может быть, замолчит. Но как я объясню Фриде, что телефон сам расковырял себя до смерти?
Пока я там сидела, свет за окном изменился. Над вершинами голых деревьев небо полиловело. У соседних домов вспыхнули желтые глаза. Один за другим. Несколько раз хлопнула дверь на заднем дворе. Этот стук испугал меня, хотя я знала, что в нем не было никакой угрозы. Я выпила еще воды. Во всем виновата только я. Конфликт происходил не вне меня, а в моей голове. Мне так трудно со всем остальным миром, потому что в моей голове все занимает слишком много места. И передо мной возникло tableau:
Девочка идет одна в темный хлев. Стоит зима, или конец осени. Красная краска облезла, особенно с наветренной стороны, там ветер дует сильнее. На месте исчезнувшей краски появляется серость. На чердаке, где когда-то лежало сено, между досками зияют большие щели. Во время дождя в них прячется небо. Девочка входит в скрипучую дверь. Пахнет старой, замерзшей сенной пылью. Солнце проникает в хлев и бросает на пол полоски. Странно, ведь эти полоски не настоящие, они существуют только в ее голове, потому что только она видит их в эту минуту. Ночью там ничего нет. Никаких полосок. За хлевом видны замерзшие деревья. Она одна во всем мире смотрит отсюда на деревья. Через щели в стене. Нужно войти в хлев, чтобы увидеть мир именно таким. Внутри пахнет сухим навозом и полом, который никто не подметал уже много лет. Во всяком случае, пока была жива ее мать. Если войти в стойла, можно увидеть цепи, которыми когда-то приковывали животных. Можно поднять их и послушать, как звякают замерзшие звенья цепей, теперь они уже никого не держат в плену. Можно открыть жалобно скрипящую дверь и ощутить, как по помещению проносится невидимый ветер. Можно слушать свои шаги и чувствовать, что пальцам уже тесно в башмаках. Рано или поздно ей придется пересечь поле и вернуться в большой дом к действительности. Но пока что девочке хочется стоять здесь и наблюдать за тем, чего не видит никто другой.
Я и словом не обмолвилась о том, что ковырялась во Фридином телефоне. Она тоже ничего не сказала. Скрыв это от нее, я нарушила существовавшее между нами доверие. Но ведь и она тоже многое от меня скрывала. Эпизоды всплывали сами собой. Она говорила с тем известным актером в Абано-Терме и поехала с ним в больницу. Но ничего не сказала мне о нем. А ее разговоры по телефону с женой Франка, которой она якобы ничего не обещала!
Фридино слово стало как будто законом. Если она сказала, что не обещала, значит, так и есть, хотя я собственными ушами слышала совершенно другое. Если Фрида считала, что я могу с чем-то справиться, я справлялась. И вот теперь – если Фрида ничего не сказала про телефон, может, все это надо считать пустяком? Чем-то, что существовало только в моей голове?
Однако недоверие уже грызло меня, как термит. И термитов становилось все больше. Фрида гуляла по городу, пока я сидела и писала. Она была свободна, а я была рабыней. Мне тут же пришлось внести поправку, потому что это было несправедливо. Но что, собственно, я знала о ней? Разве она рассказывала мне о людях, с которыми встречалась? И этот женский голос, наверняка принадлежавший жене Франка? Какую игру вела со мной Фрида? И знал ли обо всем этом Франк? Может, Фриде было поручено следить за мной, пока я храню деньги, которые не должны были попасть к его кредиторам?
И тут же у меня возникла мысль: кто из нас, Фрида или я, решил, что мы можем воспользоваться деньгами Франка? Отправиться в путешествие предложила она. Но кому первому пришла в голову эта мысль? Если признаться, пусть даже только самой себе, что все это придумала я, кто же я тогда на самом деле? Я, заставившая Фриду совершить все эти страшные, темные поступки?
Одно дело, если о чем-то умолчала Фрида, другое дело – я. Не знаю, что хуже. Но, независимо от этого, я не имею права ее судить. Она много значит для меня. Какие бы не были у нее планы, в которые она меня не посвятила, я должна быть ей благодарна за то, что не сижу сейчас в Осло и не жду, когда наконец Франк отделается от своей чесотки и от своей жены. Разве что мне хотелось бы пройтись по книжным магазинам на Бугстадвейен и Хегдехаугсвейен, а также заглянуть в «Танум» на улице Карла Юхана, чтобы незаметно поставить свою книгу рядом с каким-нибудь глупым бестселлером. Я бы бродила поблизости, боясь, что меня поймают на месте преступления. Это, безусловно, было бы унизительно, но не смертельно. Я помнила унижения так же долго, как слоны. И передо мной возникло tableau:
Девочка просыпается утром, ей приснилось, будто она исчезла. Никто ее не видит, хотя она уже встала. Она открывает глаза и по лицам других детей понимает, что приснившийся ей сон – правда. Она сидит в уборной и никто не открывает дверь и не смеется над ней, моется, и никто не подгоняет ее, одевается и никто не заговаривает с ней, не смотрит на нее. Она идет завтракать и становится в первой шеренге. Она чувствует, как они толкают ее, но тут же пробегают дальше. Сила толчка зависит от того, как быстро бежит то либо другое тело ей навстречу и от его тяжести. И как раз когда она становится видимой, она чувствует удар по щеке:
– Уйди с дороги, дура!
– Мы должны сейчас же уехать отсюда! – сказала Фрида.
– Что за спешка? За тобой кто-нибудь следил?
– Нет. Ты просто забыла, что наш договор на квартиру кончается первого февраля. Это ты ни за чем не следишь. Помнишь, по пути из Италии мы остановились в Мюнхене и говорили о том, что нам не стоит возвращаться в Берлин, а лучше поехать через Прованс в Барселону? Но ты тут же вспомнила о договоре с владельцами квартиры и сказала, что не можешь исчезнуть ни с того ни с сего. И что у тебя в Берлине остались книги. Ты всегда находишь отговорки, которые все усложняют. Тебе кажется, будто современное общество – это утопия. Но договоры можно заключать по телефону, а книги пересылать почтой.
Прошло два дня с тех пор, как я слышала женский голос по Фридиному телефону и тут же связала наш спешный отъезд с этим голосом. Еще у меня было смутное чувство, что Фрида знает о моем телефонном разговоре, но молчит. Может, у нее есть основания считать, что я отнеслась к этому серьезно и потому не хочу говорить об этом? Или что я просто забыла о том звонке, потому что не придала ему значения?
– Сначала нам надо зайти в аптеку. Моя баночка почти пуста, – глупо сказала я.
– Нам? На этот раз тебе придется пойти самой! – сердито сказала она.
В моем немецко-норвежском словаре чесотка называлась kratze или raude. Но я не могла даже представить себе, как я произнесу это вслух.
– Я не знаю, как это называется.
– Помнишь то воскресенье перед Рождеством? В старом пакгаузе, а может, это бывшее заводское помещение, была устроена выставка промышленных товаров недалекого восточно-немецкого прошлого. Там еще была башня, сооруженная из бумажных коробок? На каждой коробке была реклама домашней утвари, продуктов и всяких предметов для дома и семьи?
– Да. – Я увидела перед собой картинку с ползающими существами, увеличенными не меньше чем в миллион раз. Шесть ножек, два усика и на конце блестящего членистого туловища что-то похожее на ножки для упора. Scaben, было написано в левом верхнем углу. А внизу скромно красными буквами было выведено название, которое следовало называть в аптеке: Delicia.
– Ну пожалуйста… – взмолилась я.
Фрида на мгновение задумалась.
– Хорошо! – быстро сказала она. – Я схожу в аптеку и закончу свои дела. А ты упакуешься и через два дня будешь готова!
– Мне еще надо постричься, – жалобно сказала я.
– Прекрасно! Это ты можешь сделать сегодня. После этого мы встретимся у «Демокрита» и выпьем по бокальчику вина.
Парикмахер Франк оказался занят, так что все было иначе, чем в прошлый раз. Однако я попрощалась с ним и покинула салон с волосами, попавшими мне за шиворот.
Небо состояло из нескольких серых слоев. В одном месте там, наверху, дул сильный ветер. Серые слои быстро передвигались. Высокие трубы выплевывали какую-то шерсть. Было холодно. Голые деревья растопырили над площадью Шамиссоплац черные пальцы. Содержимое мусорных контейнеров свисало над тротуарами, метя свою территорию. Падавший на все желтый свет не внушал доверия. И все-таки один ящик на балконе с увядшими трупиками цветов был холодного синего оттенка. Острый силуэт чугунной кованой решетки загораживал его от всего мира.
Даже в самом безобразном можно найти красоту, думала я, осторожно переставляя ноги. Скользкая брусчатка караулила мои шаги, безуспешно стараясь свалить меня на землю.
Когда мы уже сидели в кафе, я заметила, что Фрида чем-то довольна. И даже подумала, не рассказать ли ей о телефонном звонке. Но тут же отбросила эту мысль. Это испортило бы нам весь вечер. Вместо этого я сказала:
– Странно, но больше всего мне нравится беседовать с тобою в кафе. А тебе?
– Ты имеешь в виду о твоем романе?
– И о нем тоже. И вообще…
– Сколько страниц ты сегодня написала?
– Я же ходила к парикмахеру. Почему ты все время пристаешь ко мне с моей книгой?
– С нашей книгой, – поправила она.
– Почему бы тебе самой не написать этот роман, если ты так хорошо знаешь, каким он должен быть?
– Расслабься! Тот, кто тебя слушает, может оказаться умным. Разве не я заставила тебя осуществить это замечательное путешествие? – заявила она.
– А разве не я пишу эту книгу? Разве не я решаю, что в нее попадет и когда она будет готова? Если она вообще будет когда-нибудь дописана, – дрогнувшим голосом сказала я.
– А я поставила перед собой цель помочь тебе использовать весь твой потенциал.
Когда Фрида ставила перед собой какую-нибудь цель, у меня по спине бежали холодные мурашки. Это уже стало привычкой.
– Сожалею, но я не люблю говорить о том, что я пишу, – смущенно сказала я.
– Но я участвую в твоем вымысле, верно? И играю главную роль?
– Насчет роли я не совсем уверена… В книге говорится не только о тебе, хотя, конечно, ты в ней участвуешь, – уклончиво ответила я.
– Хочешь сказать, что я напрасно все эти месяцы ходила перед тобой на задних лапках? Что я не играю в рукописи главной роли? Если ты пишешь личную историю, значит, я должна играть в ней главную роль!
– Посмотрим. – Мне хотелось перевести разговор на другую тему.
– Что там еще случится в твоем романе? Франк к нам приедет? Это будет драматично?
– Это не криминальный роман, скорее, это монолог. Я пытаюсь написать, о чем человек думает в течение нескольких месяцев, – сказала я тоном, который, как я считала, не допускал никаких возражений.
Фрида фыркнула:
– Монолог, говоришь? А кто сидит здесь и обсуждает все с тобой? Кто чувствует тревогу или голод? Кто все время старается удержать то или другое чувство, чтобы ты смогла написать о них? Кто позволяет морочить себе голову твоими tableau? Жаждой? Какой-нибудь идиотской радостью? Или пустяками? Писатель, сам того не желая, все время угрожает своему роману. По-моему, ты не понимаешь своей роли в собственном творчестве. Ты уверена в себе, как арендатор, не понимающий, что не он распоряжается землей, а земля – им. А меня, свою единственную движущую силу, свое спасение, ты всячески игнорируешь. Тебе никогда не приходило в голову, что моя роль значит для тебя все? Меня, только меня ты должна благодарить за свои отношения с Франком! А вместо этого ты ханжески на меня нападаешь, потому что я не стала такой, какой тебя хотели сделать в приюте и против чего ты не могла противиться даже много времени спустя.
– Ты участвуешь в моей книге, Фрида. Но как второстепенное действующее лицо.
Я выковыривала из пиццы жареную паприку и аккуратно складывала вялые красные лоскутки на краю тарелки.
– Бывает, кажется, что ты держишь в руках тот или другой персонаж, но в процессе работы он от тебя ускользает, – прибавила я, надеясь, что Фрида поймет, что я говорю о ней.
– Твой редактор объяснит тебе, что моя роль в романе самая важная! Ведь это я выбрала тебя!
Я нехотя жевала пиццу, пытаясь придумать, как отвлечь ее мысли от моей книги.
– Что-то я не совсем понимаю, Фрида, на чьей ты стороне?
– Ну вот, видишь? Опять эта твоя подозрительность. Ты мне не доверяешь. И не доверяешь своей рукописи. Нельзя давать людям только то, чего, по твоему мнению, они ждут. Вспомни разные книги. Разве тебя, как читателя, мучит, что ты получаешь книгу, какой не просила?
– Нет, но ведь это совсем другое, – нерешительно сказала я. – Меня интересует сама история.
– Вот именно, и Фрида! Ты должна написать эту историю. Ты бежишь не только от Франка, в не меньшей степени ты бежишь и от самой себя. Пустота. Жизнь, мало похожая на жизнь. Потребность писать, чтобы хоть чем-то заполнить ее.
Я не нашла, что ответить. Запястье над пульсом чесалось. Маленькая цепочка небольших красных пятнышек проявилась вдоль толстой синей вены, которая к большому пальцу выглядела, как трезубая вилка. Сперва я с ожесточение скребла это место ногтями, но сообразив, что Фрида наблюдает за мной, стала лишь осторожно поглаживать его кончиками пальцев. Спокойно. Очень спокойно.
– И еще одно, – почти дружелюбно сказала Фрида. – Нет у тебя никакой чесотки! Вообще нет. Никакой!
– Откуда ты знаешь? – спросила я, оглядывая помещение. Кроме нас, в углу сидела молодая пара, но они были заняты исключительно собой.
– Хочу тебя убедить.
Я не ответила, сделала большой глоток из стакана и махнула рукой официанту, чтобы он принес мне еще воды, хотя я не допила и ту, что у меня была. Такой приступ жадности удивил меня самое.
– Разве я не права? – спросила Фрида.
– У тебя тоже есть свои тайны, – вырвалось у меня.
– Какие же?
– Тебе звонят какие-то люди. Мы договорились, что порываем всякую связь с прошлой жизнью. И вдруг ты за моей спиной…
– Вон оно что! Ну, наконец-то! Разве я не рассказала тебе про Аннемур? Ты просто все забыла. Но я могу повторить. У Франка неприятности, к тому же у него новая любовница. Аннемур же в наследство достались его кредиторы и их общие дети. В определенном смысле это типичное положение современной женщины. Во всяком случае, последнее. Аннемур, со своей стороны, отдала детей сестре и ушла в подполье. Но она утверждает, что получает угрозы по своему мобильному телефону и днем и ночью, потому что кто-то думает, будто она располагает деньгами Франка. Ты следишь за моими словами?
Я смотрела в стакан. В воде плавали кусочки пробки. Один приклеился к внутренней стороне стакана. Я осторожно опустила в стакан мизинец и вытащила его.
– Ты хочешь сказать, что мне должно быть их жалко? Что я должна перевести оставшиеся деньги на его или ее счет? Что мы должны вернуться в Осло?
– Нет, зачем же. Ты не должна жалеть Франка. Напротив. Нам осталось нанести ему последний удар.
– Какой же?
– К нам приедет Аннемур! И тебе сразу станет легче. Она вдохновит тебя, объяснит тебе роль Франка. Кроме того, позволив ей тратить вместе с нами его деньги, ты облегчишь свою совесть. Нечистая совесть не для таких, как ты. От нее у тебя начинается недомогание и появляется зуд.
– Ты хочешь все ей рассказать?
– Ты с ума сошла? Таким женщинам всего не рассказывают. Поэтому она неотразимо действует на Франка.
– А если она наведет на нас тех людей? Ведь деньги все-таки у нас?
– Им об этом не догадаться. Думаешь они умеют читать мысли на расстоянии?
– Кто знает? Но тебе не приходило в голову, что Франк, может, для того и посылает к нам свою жену, чтобы разоблачить нас или отомстить?
– Франк не такой! – отрезала она.
– Отношения с Франком научили нас тому, что мало раздеть мужчину догола, чтобы узнать о нем все, – буркнула я.
– Конечно, но в ту минуту, когда ты закончишь раздевать его, наружу выплывет его суть. Франк – хороший дипломат и умеет лгать. Во всяком случае, умеет обращаться с правдой так, как ему выгодно. Но рано или поздно он выдает себя женщинам вроде меня.
– Ты говорила с ним по телефону? – вырвалось у меня.
– Это что, перекрестный допрос?
– Называй, как хочешь. По-моему, пришло время нам обеим лучше познакомиться друг с другом.
– Тебя-то, Санне, я хорошо знаю.
– Возможно, но, по-моему, я не знаю тебя. Зачем ты меня мучаешь, не говоря мне всей правды?
– Я пытаюсь защитить тебя от мелочей, которые ты раздуваешь до размера катастрофы. А это мешает продвижению романа. Собственно, оскорбленной должна быть я – ведь ты не все открываешь мне. Каждый день ты что-нибудь да скрываешь от меня, например, какую роль ты решила отвести мне в своем романе. Несколько раз мне казалось, что ты отвела мне роль горничной или компаньонки, помогающей тебе развеять скуку. А иногда ты посылаешь меня к черту и пестуешь только свои фобии.
Типично для Фриды. Стоит ее немного прижать, она повернет разговор так, что мне приходится защищаться. Но сейчас я не хотела защищаться.
– Мы пригласили к нам Аннемур, чтобы она могла скрыться вместе с нами. Теперь осталось объяснить ей, что жизнь без Франка – тоже жизнь. Только так мы сможем нанести ему удар, – продолжала Фрида.
– Я не желаю Франку зла.
– Санне, есть одна вещь, в которую я не поверю ни при каких обстоятельствах, – это твои усилия быть так называемым хорошим человеком. Эта роль тебе не по зубам. К тому же я никогда не встречала никого, кто в таком, мягко говоря, зрелом возрасте имел бы столько поводов для мести, сколько ты. А что касается Франка…
В двери вошел какой-то человек и с вопросительным взглядом направился к нашему столику. У меня бешено застучало сердце, словно хотело вырваться на волю. Я старалась не встречаться с ним глазами. Так было вернее. Из надетой на плечо сумки у него торчал журнал, на котором было написано Мотц. Берлинер Штрассемагазин. Я уже видела раньше этот журнал. Вместо того, чтобы просить милостыню, его продавали в пользу безработных и бездомных.
– Все, я больше не могу. Мы сворачиваем свое путешествие и возвращаемся в Осло, – сказала я и дала человеку с журналом пять евро. С болтающейся на плече сумкой он быстро перешел к другому столику.
– Нет! Мы встретимся с Аннемур в Провансе, – решительно возразила Фрида.
Эти слова грохнули о столик передо мной. Я не спускала глаз с лежащего на нем красного телефона.
По какой-то ассоциации я вспомнила одну нашу прогулку по району, который раньше находился за Стеной. Полупустые стоянки со старыми неуклюжими «трабантами», серые дома, мусор. Кое-где кто-то использовал этот хлам для создания так называемых инсталляций. На старой филенчатой двери было написано: «Не смейся без причины».








