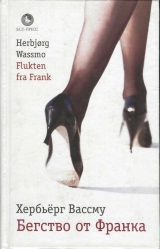
Текст книги "Бегство от Франка"
Автор книги: Хербьёрг Вассму
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 24 страниц)
Хербьёрг Вассму
Бегство от Франка
Ребенок в подвале
Девочка стоит босиком на мокром цементном полу. Высоко в стене маленькое окно, похожее на смотровую щель. На девочке нет ничего, кроме рубашки и штанишек. В подвале холодно. Со всех сторон ее окружают каменные стены. Посреди подвала установлена большая, продолговатая лохань, в ней обычно полощут белье. Лохань похожа на гроб, который девочка видела однажды в церкви, в нем лежал умерший сосед. Девочка знает, что тяжелая дверь подвала заперта снаружи на железный засов. Она смотрит на пол. У ее ног блестит желтоватая лужа. В ней отражается окно в стене, перевернутое вверх ногами. Лужа появилась, когда директриса сказала, что девочка должна просить прощения у Бога и людей за то, что ее «сердце сковано холодом». Но сейчас у нее скованы холодом ноги. Сверху доносятся звуки. Там – все дети. Их голоса проникают и сюда вниз. Дети ходят по лестнице, хлопают дверьми, передвигают стулья. Они о чем-то переговариваются, но разобрать слов она не может, и это означает, что она исключена из их сообщества. Кто знает, сколько времени она уже стоит здесь. Однако свет медленно меняется. Кричит одинокая чайка. Должно быть, чайка сидит на столбе у окна кухни, хотя ей редко что-нибудь кидают. Вот если бы уметь летать, думает девочка. Странно, наверное, парить высоко в небе. Чувствовать упругость воздуха. Нисколько не весить и потому не падать. Стены темнеют, и трещины на штукатурке исчезают. Медленно-медленно. Теперь в доме слышатся уже другие звуки. Ножки стульев скребут пол, кажется, будто налетела непогода. Там, наверху, сейчас ужинают. Потом начинает шуметь водопроводная труба. Гудят голоса. Дети моются. Грязными обмылками. Таков порядок. Чайка больше не кричит. Она уже улетела. Далеко, за острова. Стала волнистой линией в вечности.
Дождь мягко шуршит по окну под потолком. Остатки старой сажи текут вниз, оставляя полоски на гладком стекле. За темнотой проглядывает слабый, вызывающий тревогу свет. Будто там кто-то ходит, светя себе карманным фонариком. Когда шуршание шагов затихает, фигура становится более явной.
– Почему ты пришла? Мы уже давно не дети, – сказала я.
– Тебе опять приснилось, что тебя посадили в подвал. Ты забыла? Я всегда прихожу к тебе, когда в подвале становится темно. Неужели не помнишь? Но сейчас ты уже можешь проснуться. Ты больше не в подвале. Напротив, мы, можно сказать, на крыше. Открой глаза и увидишь, что время работает на тебя. Ты уже взрослая.
Неяркий дневной свет показал, что я не стою на цементном полу. Просто во сне я сбросила с себя перину. Я встала, закрыла окно, надела махровый халат и войлочные тапочки. Включив электрический обогреватель, я подошла к письменному столу и сняла старое покрывало, которым закрываю компьютер, когда не работаю. Когда-то оно лежало на маленькой кроватке, но кроватки здесь больше нет.
Я не могу не писать, если монитор открыт. Тем более спать. Даже в темноте. Мне мешает само сознание, что он не закрыт. Теперь он уставился на меня. Я зажгла настольную лампу. Посидела, склонившись над клавиатурой. Потом начала писать. Как будто верила, что можно увидеть свою жизнь, как тяжелый сон, который наконец кончился. Исчез. По мере того, как подвал отступал, я все отчетливее видела Франка.
Письменный стол был небольшой и стоял не под окном. Там было слишком светло. Стол стоял в темном углу рядом с диваном-кроватью. Он достался мне почти даром от прежнего жильца, и я тщательно его вымыла, прежде чем им пользоваться. На столе не осталось никаких следов от его прежнего владельца, теперь он был просто старым столом из ИКЕА с тремя ящиками. Один – для заметок и важных бумаг, другой для конвертов и писчей бумаги и самый нижний – для вырезок из газет. Я люблю порядок. Это стало едва ли не дурной привычкой. Франк говорит, что моя комната почти стерильна. Но это не комплимент.
Франка не особенно интересует, что я пишу, но мою последнюю книгу он все-таки прочитал. Потому что она оказалась в доме, как он выразился. К счастью, он не сказал, что прочитал книгу потому, что ее купила его жена, как любят оправдываться мужчины, если нечаянно прочли какой-нибудь роман. Мне было бы неприятно думать, что его жена читала мою книгу.
Вскоре ноги у меня согрелись. И чем дольше я писала, тем дальше отступал приснившийся мне подвал.
Франк редко отзывался отрицательно или откровенно обидно, но сказал, что моя книга «странная». Его вообще интересовали только первые прижизненные издания покойных писателей, а в них – переплеты и титульные листы больше, чем содержание. Задолго до аукциона он неделями исходил слюной из-за какого-нибудь старинного переплета. Но это естественно для торговца антиквариатом, которого интересовали главным образом фарфор и старинные издания.
– Если бы люди не довольствовались старой, отреставрированной и тонированной под старину крестьянской мебелью с фальшивыми медными нашлепками, я бы открыл настоящий антикварный магазин и продавал хрустальные люстры, со всей Европы, мейсенский фарфор и старинное норвежское серебро. А в смежном помещении собрания редких книг, изданных не позже 1890 года, – говорил он.
Может быть, он просто облегчал себе жизнь, зарабатывая на вульгарном вкусе людей, но меня это не касалось. Он неохотно продавал то, что ему нравилось. Поэтому он вряд ли разбогател бы на ценных изданиях. Франк зарабатывал на презираемой им крестьянской мебели. Крупные суммы, которые иногда оказывались у него в руках, бывали выиграны на ипподроме Бьерке. Или же он получал кредит. Трудно сказать, у кого. У него случались неприятные разговоры по телефону в самое неподходящее время. Например, когда мы лежали на моем диване-кровати. Несколько раз он отключал свой мобильник, взглянув на номер на экране. И изображал на лице полное равнодушие, что вообще-то было для него не очень характерно.
Я ничего не понимаю ни в деньгах, ни в антиквариате. Вещи, которыми кто-то пользовался, всегда вызывали у меня тревожное чувство. Мне трудно принимать их. А вот Франка, напротив, я принимаю безоговорочно. Очень редко он сонным басом рассказывает мне всякие невероятные истории.
– В моем ремесле взлеты чередуются с падениями, нужно уметь проигрывать. И даже терпеть, если тебя обманут, – говорит он.
Но вообще-то мы разговаривали немного. Я не способна интересоваться мелочами, о которых люди говорят, когда хотят показать, что им приятно общество друг друга. Зато я хорошо слушаю. Франк нуждался в том, чтобы его слушали.
– Ты согласна? – спрашивал он и продолжал говорить, не обращая внимания, ответила я ему или нет. Иногда я брала его за руку, чтобы заставить замолчать. Или улыбалась. Обычно это помогало.
Я пишу медленно. Мягкое постукивание клавишей позволяет мне не терять логической связи. Не уверена, что Франк подходящий персонаж для романа. Мне всегда трудно, когда он забегает ко мне на минутку. Может, он неподходящий персонаж даже для простого рассказа. Его личность не располагает к интригам или обидам. Не говоря уже о горечи, злобе или борьбе. Моя возможность узнать о нем что-нибудь важное весьма ограничена. Я знаю его только по дивану-кровати, если можно так выразиться.
В моих глазах Франк удачливый человек. В силу своего обаяния или чего-то, что трудно определить словами, но чем обладают некоторые люди, он почти всегда получал то, что хотел. Думаю, у него почти не было плохих качеств. А персонаж романа непременно должен обладать плохими качествами.
Если бы моя сексуальная привязанность к Франку не была так сильна, я бы наверняка морщилась от того, что от него пахнет старыми вещами и газетами, лежавшими штабелями в задней комнате его магазина. Единственный раз, когда я посетила салон красоты, мне вспомнился Франк. Я лежала с закрытыми глазами, как обычно лежала с ним. Когда косметолог поднес мне к лицу теплый компресс, я почувствовала необычный запах. Не неприятный. Скорее, он напоминал аромат забытых в миске розовых лепестков, ветра в старом лесу или земли. Этот запах вознес меня на удивительные высоты блаженства. Франк в моем воображении всегда почему-то был связан с роскошью, несмотря на то, что он много времени проводил в подвале.
Однажды я зашла без приглашения на склад его магазина на Индустригата. Движимая отчаянным желанием увидеть его, я рисковала быть осмеянной или выставленной за дверь. Это было нарушением неписаного уговора. Франк не должен был чувствовать, что ему что-то угрожает. Вечер был теплый, и я видела во Фрогнерпарке бесконечные пары, склеившиеся друг с другом на автомобильных пледах.
Он втащил меня внутрь и запер дверь изнутри. И мы сделали это на старой кушетке, судя по ее виду, из какой-то респектабельной квартиры. Возможно из какой-нибудь выморочной виллы на улице Хальвдана Черного, кто знает? Она была обита фиолетово-красным бархатом и окантована тесьмой с кистями, которые раскачивались синхронно с движениями Франка. Сие действие происходило за голубой крестьянской полкой для тарелок из Оппдала и доской для разделки теста из Ёльстера. В большом, холодном подвале. Но не таком, какой часто мне снился.
Маленькое окошко наверху в стене впускало внутрь луч света. Во время наших весьма фривольных усилий я видела, как в луче блестит пыль десятилетней давности. Если эта пыль казалась мне блестящей, то лишь потому, что это была пыль Франка. По непонятной причине я всегда делаю различие между тем, что имеет отношение ко мне или моему телу, и тем, что мне не принадлежит. Иначе я не могла бы жить хоть отчасти беспечно в этом мире.
Лицо Франка было бледное, сосредоточенно-страдальческое. Как всегда, перед тем как он овладевал мною. Мне почему-то казалось, что именно с таким выражением лица он обычно стоял на самой верхней площадке – уж не знаю, сколько метров было оттуда до воды, – и готовился к прыжку на золотую медаль. Или когда он неожиданно узнавал о каком-нибудь выморочном имуществе. Последнее однажды случилось у меня на глазах. Немалая часть жизни Франка проходила в разговорах по телефону.
У него была глубокая складка между бровями, и он то открывал рот, обнажая зубы, то крепко сжимал губы. Ноздри у него всегда были раздуты. Мне было приятно видеть Франка, когда он сосредоточивался, словно бык, которого вот-вот выпустят на манеж. Даже волосы и те были у него сосредоточенны. Несколько волнообразных движений кожей лба заставляли волосы шевелиться, будто они тоже готовились к тому, что сейчас произойдет.
А его дыхание! Тогда в подвале, когда он овладел мной, его дыхание вдруг стало необычным. Оно вырывалось из самой глуби, из каких-то запертых мест. Его звук завораживал. Конечно, легкие и дыхательная система не могут обходится без воздуха, но в тот раз звук издавал, скорее, мозг Франка, его шейные мышцы. Должна признаться, что это добавило не одну искру к тому возбуждению, которое заставило меня прийти к нему. Это было вроде приглашения в его тело. Он оказывал мне большое доверие.
Его руки обладали той же нетерпеливой мягкостью, на которую я обратила внимание, когда впервые увидела Франка в его стихии на ярмарке антиквариата в выставочном павильоне Шёлюст. Широко расставив ноги, он склонился над старой столешницей красного дерева, которую полировал фланелевой тряпкой. Я подошла совсем близко и скромно наблюдала за ним. Это нетрудно, когда человек поглощен антикварным обеденным столом. Пальцы у него были короткие и сильные, ладонь – широкая. Такие руки я видела у пианистов. Это было неожиданностью. Сила, как и гибкость, были одинаково необходимы и пианистам и Франку. Для меня было достаточно увидеть, как он обращается с красным деревом. Коротко остриженные ногти поразили меня своей чистотой – в то время я еще не знала, что Франк буквально отмокал в бассейне несколько раз в неделю. Складки на суставах пальцев были темнее остальной кожи. То же самое я наблюдала у цветных. Это произвело впечатление, которого я не могу объяснить. Во всяком случае, я застыла на месте, хотя у меня и в мыслях не было приобретать обеденный стол на двенадцать персон. В конце концов он поднял глаза, взмахнул тряпкой и опустил руку.
– Привет! Это ты? Вот сюрприз! Тебя интересует антиквариат? – спросил он.
Сперва мне показалось, что вокруг рта у него появились презрительные складки, но потом я вспомнила, что точно так же он выглядел и перед тем, как улыбнулся. Как человек, которому оперировали заячью губу.
– Вообще-то, нет, – честно призналась я.
И тут проявился рефлекс, или даже не знаю, как назвать то, что всегда отличало Франка от всех остальных мужчин. Какая-то презрительная уязвимость. Точь-в-точь как у ребенка, который пытается показать, что ничего не боится.
Три дня спустя он стоял в дверях моей комнаты и протягивал мне солидную серую коробку, тщательно перевязанную крест-накрест, чтобы она не раскрылась.
– Не знаю, любишь ли ты фарфор, но мне хочется подарить тебе эту вещицу. Это Мейсен, и стоит он больше, чем можно подумать. Первый выпуск, двадцать три сантиметра.
Когда он понял, что его слова не произвели на меня впечатления и я не намерена тут же распаковать коробку, он невозмутимо напомнил мне, что эта вещь может разбиться. Я поставила коробку на диван и развязала ее. В ней был павлин с синей шеей и распущенным хвостом. Первой моей реакцией было отчаяние. Павлин показался мне вульгарным, и я не знала, как поблагодарить за него. Я осторожно собрала тонкую древесную стружку и ссыпала ее обратно в коробку, чтобы не насорить в комнате. Если бы она попала на постельное белье, у меня бы начался зуд. Кто знает, где эта стружка побывала и какую таила опасность.
Я видела по Франку, что мне следует выразить восторг.
– Как интересно! А какое искусство! Я не часто получаю подарки… Большое спасибо! – вяло пробормотала я, словно у меня была инвалидность по благодарности.
Павлин из Мейсена стоял на письменном столе и наблюдал за нами желтыми щелками глаз. На каждом безупречно выписанном пере тоже было по глазу. Я старалась не смотреть на него. И вместе с тем пыталась хвалить его так, чтобы это не звучало фальшиво. Точно так же Франк потом благодарил меня за мои книги.
Не знаю, справилась ли я с этим, но перед уходом он пообещал поставить павлина в один из застекленных шкафов в своем магазине на Индустригата. Может быть, он поверил, будто я боюсь, что павлина у меня украдут или он разобьется. Во всяком случае, он унес павлина с собой. Почему я не сказала ему прямо, что это уже слишком? Потому что пожалела его? Или себя, опасаясь увидеть его обиженным?
Мне было важно, чтобы павлин хранился у Франка. Пусть напоминает ему о моем существовании. Частица меня всегда будет с ним.
– Как поживает мой павлин? – спрашивала я иногда. Это была игра.
Он с улыбкой, но очень серьезно отвечал мне. Ответы всегда были разные по форме и по содержанию.
Спасибо, хорошо, но сегодня он ужасно кричал. Думаю, ему тоскливо без супруги. Или: Сегодня мы с ним не обменялись даже взглядом. Он меня просто не замечал. Или: Мне пришлось открыть шкаф и стереть с него пыль. Его перья потускнели, а ведь он должен сверкать. Или: Возможно, я вскоре выпущу его на свободу. Нельзя запирать птицу в шкаф, какой бы дорогой она ни была.
Какой дорогой она была на самом деле я узнала лишь много времени спустя. Однажды я листала каталог у него в подвале. В серии Bunte Vögel[1]1
Bunte Vögel – разноцветные птицы (нем.). (Здесь и далее прим. переводчика).
[Закрыть] была указана цена в германских марках – 5.806,86.
Непонятно, как у меня с моим хронических страхом перед чуланами и подвалами мог быть такой любовник, как Франк. Он часто говорил, что любит меня. Но понимал ли он, что это означает?
Стыд
Время от времени я ходила слушать лекции по литературе, религии, по истории. Я убедила себя, что в университет можно приходить и уходить, когда вздумается, и никому не покажется странным, что ты ни с того ни с сего выдаешь себя за обычную студентку. У меня все было точно рассчитано. Мне это было нужно скорее для души, чем для работы.
В тот зимний день я пришла на лекцию в старое здание университета. Лекцию читал профессор истории религии, весьма уважаемый не только в Норвегии, но и за границей. Мне давно хотелось хотя бы увидеть человека, прославившегося своими знаниями или искусством, а то и познакомиться с ним.
Лекция запоздала, потому что затянулась предыдущая. Такие опоздания не редкость. Это своего рода цепная реакция, происходящая всегда по чужой вине, добровольно никто в таком не признается. Обычно это порождает агрессию и некрасивые выходки. Слушатели, и совсем молодые и в годах, стояли вместе со мной в коридоре и ждали, когда можно будет пойти в аудиторию. Некоторые были сильно раздражены.
В коридоре пахло застарелым потом и страхом перед экзаменами. В запахе тревоги, не имевшей к тебе отношения, было даже что-то приятное. Отчасти этот запах объяснялся обычной небрежностью и нечистоплотностью, но больше – соблюдением традиций и желанием выбиться в люди.
Наконец двери отворились, и толпа ожидающих хлынула в аудиторию. Воздух был нестерпимо спертый. Я нашла место в середине аудитории так, чтобы мне была хорошо видна кафедра и все, что будет происходить. Наконец профессор мог начать свою лекцию. Немного помямлив, он с энтузиазмом заговорил о Большом Взрыве. Я не совсем успевала следовать за его мыслью. Во-первых, потому, что не была готова именно к этому образу, а во-вторых, потому, что мое внимание отвлекала немолодая женщина, которая поминутно что-то искала в своей сумке и тут же снова вешала ее себе на плечо.
Почему-то меня постоянно окружали люди, которые либо стремились в другое место, либо их в данную минуту интересовало что-то совсем другое.
Доска на подиуме была плохо вытерта после предыдущей лекции. Рядом стояли синий, красный, желтый и зеленый стулья и еще высокий, как в баре, табурет непонятного назначения. Был тут также подвесной проектор и относительно новый компьютер. Стены были грязножелтые. Вот в такой обстановке молодому поколению предстоит облагораживаться, а нам, старшему поколению, обретать мудрость, думала я, краснея за норвежское государство.
Вдруг с подиума, или, если угодно с кафедры, донеслось:
– Люди не единственный вид, которому размножение доставляет удовольствие. Но мы обладаем врожденной способностью уничтожать другие существа. В этом отношении мы занимаем высшую ступеньку лестницы. Затем следует назвать нашу способность к изобразительному искусству, что отличает нас от животных.
Я откинулась на спинку стула и пыталась следить за тем, что говорит профессор, несмотря на то, что меня нервировало такое количество присутствующих. Как раз когда во мне затеплилась надежда, что лекция профессора сделает этот день осмысленным, в аудиторию вошла какая-то дама и привлекла всеобщее внимание к своей особе.
– До следующей лекции осталось пять минут, – сказала она высоким сердитым голосом, придавшим ей сходство с директрисой приюта для детей, от которых отказались родители. Или на тюремную надзирательницу.
Профессор растерялся. Наконец в его взгляде появилась твердость. Как будто он столкнулся с чем-то, что, по его мнению, неминуемо должно было случиться, но в то же время ему хотелось, чтобы дама поняла, что он говорит о важных вещах.
– Лисица хитра, – сказал профессор и показал нам изображение лисицы.
И после нескольких минут, во время которых я по вине сердитой дамы не могла усвоить ничего из сказанного, прозвучали такие слова:
– Язык начинается как знак, но теряет свой первоначальный смысл и в конце концов становится звуком. Финиковая пальма первоначально означала «красота». Иначе говоря, слова «женщина как финиковая пальма» значили «красивая женщина»! Это язык клинописи.
Руки профессора двигались как-то особенно выразительно и трогательно. Он листал свои бумаги и несколько секунд пытался понять, что он может сократить в конце, чтобы закруглить свою лекцию по возможности достойно и осмысленно. Но ведь он потерял в начале целых пятнадцать минут! Было очевидно, что он только-только начал завоевывать настоящее доверие слушателей. Его лекция набирала силу, следуя четкому плану – от вступления к сути. Скомкав конец, он подвел итог самому существенному. Но внимание слушателей было уже нарушено.
Я поставила себя на его место, положение было безнадежное. Наверное, он потратил слишком много времени, готовясь к тому, что хотел сказать. Может быть, радовался или страшился. А теперь ему приходилось наверстывать время, отнятое у него другим, дабы потрафить служительнице, которая своим вульгарным визгливым голосом хотела унизить его, человека, пытавшегося сделать свою лекцию предельно интересной и емкой.
Когда дама снова вошла в нашу аудиторию и пронзительным голосом объявила свой вердикт, я вдруг вскочила. Это было ужасно! Я не сразу поняла, что случилось, и смысл моих слов дошел до меня, когда они были уже сказаны:
– Немедленно убирайтесь отсюда!
Поняв, что слетело у меня с языка, я, разумеется, онемела. Но продолжала стоять. На меня смотрели все. В том числе и профессор. В наступившей тишине присутствующие словно забыли о виновнице моего выступления. Ее в аудитории уже не было. Двери были закрыты. Может, мне все это почудилось? Может, никто и не заходил в аудиторию? И ничего не говорил? Может, эта женщина просто понадобилась мне, чтобы оказать сопротивление самой себе? Понадобилась для того, чтобы я могла показать, что я совсем не та, за кого себя выдаю. Но люди, сидевшие в аудитории, обратили на меня внимание и слышали мои слова. Это было видно по их лицам. Они-то были настоящие. Неужели я достаточно сильна для такого поступка?
Когда я пробиралась по рядам под устремленными на меня взглядами, мне все казалось нереальным. На улице меня охватил стыд, у меня задрожали колени и губы. Я решила, что случай в аудитории произошел на самом деле и я имела полное право так на него реагировать. Однако, кроме меня, он по-видимому никого не тронул. Поэтому у меня были все основания стыдиться того, что я разрешила себе действовать по правилам той женщины. Мне было стыдно за людей и, как в цепной реакции, было стыдно, что я приложила силы к тому, чтобы унизить, уколоть и отомстить. Чувство стыда было главным впечатлением, которое я вынесла после той лекции, которую мне так хотелось послушать.
Я прошла через Дворцовый парк и поднялась по улице Хегдехаугсвейен, чтобы зайти в кафе «Арлекин» и выпить там кофе. И вдруг увидела их. Сдвинув головы, они сидели в «Арлекине» за столиком у окна. Вдвоем, без детей. Я сразу поняла, что это Аннемур. Она смотрела на Франка взглядом собственницы, у нее были длинные светлые волосы и темные брови. Глубоко посаженные глаза. Вид у нее был невеселый.
Я не могла ни пройти мимо, ни, тем более, войти внутрь, я просто застыла на месте. Франк не сразу увидел меня, хотя я загородила собой все окно. Было похоже, что ее слова больно задевали его. Что ж, поделом…
Говоря, она оживленно жестикулировала и пыталась поймать его взгляд. И тут он увидел меня. В то мгновение, когда она поняла, что он на кого-то смотрит, у нее на лице появилось выражение усталости. Она с омерзением оглядела меня, как некий ненужный предмет. Глаза у нее были, как у топ-модели на рекламе. Большие, голубые и влажные. Они поблескивали почти грустно и смотрели мне прямо в душу. Я даже ощутила отвращение, которое ей внушила моя особа. И все-таки продолжала стоять у окна. Ее глаза колют, как иглы, подумала я, прекрасно понимая, что это неправда.
На ней был красный джемпер с высоким воротником, поднятым до самых ушей. Это выглядело как-то по-детски. Она могла бы работать в любом доме моделей. Я отметила это так, как человек отмечает про себя красоту какого-нибудь насекомого.
Он не должен был приводить ее туда! В каком-то смысле это было наше с ним кафе. Единственное, что принадлежало нам обоим. Иногда мы, словно случайно, встречались там, когда он возвращался с работы. И никогда не задерживались надолго. Я всегда приходила первая, потом приходил он и громко говорил:
– Вот неожиданность! Рад тебя видеть! – На тот случай, если бы в кафе оказался кто-то знакомый.
И я, подыгрывала ему:
– Садись сюда, если хочешь.
Он садился, и мы болтали о посторонних вещах, чтобы никто ничего не заподозрил. Например, о делах на работе.
Я стояла там, пока она не загородилась ладонями, словно шорами, а Франк опустил глаза. Меня заметили. И мне стало стыдно. Я унизила не только себя, но и Франка. Окно кафе превратилось в подобие прозрачного занавеса открытой сцены. Мало того, что это противоречило правилам игры, это могло иметь последствия и для наших отношений. Я превратилась для него в угрозу. Вместо того, чтобы незаметно пройти дальше, не побеспокоив супругов, я остановилась и уставилась на них. Почему? Я претендовала на время, которое мне не принадлежало, и была ничуть не лучше женщины, крикнувшей профессору, что до следующей лекции осталось пять минут. Скорее даже хуже ее. С моей стороны это было предательство. Я не посчиталась с чувствами Франка. И, что уже вообще не лезло ни в какие ворота, это была месть.
Я заперла за собой дверь квартиры и аккуратно повесила пальто на вешалку у двери. Этому правилу я не изменяла. Сев на раскладной стул, я стянула с себя сапожки. А потом приготовила кофе, которого так и не выпила в «Арлекине». Вкус у кофе был горький. Кофеварку давно следовало почистить.
Я привыкла петь про себя перед сном. Наверное, многолетняя жизнь в большой общей спальне лишила меня способности петь громко, зато я научилась петь про себя. Овладев этим искусством, я даже чувствовала, как мелодия дрожит у меня в голове и на губах. Этого мне было достаточно. И я никому не мешала.
Однажды в передаче «Только классика» я слышала произведение, которое называлось «Послеполуденный отдых фавна» Клода Дебюсси. Динамик слегка хрипел. Это искажало музыку, но я не особенно расстроилась. Мокрые снежные хлопья медленно ложились на окно, выходящее на крышу, словно чья-то рука не ленилась бросать туда пригоршни снега в понравившемся ей ритме. Постепенно все стало белым.
Глупо надеяться, что это музыкальное произведение могло куда-то меня привести. И тем не менее, я записала название и имя композитора в блокноте, лежавшем на письменном столе, слева.
Я вспомнила про одну телепрограмму о двух писателях, которые неохотно и немного смущенно рассказывали о том, каким образом их книги в том сезоне стали бестселлерами. Создалось впечатление, будто они опасались, что зрители подумают: не нарочно ли они написали плохие книги только потому, что такие книги хорошо продаются. Писатели гордились своим успехом, но при этом чувствовали себя неловко. Впрочем, что значит неловко? Признаюсь, я бы не отказалась очутиться на их месте, в центре внимание. Однако, если бы такое чудо случилось, хватило ли бы у меня смелости выставить на всеобщее обозрение свой позор? Может ли писатель написать серьезную книгу, не выставив при этом на всеобщее обозрение самого себя? Или не может?
Было уже поздно. Я перестала писать и собиралась лечь. Погасив свет, я увидела перед собой тех счастливчиков, которые выступали по телевизору. И их книги. Они лежали штабелями во всех книжных магазинах. Я сама видела. Штабелями! Книги производили жалкое впечатление. Иначе и быть не могло. Это было, так сказать, принудительное питание.
Я попыталась напеть про себя отрывок из «Послеполуденного отдыха фавна». Ничего не получилось. Тогда я решила, что куплю себе проигрыватель для компакт-дисков. Если мне удастся выучить эту мелодию, я буду напевать ее про себя, лежа в кровати. Словно она была заклинанием, которое могло привести к каким-то действиям и таким образом изменить мою жизнь.
Утром я проснулась с головной болью. Первым делом я подумала, что у меня начался насморк, поэтому, выпив кофе, некоторое время провела в полном бездействии.
Мой последний роман, на который пока еще никто не обратил внимания, лежал на письменном столе справа. А ведь он вышел уже несколько месяцев назад. Подоконник был покрыт тонким слоем пыли. Я встала и взяла в шкафу тряпку из микрофибры. От нее у меня слегка закололо ладонь. Я протерла подоконник – на тряпке остался серый налет. Странно, но, если перестать вытирать пыль, все постепенно исчезнет. Мир превратиться в пустыню, только время работает медленно.
Первые недели после выхода книги я говорила себе, что надо набраться терпения. Рецензии непременно появятся. Просто у рецензентов слишком много работы. Несколько дней мне вообще казалось, что я просто внушила себе, будто у меня вышла книга, или мне это приснилось.
Я прополоскала тряпку и повесила ее в шкаф. Потом подошла к письменному столу. На переплете была изображена растрепанная женщина в мини-юбке, она уходила в раскрытую дверь. Видна была только ее спина. Стен вокруг двери не было, только косяки. Я оторопела, когда в первый раз увидела этот переплет. И не могла понять, почему им понадобилась именно такая картинка. Ничего общего с содержанием книги она не имела. Цвет был ужасный. Хуже того – он напоминал блевотину. И даже пах ею.
Как только я взяла книгу в руки, я сразу поняла: ее никто не купит, независимо от содержания. Кому нужна книга в таком переплете? Да никому. Ни одному человеку. Почему я не попросила показать мне книгу до того, как ее отправили в типографию?
Я писала этот роман целых два года. Одним для этого требуется больше времени, другим – меньше. Главное, я все-таки написала его. Мне захотелось позвонить в издательство и спросить, сколько экземпляров продано. Но что это изменит? Лучше уж ничего не знать, чем услышать в ответ, что количество проданных экземпляров точно соответствует тому, что обязаны закупать библиотеки. Пока я ничего не знаю, у меня еще есть надежда. Банально, но это правда.
На две мои первые книги было несколько сухих отзывов, и их почти не покупали. Книги вообще продаются плохо, не только мои. Правда, тогда у меня не было чувства, что два года работы потрачены впустую. А вот на этот раз вокруг книги царило глухое молчание. И это было страшно. Словно я уже умерла. Словно книга, на которую я потратила два года жизни, существовала только в моем мертвом черепе. Я увидела землю, а в ней червей и личинок, которые не спеша, с аппетитом поедали мой роман. Бесконечно медленно, но, тем не менее, остановить их было невозможно.
Время от времени в средствах массовой информации проводят дискуссии насчет того, что в Норвегии выпускают много ненужных книг. Если это правда, то моя книга относится как раз к их числу. Я взвесила ее на ладони и быстро сунула в нижний ящик стола. Нужно было что-то делать.
Кнут Гамсун где-то сказал, что писателю не свойственно чувство стыда. Наверное, он прав. В таком случае я не писатель.








