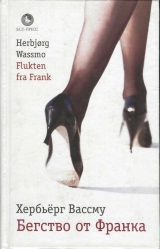
Текст книги "Бегство от Франка"
Автор книги: Хербьёрг Вассму
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 24 страниц)
– Тысячи. Не забывай, в Германии больше жителей, чем в Норвегии. И тут случается многое из того, что невозможно у нас, – наконец отозвалась она.
– Например? – спросила я, чуть не поблагодарив ее за то, что она мне ответила.
– Например, мы никогда не ездили на машине в Италию за два дня до сочельника.
Я могла бы спросить, не считает ли она, что это моя вина, но не спросила. Почему-то я ее понимала.
В восемь вечера из машины, стоящей на средней полосе, вышла женщина с ребенком на руках. Он громко кричал, брыкался и вырывался из рук. За нею шли еще двое детей. Мать постучала в окно впереди стоящей машины. Но сидящие в ней люди не захотели иметь с ней дела. Представители Красного Креста давно исчезли. Охваченная бессилием, она перекладывала ребенка с одной руки на другую. Потом посадила его себе на бедро, встряхнула и прижала к себе. Ребенок заплакал еще громче, он рвался на землю.
Какой-то мужчина вышел из машины, стоящей перед нами. Освободившись от рук матери, ребенок ползал на снегу и почти скрылся под соседней машиной. Громко бранясь, мать наклонилась к нему. Наконец она ухватила малыша, вытащила его за руку из-под машины и сильно встряхнула. Потом далеко не нежно поставила ребенка на ноги и, крепко держа одной рукой за воротник, другой стала бить его по голове. Когда Фрида открыла дверцу машины, удары стали слышны даже сквозь гул моторов. Мальчик упал на землю, но мать продолжала его бить. И все время что-то кричала, но слов я не могла разобрать.
Фрида и мужчина одновременно бросились к ним. Фрида решительным рывком оттащила ребенка от матери и прижала к себе. Он перестал плакать. Но дрожал уже без слез так сильно, что его дрожь передавалась Фриде.
Мужчина почти поднял мать на руки и держал ее, пока она не успокоилась. Он говорил ей что-то по-немецки. Наконец, она стала отвечать на его вопросы. У них не осталось ни горючего, ни еды. Младший капризничал…
Поговорив между собой, Фрида и мужчина решили, что его пустая машина лучше подходит для этой многодетной семьи. Они отвели туда мать, детей и перенесли их бесчисленные пластиковые пакеты. Фрида отдала им нашу еду и шоколад. Когда она снова села ко мне в «хонду», я оказалась отброшенной на много лет в прошлое:
Женщина идет, держась одной рукой за холодную ручку детской прогулочной коляски, а другой пытается схватить ребенка, который бежит рядом. Ребенок сердится, потому что она мешает ему шлепать по лужам. Женщина поднимает его и запихивает в коляску. В ее движениях нет нежности, только усталое бессилие. Может быть, она забыла застегнуть ремень, который должен удерживать ребенка на месте. Во всяком случае, он мгновенно снова выпрыгивает из коляски. Женщина бежит за ним, в это время из-за туч выглядывает солнце и касается лужи на асфальте. И тут происходит что-то непонятное. Ребенок лежит на земле, словно прячась за большим колесом грузовика. Словно ему надоели упреки матери. Шерстяная шапочка выглядит необычно. Женщина знает, что она белая. Но сейчас она красная. И плоская. И у дождевой воды на асфальте тоже необычный цвет. Даже красивый. Но необычный. Не настоящий. Шофер спрыгивает на асфальт. Он и женщина вдвоем под грузовиком. Нет, их там трое. Женщина хватает ребенка за руку и хочет вытащить его оттуда. Голая ручка мягкая и теплая. Она пахнет так, как пахла всегда. Какой-то потной силой и упрямством, которых всегда так много у маленьких живых детей. Запах шофера пробивается сквозь запах осени и свежего гниения. Запах самокруток и старого пота. И чего-то еще. Может быть, имеющего отношение к мотору. Громкое дыхание шофера похоже на свист ветра в старом вентиле. Большие руки с темными ладонями, словно он только что менял покрышку, дрожат мелкой дрожью.
– Я подам немного назад, и мы ее вытащим, – говорит он странно бесцветным голосом и залезает в кабинку. Дверцу он не закрывает. Она хлопает на весу. Женщина слышит ржавый, громкий голос. Чей? Свой или шофера? Мотор начинает работать. Шофер подает назад на несколько сантиметров. Колесо тащит за собой одежду ребенка и его самого – еще мгновение, и девочка свободна. Женщина смотрит на ее личико. Но его больше нет.
Итальянская мать
– Подумать только, нам удалось съехать с шоссе и найти в Мюнхберге гостиницу! – воскликнула я.
– Благодари «хонду». Она играючи едет по целине и легко находит проселочную дорогу, – хмыкает Фрида.
Мы ночевали в Мюнхберге и в Инсбруке, оставили за собой Бреннерский перевал и оказались уже на итальянской стороне горного массива. Солнце было похоже на белый неопознанный летающий объект, вокруг зеленели долины. Машины тормозили, хлопали дверцы и опускались окна, люди выходили из машин по той же причине, что и мы. Зайти в кафе и выпить кофе.
– Если бы я была итальянкой, меня бы всегда мучила тоска по дому! – сказала Фрида.
Мужчины всех возрастов выходили из машин и тут же принимались надраивать капоты, окна, никелированные части. Они открывали багажники и доставали оттуда бутылки и банки со средством для полировки и замшу. Включали на полную мощность приемники, терли и полировали. Не меньше десяти разных каналов поддержали итальянское рождественское настроение попмузыкой, известиями, псалмами и футболом.
Какой норвежец захватил бы с собой снадобья для чистки и полировки, чтобы в свободную минутку понянчиться со своей машиной? Тем временем женщины и дети, расположившись возле дорожных ограждений, наслаждались шумным общением, смело конкурирующим с автомобильными стереоприемниками.
– Смотри-ка, они моют машины! – восхищенно воскликнула я.
– Это Италия, здесь женщины готовятся к Рождеству и пестуют младенца Христа. А мужчины начищают машины, – ответила Фрида и стала насвистывать.
Ее свист был способен вывести меня из себя. Не мелодия, а вопль немузыкальной души. И часто это оказывалось немузыкальной потребностью обратить на себя внимание.
– Если человек любит слушать музыку, это еще не значит, что он способен ее исполнять, – сказала я.
Переменчивое настроение Фриды во время этой нелегкой поездки помогло мне понять, что я должна собраться с силами и установить между нами определенные границы. На сей раз она уступила. Но всегда существовала опасность, что она этого не сделает и тогда будет только хуже. Я отстегнула ремень, открыла дверцу и сняла джемпер. Температура была градусов на двадцать выше, чем когда мы в последний раз выходили из машины. Я стояла, заслонившись рукой от солнца.
Пожилая женщина вылезла из машины со складным стулом под мышкой. Минутку она постояла, щурясь на солнце, потом поставила стул и уселась лицом ко мне, косолапо поставив ноги и положив руки на колени. Серовато-бледное лицо покрывала сеть морщин. Она была явно не крестьянка, а из тех женщин, которые имели возможность избегать солнца. Волнистые, черные с сединой волосы были собраны в пучок на затылке. Порывы ветра забирались под черную шаль и шевелили ее. Иногда казалось, что шаль вот-вот улетит. Но женщина не обращала на это внимания. Ее черные глаза смотрели на меня.
Я наблюдала за ней. И когда она кивнула, я подошла поближе. Она протянула мне руку и что-то сказала по-итальянски. Я ничего не поняла. Прежде чем что-либо сообразить, я схватила ее руку. Сухую и гладкую, как шелковистая бумага, и обладавшую странной прохладной силой. Из женщины монотонно лились слова, точно она читала псалом. Голос был тихий, но властный. Я безуспешно пыталась улыбнуться. Вместо этого я обеими руками держала ее руку. Она молча кивнула. Ветер несколько раз приподнимал и опускал шаль женщины, а я все держала ее руку.
Какой-то мужчина окликнул ее из машины. Она с трудом попыталась встать. Я помогла ей, немного неуклюже. Когда она схватилась за меня, я ощутила силу ее хрупкого тела с небольшим, выступающим под грудью животом. Прочно встав на ноги, женщина не спеша освободилась от моих рук, привычным движением сложила свой стул, дружелюбно кивнула мне и пошла к машине. Она немного хромала на правую ногу. Вскоре она скрылась.
Несколько миль моя рука сохраняла слабый запах лаванды. Все это было похоже на сон, но, к своему удивлению, я обнаружила, что он оставил физический след.
– Она могла бы быть твоей итальянской матерью, – сказала Фрида. В ее голосе не было ни насмешки, ни надменности, но я чувствовала, что настороженно ловлю оттенок чего-то подобного. – Тогда, значит, она бросила тебя еще раз, так и не признавшись, что она твоя мать.
– Почему ты это говоришь? – шепотом спросила я.
– Потому что все, что не выходит наружу, вызывает внутреннее воспаление. Зачем нам молчать о том, о чем мы обе думаем? Твоя мать так и не вернулась за тобой! – твердо сказала Фрида, в ее словах звучал почти зловещий подтекст, словно она давно поджидала момент, чтобы это сказать.
Снова всплыли малоприятные останки моего детства.
– Да, и отец тоже, – коротко заметила я.
– А ты ждала?
– Уже не помню.
Фрида перестроилась в правый ряд. Мы катили вниз на приятной скорости. Впереди нас ехал фургон с открытыми окошками в кузове. Он вез животных. Задняя дверь была испачкана навозом, болтался незапертый замок.
– Конечно, ждала. Тебе же хотелось, чтобы у тебя был дом.
– В те редкие разы, когда кто-нибудь приезжал, чтобы выбрать себе ребенка, всегда выбирали других. Даже наш попечитель, который брал кого-нибудь к себе домой или на дачу, пренебрегал мною. Я была не из того теста. Дом? Сентиментальная мечта, – заключила я.
– Ребенок имеет право на такие мечты, и нечего смеяться над ними задним числом, – сказала Фрида. – Кстати, тебе не приходило в голову, что виной тут была твоя мать?
– Каким образом?
– А таким. В тех немногих документах, в которых хоть что-то сообщается о тебе, ничего не говорится о том, кому принадлежат родительские права на тебя. Ребенок просто рассматривается как предмет или другое движимое имущество. Без свидетельства на собственность трудно найти заинтересованного покупателя. Теоретически твоя мать могла появиться в любой момент и предъявить на тебя права. Может, она потому и не объявилась раньше. Именно потому, что хотела избежать ответственности и ждала, чтобы тебя отдали какой-нибудь семье, откуда она заберет тебя, когда ей будет удобно. Но годы шли, и время было упущено.
– Но это же страшно! Женщины так не рассуждают.
– Ты говоришь, как мужчина, как литературный критик. Женщины именно так и рассуждают. И еще как! В ожидании богатого мужа, конечно, не твоего отца, она держалась в тени, чтобы наличие родной матери не отпугнуло возможных приемных родителей. Время тогда работало на нее, но против тебя.
– То есть как?
– Большая часть тех, кто усыновляет детей, хотят получить нетронутый кусок пластилина, с которым они смогут играть и лепить из него все, что хотят. Бледный, тощий ребенок, до которого невозможно достучаться, плохое украшение для приличного дома. Нет, суть заключается в том, что твоя мать воспользовалась правом родить и оставить тебя, вместе с тем владея тобой со всеми твоими потрохами.
– Но мы же не знаем, кто она была и какие у нее были причины так поступить. Не знаем, каково ей пришлось и что она при этом думала, – сказала я.
– Хуже всего те, которые вообще не думают, но упускают время, пока ждут, что кто-то за них все устроит. Например, некий Мужчина с большой буквы. Независимо от того, кто она была, согласись, что она проявила слишком мало заботы о твоей маленькой особе.
– Господи, сколько у тебя предубеждений, когда речь заходит о женщинах!
– Вот как? А ты оглянись вокруг. И увидишь женщин всех возрастов. Мечтающих, пускающих слюни или слезы, надменных, скрытных, эгоцентричных. Пьяных или трезвых. Дай им положение и бумажник какого-нибудь старика, и они лягут под него со своими силиконовыми грудями и вывернутыми наизнанку гениталиями.
Она дала газ, включила левую мигалку и перестроилась в левый ряд перед грузовиком с животными.
– С отцами все иначе, – продолжала Фрида.
Я промолчала.
– От отцов никто ничего не ждет. Ни раньше, ни позже. Они просто присутствуют, когда им это удобно. В зависимости от их обаяния, кошелька и похоти жизнь для них может беспрестанно обновляться. Вот и все. Женщине, которая этого не понимает и не относится к этому с юмором, осознавая, что вся ответственность может пасть на нее, предстоит еще многому научиться.
– Ты говоришь о вещах, о которых не имеешь понятия. Посмотри на Франка! Он остался в семье ради своих детей!
Фрида засмеялась.
– Поосторожней, Санне, а то закончишь дни благопристойной женщиной!
– Хватит уже! – жалобно взмолилась я.
– О’кей! – неожиданно миролюбиво сказала Фрида.
Когда впереди показалось море, я уже совсем обессилела, напрасно стараясь придумать какое-нибудь оправдание для своей матери. Или для отца. Много лет назад я обещала себе не предпринимать подобных скитаний по пустыне. Но вот Фрида, просто копнув песок, заставила меня окунуться в прошлое.
Свет рождественских яслей
Фойе похоже на сцену в американском или итальянском блокбастере. Огромная елка перегружена блестящими цветными игрушками. На столе под мерцающей люстрой стоят освещенные рождественские ясли с мельчайшими деталями. Овцы, по-видимому, сделаны из настоящей шерсти. Так и ждешь, что младенец Иисус сейчас заплачет. Лицо Марии полно святости и достоинства. Плотник Иосиф более двух тысяч лет держал в тайне свое благородное происхождение, но теперь он может больше не скрывать этого. Он поднял руки, защищая мать и ребенка. Пастухи только что вышли из финской бани. Жизнерадостные, красные, с ясными глазами. Три святых короля прилетели на самолетах с трех разных сторон. Один явно американец. Возможно, из Калифорнии. Загорелый, он стоит, широко расставив ноги. Все трое еще благодушествуют после заботливого обслуживания в самолете. Их тюрбаны и короны безупречны. Они сверкают бриллиантами. Верблюдов ввели лишь в качестве беспроигрышной рекламы, и они были проверены на благонадежность, дабы не досадили гостям отеля неуместными экскрементами. От них пахло только благовониями и миром, и они представляли собой достоверный реквизит, имеющий непосредственное отношение к торжествам.
Я замерла в восхищении. И, против воли, неожиданно уронила три слезинки. К сожалению, иногда меня трогают вещи, которые я считаю чересчур патетическими и даже презираю. Как будто мне необходим некий стимул, чтобы отделить эту яркую жизнь от той, которой мне, по моему мнению, хотелось бы жить. И пока я изучала этот христианский спектакль, появилось tableau:
Девочке больше не надо праздновать Рождество с растрепанной елкой и со свечами, которых нельзя зажигать, потому что может случиться пожар. Ей больше не надо смотреть на блестящую мишуру, которая со временем стала напоминать ржавую колючую проволоку еще довоенных времен. Или на звезду на макушке, сохранившую из пяти лучей только три. Кривые корзиночки самодельного приютского плетения будут висеть на корявых коричневых ветках, больше не досаждая ей. Потому что в том году ее выставили за ворота, предоставив самой себе, и все то осталось в прошлом. Ей больше не нужно отвечать за свою жизнь перед директрисой или воспитателями. Но все устроено так, что в это ее первое свободное Рождество ей не хватает приютского. Позже она где-то прочтет, что у заложников, которых долго держали в заточении, появляется зависимость от тюремщика. И они даже пытаются завязать с ним доверительные отношения. После освобождения они нередко от одиночества тоскуют по своим мучителям.
И много лет спустя: молодая мать пытается устроить настоящее Рождество для своей маленькой дочки. Все должно быть прекрасно. Все предусмотрено до мелочей. Мать лежит без сна, прислушиваясь к дыханию ребенка, и думает о том, как бы не разочаровать дочку. Она должна почувствовать сказку. И каждый год переживать ее заново. Мать боится, что ей не справиться с такой задачей. Она даже уверена, что не справится. Но у ребенка нет никого, кроме нее. Она, конечно, может следовать церковному календарю, дарить подарки, пусть недорогие, но все-таки. Может читать своей дочке вслух, готовить вкусную еду, наряжать елку, петь. Однако ребенок способен ощущать пустоту, даже не понимая этого. Став чуть старше, девочка назовет взрослое Рождество фальшивым. И не найдет в нем тепла. Никто не понимает этого так скоро, как дети.
И после того страшного случая женщина спрашивает себя: не чаще ли такие дети попадают под грузовики, чем другие?
У нее нет ответа на этот вопрос и нет причин праздновать Рождество. У нее есть интересная книга, красное вино и немного бараньих ребрышек из «Рими». Она ничего не украшает и избегает всяких разговоров о Рождестве, привыкнув отвечать только «да» или «нет», чтобы не прослыть невежливой. Она сочувствует всем, покорно выслушивая жалобы на то, что дел слишком много, а времени и денег в обрез, и соглашается со всеми требованиями, без которых семейное счастье невозможно. Под этим общим наркозом проходит ее жизнь. Но иногда она понимает, что такие ассоциации не случайны, и рождественские мечты, как пузыри, всплывают на поверхность. Эта мысль похожа на искру, посланную богами.
Что было бы, если б ее дочка не попала под грузовик? Неужели и она внушила бы дочери, что мать – ее единственная семья? А когда та стала бы взрослой, одним лишь беспомощным взглядом заставляла бы ее пунктуально навешать мать раз в неделю?
Празднично одетые люди ждали, когда их впустят в столовую насладиться рождественским ужином. Мы с Фридой сидели на диване вместе с двумя очень нарядными дамами. Из их разговора мы поняли, что они немки. Одна, в красном платье, с головы до ног была усыпана блестками. С горечью, достойной уважения, она объявила, что должна перенести рождественский ужин к себе в номер, потому что ей будут звонить сын и внуки.
Другая, в платье из золотой парчи, сказала, что она тоже предпочла бы поужинать в номере, если бы не ее муж… Этот муж кружил где-то в баре с горящим, ищущим взглядом.
Обе женщины через силу делали веселые лица.
– Счастливого Рождества! По-моему, здесь очень приятно, – сказала Фрида по-английски, чтобы дамы не сочли, что их игнорируют. Они откликнулись на ее приветствие и улыбнулись натянутыми улыбками, которые свидетельствовали о дорогих дантистах и уходе за зубами.
В это время мимо нас прошел всемирно известный актер, имя которого я никак не могла вспомнить. Это меня разозлило, ведь я видела много фильмов и телевизионных сериалов с его участием.
– Смотри, там идет этот актер, – прошептала дама в красном, не называя его фамилии. Она проводила актера откровенным взглядом и надула губы а’ля Брижитт Бардо. Нельзя сказать, чтобы это было ей не к лицу, принимая во внимание ее возраст, но он уже прошел. Теперь актер стоял у елки и поправлял манжеты.
– Я не видела его сегодня в бассейне, – сказала дама в золотой парче.
– Думаю, он был в Венеции. Он всегда ездит туда утром в сочельник, – сказала дама в красном, словно желала показать нам, что знает его привычки. В ее голосе звучал намек на то, что, как бы ей того ни хотелось, большего она рассказать нам не может.
– Кажется, он проводит здесь уже десятое Рождество? – спросила дама в золотой парче.
– Девятое, – поправила дама в красном и сложила кончики пальцев, словно в молитве.
– По-моему, сегодня он выглядит особенно одиноким, – материнским тоном заметила дама в золотой парче.
– Ну, почему же? Он всегда такой. Знаменитые люди должны как-то защищать себя.
Возможно, эти женщины не догадывались, что мы понимаем их немецкий, ведь мы обратились к ним по-английски. Я сама допустила в Берлине такой же промах. В кафе я говорила по-норвежски. Через некоторое время женщина, сидевшая за соседним столиком, наклонилась ко мне и по-шведски попросила у меня солонку. Вообще, шведы не слишком хорошо понимают родственный норвежский язык, однако приятного было мало. Помню, я тут же начала анализировать и вспоминать все, что говорила. И, конечно, не вспомнила. Но я еще долго думала об этом. Радуйся, что ты не знаменитая писательница, утешила меня Фрида. Вот тогда было бы куда хуже.
– Неплохо, – глядя на актера, прошептала Фрида к моему удивлению.
Актер как будто услышал и понял ее, он вдруг отошел от елки, скользнул к одному из двух свободных стульев, стоявших рядом с нами, и вопросительно посмотрел на нас. Дама в красном уже встала, кланяясь верхней частью туловища. Он сделал предупреждающее движение рукой, словно хотел сказать, что сейчас не время для аплодисментов.
Очевидно, он ее знал. Во всяком случае, их знакомство было на стадии обмена вежливыми фразами. Он что-то сказал о погоде. Дама в красном сообщила ему прогноз погоды на Рождество, произнеся несколько длинных фраз на превосходном английском. Актер пожал всем нам руки. Крепким, но каким-то отсутствующим рукопожатием, каким он, наверное, обменивался с людьми, с которыми ему приходилось общаться по долгу службы. Поскольку он говорил о погоде, я поняла, что он гулял по Венеции. Или плавал в бассейне в другое время, чем дамы.
– Три градуса мороза, – сообщил он. Мне это понравилось, потому что я разделяла его интерес к погоде. Если человек интересуется дневной температурой, знаешь, чего от него можно ждать.
Вблизи я увидела, что лицо у актера серое. Волосы на залысинах тонкие. Сзади, над воротничком, волосы слегка вились. Их было бы неплохо немного подстричь. На мой взгляд, у него были грубые уголки губ. Я видела такие у скучающих самоуверенных мужчин. И он был далеко не атлет, каким выглядел в фильмах. Так часто бывает. Да и высоким он тоже не был. Почему-то мне было приятно это отметить.
Руки у него были в пигментных пятнах или в веснушках. Запястья тонкие. Видно, он никогда не поднимал ничего тяжелее, чем хрустальный стакан с виски. Сейчас он схватил бокал, который ему протянул официант, посмотрел на нас и поднял его. Кивнул обеим дамам и нам с Фридой.
Неожиданно у моей ноги залаяла собачка дамы в красном. Я вздрогнула и немного вина выплеснулось, тем не менее, я подняла свой бокал и чокнулась с ним. Актер опять что-то сказал. К моему удивлению, Фрида ответила ему. Он кивнул. И даже ответил ей, словно старой знакомой.
Дама в красном протянула руку к моей ноге и подняла скулящую собачонку на колени. Собачонка легла, прижав уши к голове и с ненавистью глядя на актера. Дама в красном всячески демонстрировала свою любовь к собачке. Громким доброжелательным голосом, в котором так и слышалось: «Нам очень приятно, Рождество это особенный праздник!» – она обращалась то к собачке, то к нам. И словно периодически мигающий небольшой маяк, ее глаза распахивались шире, устремляясь на нашего общего актера.
Я заметила, что он это понимает. Но он сидел как ни в чем не бывало, вежливый и непринужденный. Словно человек, который не нуждается в такого рода внимании, особенно, когда ждет ужина. К его чести надо сказать, что он отнесся к этому благоразумно. Он даже соизволил удостоить Фриду несколькими фразами о Венеции, свете, времени года и… снова о температуре, которая была слишком низкой даже для зимы.
Фрида отвечала ему каким-то расслабленным тоном, который я не знала, как толковать. Один раз во время разговора он взглянул на часы. Фрида мгновенно ответила, взглянув на свои. И они улыбнулись друг другу, точно это был их общий условный знак. Потом он наклонился к ней и сказал что-то, чего я не уловила. Она улыбнулась, но промолчала. Иногда мне было трудно решить, соблюдает ли Фрида определенную тактику или в глубине души она просто стесняется. И не без удовольствия я заметила, что немецким дамам не понравилось сближение Фриды с актером.
По лестнице спускалась молодая платиновая блондинка, одна ее грудь наполовину вывалилась из выреза платья и колыхалась, как не запакованный рождественский подарок. Очевидно, так и было задумано. Наш актер подошел к ней и предложил ей руку.
Как по сигналу красная дама встала. Вздохнула. Сверкнули блестки.
– Я иду к себе. Уже скоро мне будет звонить сын, – сказала она даме в золотой парче и направилась к лифту, ведя на поводке упирающуюся собачонку. Время от времени собачонка садилась на зад и приходилось ее тащить. Несколько раз дама оглядывалась на нас и, наклонившись к собачонке, начинала с ней сюсюкать. Но собачонка продолжала упираться и лаяла на всех и вся.
В семь часов двери в столовую отворились, и гости могли сесть за стол. Должно быть, это был очень хороший отель, потому что возле каждого прибора лежал красиво завернутый подарок, в нем оказался набор ручек дорогой марки.
– Не сомневаюсь, что фабрикант получает в отеле номер-люкс на несколько недель в году в обмен на рождественские подарки, которые к тому же служат ему рекламой, – сказала Фрида.
Актер и платиновая блондинка доверительно беседовали за соседним столиком. Они сблизили головы, и им явно было хорошо. Официант, отвешивая поклоны, подал нам Fagottini di verdure е fontina[21]21
Блинчики с зеленью и сыром (ит.).
[Закрыть].
– Он не такой высокий, как в фильмах! И более седой! – Фрида была довольна. – В виде исключения, он мужчина твоего возраста.
– Что ты хочешь этим сказать?
– Мне приятно, что ты замечаешь и других мужчин, не только Франка.
– Не говори глупости! Он с дамой.
– Это его дочь.
– Откуда ты знаешь?
– А ты обрати внимание на то, как он с ней обращается. Всю жизнь я изучала отцов, так что редко ошибаюсь. Они бывают трогательно беспомощны или же шумно хвастливы и властны. У него беспомощный взгляд, совершенно не такой, каким он смотрел на нас в фойе. И обрати внимание на движения его рук. Он будто хотел погладить ее по щеке, но передумал, потому что после того, как он в последний раз это делал, прошло десять лет, и она давно уже не ребенок. А может, он подумал, что было бы лучше сделать ей дорогой подарок, чем приглашать сюда. Он не понимает, как ему вести себя. У него нет режиссера для этой роли. Нашему актеру приходится импровизировать, исполняя роль отца. Поэтому он так проникновенен в обращении с нею. Он хочет быть убедительным в роли, какую ему не пришлось играть ни в одном фильме. Вместе с тем ему не хочется показаться ей слишком властным или чужим. Он хочет добиться доверия дочери, но не знает, как к этому подступиться.
– А как, по-твоему, он должен это сделать?
– Ему следует немного расслабиться и разговаривать с ней, как с обычным человеком, с которым он оказался за одним столиком. И не нужно прилагать столько усилий, стараясь, чтобы она почувствовала себя его маленькой девочкой. Ему не позавидуешь.
Я кивнула, соглашаясь с нею, и посмотрела на свои руки. Они держали нож с вилкой и выглядели, как обычно.
– Думаешь, его предложение на Рождество оказалось для нее более соблазнительным, чем предложение матери, и он сделал его нарочно, чтобы заполучить дочь себе?
– Все может быть. Некоторые родители крадут друг у друга внимание ребенка, когда им это нужно. Но хуже, если у родителей есть свои планы и если они до занудства много говорят о них.
– Например? – спросила я.
– Например, что они не смогли осуществить свои мечты, потому что обзавелись семьей, – ответила Фрида.
Я знала, что она хотела меня утешить этой лекцией, и потому удержалась от искушения возразить ей. Мне часто не нравились необдуманные высказывания Фриды именно потому, что они разряжали атмосферу.
Наклонившись вперед, актер улыбался молодой женщине. На лбу и вокруг глаз у него были морщинки, похожие на кракелюры. Цвет и линии лица напоминали живопись одного из старинных фламандских мастеров. На мгновение мне показалось, что все мы и вся эта зала являемся частью его картины. Словно великий мастер поместил нас туда. Не случайно, но сознательно, согласно замыслу, значение которого было известно только ему, а это несомненно был мужчина. Мне хотелось верить, что именно так все и было. Случайно ничего не бывает. Я определенно находилась в этой картине. Точно так же, как я, будь я мастером, поместила бы Фриду в мою жизнь. С целью дополнить мою роль, поддержать меня, вдохновить, но в то же время позволяя мне оставаться самой собой. Только оставаясь собой, можно защитить свое место в картине, думала я.
Официант принес Medaglione di vitello Maison all’estragon[22]22
Медальон «Майсон» из телятины с эстрагоном (ит.).
[Закрыть]. Мы с актером, оба, заглянули в меню, чтобы посмотреть, что еще нам предстоит. Независимо друг от друга, но одновременно. Потом он откинулся назад и стал смотреть на что-то говорившую ему молодую женщину. Ей явно хотелось, чтобы на нее смотрели. Не только отец, но как можно больше людей.
– Ему скучно, – сказала Фрида.
– Но он слушает ее с интересом.
Он расстегнул фрак, и меня ослепила его манишка. При виде его галстука я почему-то подумала о похоронах. Когда он наклонился вперед, свет неудачно упал на ему на лицо и нос стал синеватым, как часто бывает у пожилых людей.
Разглядывая его уши, я вспомнила Фридино описание Нью-Йорка.
– Ты украла мои образы в тот раз, когда рассказывала об ушах певца Джимми Скотта? – спросила я.
– А это так важно? С таким же успехом я могу рассказать о пожилой даме в элегантной летней шляпе, мочки ушей у нее были похожи на губку, которой стирают с доски мел!
– А еще у нее была сумка на колесиках, и она тихо о чем-то секретничала с продавцом винного магазина в Брискебю? – подхватила я.
– Да! Выходя на улицу, она поправила красивые седые локоны над ушами. А когда она наклонилась, чтобы достать из кошелька деньги, стали видны большие сморщенные мочки.
– Кажется, у нее в мочку был вставлен какой-то предмет, похожий на бриллиант?
– Да! Он блеснул из складок кожи. Когда она шла к двери со своей драгоценной бутылкой портвейна, надежно спрятанной в сумке на колесиках, ее сережка блестела, как маленький глаз.
– Я тебе рассказывала эту историю?
Фрида только пожала плечами. Вот еще одно доказательство, что она крадет мои идеи и образы. В тот вечер я ничего не записывала. Все-таки это был сочельник.
Актер все больше терял терпение. Он жестикулировал и дергал себя за мочку уха. У меня не было причин относиться к нему с неприязнью, несмотря на то, что ему было трудно поддерживать разговор с этой молодой женщиной, которая, не исключено, приходилась ему дочерью. Мне пришло в голову, что ничего интересного она сказать не может. И настроения мне это не испортило. Нет, неприязни к нему у меня не было. Напротив, я его понимала.
– Ты меня совсем не слушаешь! После того, как мы пересекли границу Италии, пропала преследующая нас тревога. И чем же Санне заполнила эту пустоту? Стала пялиться на каждого встретившегося нам мужчину. С тобою чертовски трудно, Санне! Хорошо, я понимаю, что ты наконец увидела человека, у которого хоть что-то есть за душой.
– Ни на кого я не пялюсь. И откуда ты знаешь, что у него есть что-то за душой?








