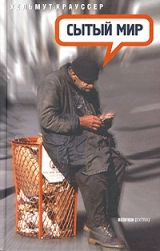
Текст книги "Сытый мир"
Автор книги: Хельмут Крауссер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 18 страниц)
Все поприветствовали друг друга, но не особенно разливаясь в любезностях, поскольку повод для этого незапланированного съезда был более чем серьёзный.
– Мы дожидались вас, – сказала тётя. – Без вас не входили в квартиру. Чтобы, не дай бог, не было никакого спора!
Все согласно покивали Позвонили к соседке, которая и обнаружила умершую Кунигунде и позаботилась о том, чтобы её труп увезли. Она вынесла им ключ, и его дважды повернули в замочной скважине.
Все шестеро медленно продвигались по тёмной прихожей Всё тут было потемневшее, грязное, неприбранное. Куни, как видно, совершенно не подготовилась к нашему визиту.
– Отчего она умерла? – шёпотом спросил мальчик.
– Паралич сердца, – шёпотом же ответил отец.
Пахло чем-то старым, затхлым. Сырым линолеумом и прелой бумагой Пыль толстым слоем лежала на шкафах. Мальчик повеселился, заметив, как противно здесь его матери.
Соседка открыпа форточки, но всё равно, когда распахнули дверь спальни, на них пахнуло вонью мочи Большие пятна желтили простыню, на которой умерла Кунигунде.
Мальчик подёргал отца за штанину:
– Она делала под себя в постель!
– Мёртвые себя не контролируют, они не могут удержать жидкость, – объяснил отец.
Секунды три все стояли без слов, отдавая молчаливые почести смерти. Мальчик сообразил, что на сей раз ему не придётся целовать Куни. И он расплылся в счастливой улыбке.
Окна широко открыли, занавески отдёрнули, свет проник в квартиру до самой прихожей, и в его лучах ворочалось коричневое марево.
Разделились и приступили к поискам.
Куни никогда не сдавала деньги в банк.
Они должны были находиться где-то здесь. Большая cijmmo, скопленная за шестьдесят шесть лет скаредности.
Медленно и судьбоносно, как Наполеон на поле битвы, мальчик шагнул в гостиную, прямиком к трёхстворчатому шкафу рядом с канапе.
Он остановился перед ним и помедлил. Ладони его налились тяжестью. В застеклённом шкафу стояла маленькая пластмассовая собачка, копеечной стоимости.
Всякий раз, когда он бывал здесь в гостях, он тоскливо взирал на эту собачку, так она его привлекала. Собачка с очарователыюй улыбкой и чёрными обвислыми ушами, рекламный подарок сберкассы.
Всякий раз, бывая здесь, он восклицал:
– Какая хорошенькая собачка!
И, не дождавшись никакой реакции, снова:
– Ах, какая она хорошенькая, эта собачка!
Всё напрасно. Куни ни разу не отозвалась на его невысказанную просьбу, не сделала ни малейшей попытки подарить ему эту собаку.
К такому мальчик не привык и разражался слезами. В конце концов, он уже знал, как надо утончённо выпрашивать что-нибудь. Для этого необходимо в очевидном восхищении широко раскрыть глаза и фиксировать объект вожделения до тех пор, пока его владелец не обратит на тебя внимание. Время от времени вздыхать, но при этом принять робкую, скромную позу. Если объект был не очень дорогим, он доставался мальчику наверняка. В большинстве случаев он благодарил за подарок такими словами:
– Нет что вы, я правда не могу это взять!
И:
– Ну зачем же вы, совсем не нужно было этого делать!
Из уст шестилетнего это звучало достаточно редкостно и настолько приходилось по вкусу дарителю, что мальчика вскоре задаривали мелочами, только чтобы развлечь себя его вышколенной вежливостью.
Как суют деньги в щель музыкального автомата, так ему совали пятаки и игрушки, восхищаясь его воспитанными штампованными фразами; растроганно и добродушно улыбались – потеха, от которой они получали огромное удовольствие.
Мальчик по-настоящему наловчился объегоривать родню и продолжал совершенствовать свою технику.
Только с Куни у него всегда выходила плачевная осечка.
Однажды даже мать подпела ему:
– Кажется, он не на шутку полюбил эту собачку!
Старуха, однако, совершенно безучастно взирала в потолок, продолжая очернять ту ветвь родни, которой она пренебрегала.
И вот она умерла, её увезли Наконец-то. Злую бабу забрали отсюда.
Мальчик открыл стеклянную дверцу, медленно поднял руку, затем быстро схватил собаку, стиснул её и почувствовал, как в нём поднимается победное ликование.
Он ласково трепал зверушку по голове.
– Теперь ты у меня, собачка. У меня не будет настоящей собаки, потому что мы живём в высотном доме, зато у меня теперь есть ты.
Он закрыл дверцу и оглянулся. Тускло блестевшие деревянные половицы гневно скрипели от каждого его шага. Он присоединился к родителям и родственникам, которые обыскивали шкафы и выдвижные ящики, выгребали их содержимое и сортировали его на «пригодное» и «хлам». Какие-то мелочи мальчик совал себе в карман. Ему достались: кусочек красного сургуча и штемпель без гравировки. Странный кубик с цифрами 2, 4, 8, 16, 32, 64, а ещё деревянная юла.
Это было настоящее приключение.
Мальчик побрёл на кухню, где дядя как раз очищал один шкаф, роясь в тарелках, бокалах, чашках и рюмках.
Именно в этот момент и обнаружились деньги – синие и коричневые купюры, спрятанные в сахарнице.
Мальчик тут же, играя в герольда, громко возвестил:
– Вот они! Мы их нашли!
Будь он немного поопытнее, он бы молча следил за дядей, чтобы в случае, если тот поведет себя нечестно, войти с ним в долю. Пополам.
А так все устремились на кухню и принялись считать деньги.
Кто-то сказал:
– Шесть тысяч.
Другой:
– Не может быть, чтоб это было всё!
И продолжали искать дальше, переворачивая всю квартиру верх ногами, выворачивая всё наизнанку. Но наличности больше не было.
Разочарование глубоко врезалось в лица взрослых. Отец заподозрил соседку. Тётя уверяла, что безобидная соседка вне подозрений. Провели последний поиск под вспучившейся полосой линолеума, после чего мать сказала:
– Она всё промотала!
А тётя добавила:
– Давно надо было сообразить, что такая никому ничего не отдаст, даже после смерти!
Они снова заперли квартиру и отправились обедать в столовую неподалёку от крепости. После этого они сняли в отеле недорогую комнату.
Там и сели делить. Дети играли на полу с юлой а взрослые сидели за круглым столом, перед ними лежала кучка сине-коричневых денег, а еще оставшиеся от Куни драгоценности и несколько ценных бумаг.
Начались переговоры Сговорились неожиданно быстро. Драгоценности перешли в распоряжение матери, хоть они и были старые, безвкусные – чистый китч. Зато нюрнбергской семье достались наличные деньги за исключением тысячи марок. Наименее ценная мебель была определена к продаже.
Стороны разошлись, довольные друг другом.
А перед этим наступил великий час для подрастающего поколения. Их позвали к столу и отдали им мелочь – серебряные и медные монеты Сколько было радости! Каждому из них досталось по 17 марок 20 пфеннигов.
Погребение было назначено на следующий день, потому что Куни уже и так два дня после смерти пролежала в своей постели.
Мальчик спал спокойно и во сне ничего не видел.
На следующее утро в кладбищенской церкви собралось около дюжины посетителей – больше, чем ожидалось.
Перед ними стоял сосновый гроб, рядом с которым священник произносил какую-то незначительную речь.
Мальчик неотрывно смотрел на гроб. В своём кармане он нащупывал собачку. Наконец-то она принадлежала ему! Но теперь она больше ничего для него не значила – это была всего лишь игрушка для маленьких детей. Обладание оказалось скучным. Но зато каким чудесным было завоевание! Мальчик провёл своё первое этимологическое изыскание, обнаружив «войну» в корне слова «завоевание».
Внезапно он заметил рядом с собой плачущих женщин. Они всхлипывали, и их скорбь передалась ему. Две тяжёлые слезы скатились по его щекам.
После отпевания гроб вынесли и опустили в могилу. Каждый из присутствующих мог бросить на гроб лопату земли.
Прощаясь на кладбищенской стоянке для машин, дядя вложил в ладонь мальчика двадцатку – так, чтобы родители не заметили потому что всё, что превышало пять марок, немедленно изымалось и перекочёвывало на сберкнижку, предназначенную для бесконечно далёкого будущего.
Ритуал получения подарка был исполнен до конца. Рука отмахивалась, лицо выражало радостное ошеломление: «Та-а-ак много… Нет… это правда чересчур…» Всё это произносилось шёпотом, и тем радостнее дядя зажимал ладошку племянника и таял от удовольствия.
В отличие от умершей Кунигунде среди тех, кто стоял у её гроба, не было жадных. Они легко и охотно отдавали. Нужно было только уметь подобающим образом благодарить.
ГЛАВА 4. ГОЛОГОРЛЫЕ КОЛОКОЛА
в которой Эдгар разочаровывается, в которой оплакивают газовую плитку, а Хаген бреется и идёт гулять по городу, встречает старого знакомого, получает по морде и уносит ноги, ничего не видя
Такая замечательная газовая плитка, последняя роскошь, самое почитаемое действующее лицо – из второстепенных, – характерная актриса, вечно изображавшая для нас люкс посреди чернильно-чёрных могильных ночей… Теперь ты почила в бозе, пришёл тебе каюк, назад ты не вернёшься никогда.
– Свинюги! Я их урою!.. Потопчусь на их тыквах! Спалю их вагончики на фиг!
Фред никак не мог успокоиться. Мы лишились спального места, лишились газовой плитки, а эти строительные рабочие явились с неприемлемым численным превосходством. И всё из-за лужи, которую Эдгар наблевал на свежий бетон. Лужа – это самое подходящее слово; уж если Эдгар рыгает, то в его лужёной глотке булькает, как в водосточной трубе.
Стоит только человеку показать, что содержится у него внутри, как у всех добропорядочных граждан начинается истерика.
И вот снова ночь, а мы без ночлега. Спаслись бегством в Английский сад.
– Куда бы нам податься? – говорит Лилли, кутаясь в свой шарф.
– А как насчёт бункера? – спросил Том.
– Бункер закрыт, – говорю я. – Наш приличный город находит нежелательным, чтобы мы ночевали в бункере. Нечего нарушать мир и спокойствие.
Эдгар валится на землю и хихикает. Повалялся, встал, обошёл нас по периметру квадрата, остановился, принялся помавать руками, изображая сцену безумия из старинной трагедии, и, запинаясь, твердить – как он это делает вот уже несколько дней:
– Где же Лиана? Никто её не видел? Где она? Что с ней? Лиа-а-ана!
Эдгар ищет её в кустах и в долине ручья, взбирается на причудливые стальные перила мостика и разглядывает уток в пруду.
Мы находимся неподалёку от Китайской башни; парк трещит по швам от изобилия гуляющих, все явились сюда праздновать его двухсотлетие.
На берегу пруда построили сцену. Блюз-джаз чередуется с дикси-капеллой. Лужайки и дорожки затоплены парочками всех возрастов, сидящими и гуляющими в обнимку.
– Лиа-а-а-на!
Эрик оглашает своими воплями все окрестности. Скоро зароется в землю и будет вопить в самую глубь земли.
Вот начался фейерверк. Все парочки останавливаются и смотрят, задрав головы вверх. Небо наполняется искрящимися красками.
Разноцветная эякуляция среди медлительных дождевых туч.
Фейерверк горит слишком высоко, от него не согреешься. Том трогает меня за плечо:
– Смотри, Эдгар на пределе…
– Не мешай, он так чудесно страдает. По – настоящему стильно.
– Тебе это нравится?
– Да. Ты только посмотри! Истинно верующий человек.
Эдгар пристаёт к прохожим, спрашивает о своей возлюбленной, мечется от одного к другому, цепляется за брюки и юбки и делает отчаянные попытки описать Лиану при помощи жестов: вот такого роста и такая тоненькая… Но все только плечами пожимают.
Ещё три дня назад, до того как Лиана покинула нас, Эдгар был вполне сносный парень. И вот что теперь делается. И всё только из-за удалённого отражения, из-за дематериализовавшейся галлюцинации.
– Захватывающе!
– Что?
– Месяцами он удовлетворялся от неё чисто оптически. И вот, не помогает никакая скромность и смирение. Лиана ушла – и он страдает. Потому что его любовь-у него в глазах и нигде не может встать на якорь.
– Ммм…
– Это неистовство пройдёт. Сейчас его любовь переезжает со всеми пожитками, со всем своим скарбом, с детишками и игрушками перекочёвывает в тыл его черепушки. Идёт изгнание в область воспоминаний. Последняя резервация, так сказать. И цена этому горю – один вздох.
– Ас виду можно подумать, что он свихнулся…
– Это народная молва так называет. Переезды – это всегда хаос и неразбериха. Он страдает. Но, насколько я разбираюсь, он справится с этой задачей быстро.
Какое-то насекомое садится мне на грудь, жаждет крови. Я прогоняю его прочь. Его громкое жужжанье вызывает у меня в затылке мурашки.
– Пойду скажу ему! – решается Том и направляется к Эдгару, прежде чем я успеваю сообразить.
– Эй, Эдди, Лиана не может прийти, у неё возникли серьёзные препятствия!
– Том! Оставь его в покое!
Но слишком поздно.
– Лиа-а-ана? Где она? Ты что-то знаешь. Том? Какие препятствия, где?
– Между ног, командир. Она промышляет своей волшебной шкатулкой!
Эдгар схватил шутника, вцепился ему в горло и пытается выжать из него подробности. Том тотально недооценил потенциал тоски Эдгара. Он уже хватает ртом воздух и хрипит то, что знает.
– Она открыла своё дело, ты, сумасшедший Квазимодо с любовной горячкой! Она на Розенхаймер-плац, работает нелегально…
Руки Эдгара ослабили хватку. Он отвернулся. Глубоко огорчённый и разочарованный. Рухнули столпы, на которых держался его мир. Балаган погрёб под собой барахтающегося клоуна.
Раз-очароваться – должно быть, это особо изысканная вещь. Но этого никто не понимает. Никому это не нужно.
– Лиана… Бу-у-у-у!
На какое-то время из него ушла вся мышечная сила. Клякса бескостной каши шмякнулась в высокую траву.
Я ругаю Тома за его сплетничество.
Он поднимает плечи и растирает свой кадык.
Фейерверк закончился, гуляющие парочки расходятся по домам, поддерживая друг друга, словно раненые.
Но вот дрожь прошла по куче грязи, Эдгар приподнялся из травы, глаза его по-леопардьи озирают горизонт на все триста шестьдесят градусов, выискивают ту сторону света, в которой расположена Розенхаймер-плац.
На Розенхаймер самообразовалась спонтанная любительская панель, и теперь Лиана занимается там непотребством – как начинающая. Неужто в этом её будущее? Вчера мы с Томом случайно встретили её, прогуливаясь по городу. На ней была чёрная мини-юбка, она была сильно накрашена и отвернулась от нас. Мы тоже отвернулись от неё.
Эдгар патетически-медленно поднял с земли своё безвольное тело, потянулся и убрал со лба волосы. Он всегда был мне симпатичен, этот ощипанный феникс. О скольких уже драмах он успел мне поведать!
И вот он галопом поскакал по траве, прямиком в катарсис. Умопомрачительно. В обоих смыслах слова.
– Куда это он помчался? – спросил Том. – Розенхаймер-плац совсем в другой стороне…
– В его состоянии это даже лучше. Он и так найдёт её раньше, чем следует.
– Как ты думаешь, что будет?
– Понятия не имею.
В наш разговор встревает Мария.
– Но ведь теперь он может её купить! Именно это он и сделает! Сунет ей пятёрку и отдрючит где– нибудь за складской тарой. Спорим, так и будет!
– Нет, Мария. Уж это он точно не будет делать. Всё что угодно, но только не это!
Мария только сегодня прибилась к нам снова после того, как два месяца пытала счастья где-то в пригороде. Мария у нас – дива. Так она сама говорит. Решительная женщина семидесяти двух лет от роду. Расплющенное лицо, какие бывают у балаганных боксёров. Старческое повествование – история о девушке, которая сбежала из дома ради любви. У неё есть фотография, на которой ей двадцать два года. Очень красивая.
Её отстранили от дела, вывели из обращения, хотя мужчинам всё равно, кого трахать, – ночь уравнивает возможности, к тому же Мария была когда-то самой желанной шлюхой Монмартра. Так она говорит. Здесь у нас каждый рассказывает о себе легенды. А я им всем верю.
Мария всё ещё продолжает предлагать себя. Но никак не находится охотников быть сценой д ля этой актрисы. Поэтому она бедная. Она мёрзнет. Иногда это трогает моё серд це. Но я бы ни за что не подложил её под себя. Тьфу, чёрт! Она по полдня рассказывает про Париж.
– Меня любил сам Генри Миллер!
Так она говорит. Я думаю, она толком и не знает, кто он был-то ли художник, то ли композитор. Да это и правда не играет роли. А кого в Париже не отымел Генри Миллер?
Шлюхи редко оказываются на улице. Они – народец бережливый и пужливый. Но чтобы представить Марию хозяйкой квартиры? А может, теперешнее её лицо как раз и говорит в пользу её утверждений. Она рассказывает о лукулловских оргиях, о щедрых Великих Моголах, о сверкающих жемчужных ожерельях, красной камчатной ткани и о всяком таком. Может, и правда, была у неё золотая пора. Вполне возможно. Но теперь она вся проржавела, а сам вид старых женщин меня тяготит. Одной Меховой Анны уже слишком много, а скоро в их стан перейдёт и Лилли.
Да, ещё один тип сегодня объявился, чей вид меня сильно раздражает.
Это Эрих со своей гитарой, трубадур с задушевным взглядом. Старый хиппи. Длинные светлые локоны и запутанная слипшаяся борода. Он «старьёвщик», а не бездомный. У него где-то есть нора. Где – никто не знает. Но когда ночи становятся холодными, его не доищешься. А чтобы предложить кому-нибудь помощь – такого за ним никогда не водилось.
Это такой тип, который смотрит, как над крепостью кружит стая чаек, и ждёт, когда две из них столкнутся. Если вы понимаете, что я имею в виду.
Реликт начала семидесятых, свинюшка с двадцатью восьмью семестрами германистики! К тому же, хлебая суп, он вываливает язык наружу – терпеть не могу. Шёл бы он отсюда!
– Тибет вон в той стороне!
Я показываю приблизительное направление и пинаю его гитару.
– Что-что?
– Сваливай давай!
После короткого обмена ругательствами он сваливает с неожиданной готовностью.
Фред храпит. Луна, сокращённая на четверть, бледнит края облаков. Такое небо я уже видел. Оно висит, написанное маслом, на вилле Штука – думаю, работа Римершмида. Метис щёлкает пальцами.
– Эй, я горжусь, что я метис…
Да-да… Он поправляет свой потешный жёлтый жакетик.
– Я вам ещё не рассказывал свой вчерашний сон?
Не-е-ет…
– Ну так вот, вы мне всё равно не поверите, это самый горячий сон за всю мою жизнь, брутальной интенсивности сон. Итак: стою я в такой низине, да? – что-то вроде Восточной Фрисландии – громадная равнина, и вот я там стою – хм… – в спущенных штанах – и заткнул дыру в плотине. Вы ведь все знаете сказку про мальчика, который заткнул дыру в плотине пальцем и предотвратил катастрофу, да? Так вот, я делаю то же самое, но не пальцем, а моим толстячком – ситуация и впрямь непривычная, а? Все мужики убежали за подмогой – это я поясняю обстоятельства, – а теперь следите! Наверху, на плотине, стоят молодые женщины из деревни и танцуют по очереди стриптиз, чтобы моя штуковина не потеряла твёрдости. «Держись!» – кричат мне и неуклюже обнажаются, по-крестьянски, как могут. Я тут чертовски важная персона, поэтому они сменяют друг друга, все девушки и женщины от четырнадцати до пятидесяти, а потом вдруг выходит деревенская потаскуха, с такой странной, зловещей ухмылкой на губах. На ней такая коротенькая юбчонка из бахромы, наподобие соломенных юбочек у негритянок, а двигается она – йес-са – непристойнее, чем бордельные богини Востока. Она явно перегибает палку, но делает всё хорошо, и даже ещё лучше, – ну просто фантастика! С какой яростью она срывала с себя свои лохмотья!
Как она играла своим языком! О-о-о!.. «Прекрати!» – кричу я наверх, потому что уже слишком хорошо! А она только отвратительно смеётся и продолжает танцевать, вкладывая в это дело всю свою страсть. Я хочу отвернуться, но не могу. Мне становится ясно, что произойдёт, если я не отвернусь. Тогда из всего заряда моего сока получатся вместо деток мертвецы! А потаскуха немилосердно держит мои глаза на привязи у своей юбчонки, вот она спускает её вниз… «Проклятье, – кричу я, – проклятье!» Ну и плевать, я не хочу отворачиваться, я хочу смотреть, я больше ничего не могу поделать, из меня так и прёт – а-а-ах! – я спускаю прямо в океан, выпускаю весь заряд – деревенские тётки застыли в ужасе. Воцаряется зловещая тишина. И только деревенская потаскуха хлопает себя по ляжкам и кричит от удовольствия. А потом океан как хлынет – вот это был оргазм! Всю долину затопило! Конец всему! Потоки меня смыли и сомкнулись надо мной. Тут я и проснулся в мокрых штанах…
Хохот Марии гремит в ночи так, что мозги в позвоночнике стынут, Фред проснулся. Лужёные голосовые связки пьяной бабушки сгоняют у меня с языка последние остатки юмора.
– Таких снов у человека не бывает! – заявила Лилли.
– История хорошая, а хорошие истории всегда истинны! – говорю я.
– Что ещё за история? – спрашивает Фред и зевает, но, не получив ни от кого ответа, опять вспоминает про свою беду: – Моя красивая газовая плитка!
И уже в третий раз принимается перелопачивать это злосчастное событие.
Строительные рабочие выползли из своих жилых вагончиков, принеся в жертву целых полчаса сна, и выстроились перед нами во всём своём ландскнехтском великолепии. Десять или двенадцать рослых мужиков, десять или двенадцать лиц, по которым жизнь проехалась, как плохое кино.
Они ругались и изрыгали угрозы, потрясая деревянными брусками над своими деревянными головами. Мы-to хотели договориться с ними. Лилли вызвалась вытереть блевотину Эдгара и даже обязалась делать это со всеми будущими блевотинами. И как это бывшая кельнерша может быть такой наивной, спрашиваю я себя.
Нет, мы должны убираться отсюда, вообще без остатка исчезнуть с горизонта, шагом марш, а поскольку мы не сорвались тотчас же с места собирать своё барахлишко, старший из рабочих схватил голубую газовую плитку Фреда и шарахнул её об стену, отчего она распалась на три составные части, которые потом так и не удалось соединить вместе.
Фред разъярился и попёр на них, невзирая на их численное превосходство. Я его еле удержал. Если сюда заглянет полиция, то загребут-то нас, а не их, независимо от исхода битвы. И Фред печально сник. Пальцы кусал от ярости.
Должно быть, сейчас полночь или около того. Li сигаретном дыму то и дело вспыхивают реваншистские мысли. Каждый должен отыграть эту обиду на свой манер. Разговор скачет с одного на другое. Вскоре все говорят уже только сами с собой. На этой лужайке, среди светлячков и собачьих какашек, на отмирающем ветру…
– Такого во сне не бывает, а если и бывает, то просыпаешься раньше, ещё до окончания…
– Моя газовая плитка, она прослужила мне четырнадцать лет, она ни разу не ломалась за всё это время… А интересно, сколько стоит купить новую?..
– К сожалению, я забываю почти все мои сны, особенно если они были красивые…
– Однажды вечером зашёл Генри, без гроша в кармане, и из пасти у него воняло так, как у Анны из задницы…
– Посиживать на Гавайях в песочке и давать женщинам мелочь на чай – у них там на эту мелочь можно месяц кормиться…
– Хи-хи-хи-хи…
– Мне безотлагательно нужна опера, это всё ерунда, что опера умерла, что времена серьёзной музыки миновали, это может быть только в том случае, если мы живём в безвременье, когда всё давно прошло…
– Всё-таки надо было мне им всыпать, они знают, что мы не готовы защищать нашу газовую плитку всеми средствами, включая жизнь – и свою, и их…
– Зарыться в песочек и жрать кокосовые орехи, конечно, скукотища ужасная, зато как мило и тепло…
– Генри спросил, есть ли у меня для него кредит, но у меня ни для кого нет кредита, будь ты хоть сам китайский император, ну ладно, для китайского императора ещё куда ни шло, но уж никак не для Генри…
– Насчёт Метиса я хоть так, хоть этак не верю, что это ему только приснилось, вы же тут все оскотинились до мозга костей…
– Ах, эти нежнейшие гавайские женщины, с ними можно дрючиться в самом быстром темпе… нет, это было бы всё равно что танцевать вальс в ритме мамбо… нет, это должно совершаться медленно, очень медленно, протя-я-ажно, скользить, как в суперзамедленном кино…
– У тебя ещё есть сигареты, Том?..
– Самый горький момент жизни, несомненно, наступает тогда, когда тебе говорят, что теперь ты больше не можешь требовать столько же, сколько берут твои товарки…
– Опера снова вернётся, это ясно, она вернётся преображённой, в модифицированном виде, а попса как была мертвечиной, так и остаётся ею…
– На Гавайях я бы бросил курить, в раю полагается вести здоровую жизнь, как бы глупо это ни звучало…
– Хи-хи-хи-хи…
– Анна, попридержи свой язык, а! Так и лезут из тебя глупости…
И я осеняю их всех!
Да, это дерьмо. Но это и музыка, хотя, когда она затихает, не слышно аплодисментов, никто не хлопает в ладоши, нет ни топота, ни ропота, ни даже возгласов недовольства. Слышны разве что самые ничтожные признаки существования. Это комическая, великая, ужасная опера, в ней полно статистов и бесконечных мелодий. Они все поют, они не разговаривают. Нас семь человек, каждый год мы стареем на семь лет, и я здесь играю на органе фоновую музыку, чтобы придать всему происходящему некоторый блеск и славу. И кто бросит в меня камень за это? Пусть только попробует, я ему сделаю!..
Должно быть, дегенеративный бог помахал здесь своей кистью, верша извращённую акцию живописи, – я вижу картины, полные лжи, предательства и грязи. Великолепно. Вышвырнуть однодневное дитя на помойку – пусть радуется, что уже достаточно повидало для того, чтобы вытерпеть смерть. Без сомнения, эту жизнь можно недорого купить ценой смерти… И только когда умираешь каждый день, возникает вопрос, не перекосило ли где-то весы, на которых всё уравновешивается. И так постепенно их души коснеют в ожидании жрачки и спасения, а я, жопа, онанирую над их барахтаньем, потому что я здесь почти доброволец, я мысленно вижу себя в заоблачном кресле, сижу и посмеиваюсь, – ну хорошо, у каждого из нас свои приемы, мне не придётся ни за что просить прощения, я всех вас заткну за пояс. В любом случае холодный ветер утихнет, а ночь – наслаждение, она великодушное домашнее животное с выменем, которое она нам подставляет. Чудеса меня давно не посещали, чудеса поражены болезнью, но стоит только встать и сделать несколько шагов… чудеса гнездятся в сточной канаве – я убеждён, они явятся тут же, как только понадобятся мне.
Шутки в сторону, сейчас я отправляюсь гулять и грубо прикрикиваю на Тома, чтобы он не смел тащиться за мной. Сейчас я должен быть один, чтобы моё заоблачное кресло не соскользнуло вниз и не разбилось о пустынную землю. Я актёр, который играет сам себя, я сам сочиняю себе тексты, сцену за сценой. Так теперь поступают продвинутые люди. Одни только провинциалы продолжают играть суперменов: Джимми Дина, Гитлера, Элвиса, Мэрилин, – а недавно на Шванталер-штрассе я видел одного лилипута в военной форме. Театр теперь живёт только на улице. Уховёртки прогрызаются сквозь мою голову, а картинки из кино пригибают её книзу Завершённая опера. Том никогда всерьёз не копил деньги, чтобы попасть на Гавайи. Никакая поездка не стоит того, чтобы ради неё экономить. Он сам это знает. Нет, рай находится здесь, где-то здесь, и иногда, в хорошую погоду, даже становится виден…
Я тащусь сквозь маленькие перелески парка, мимо моноптероса. Мой секретный сейф находится неподалёку от того места, где недавно из-за двадцати марок зарезали какого-то бедолагу. Как в Нью-Йорке, но здесь не Нью-Йорк, поэтому не стоит зря болтать о том, что здесь творится такое, будто Мюнхен – опаснейшее место на земле. Конечно же, это чепуха. Наоборот, Мюнхен – самый безопасный город во всём мире, и где-нибудь в другом месте мне пришлось бы долго раздумывать, прежде чем решить остаться на улице.
А вот и мой сейф: зарытый под кучей листвы и веток, в неглубокой ямке – двенадцать пластиковых пакетов, вст авленных один в другой. В них я храню моё богатство: красную рубашку, чёрные брюки, чёрные ботинки из итальянской кожи, две упаковки дешёвых одноразовых бритв и тюбик крема для бритья. Рубашка и брюки немного отдают сыростью. Тление проникает всюду. С этим ничего не поделаешь.
Я побрился, пользуясь для смывания пены грязной водой из пруда. На берегу, покрытом светящимся утиным помётом. Здесь сооружен понтонный мост к острову. Взлетают лебеди. Их спугнула какая-то парочка, творя свою сезонную анархию. Вот они удивятся: остров на две трети состоит из помёта водоплавающих птиц.
Лебеди до такой степени перекормленные, жирные, что у них нет сил долго держаться в воздухе. Orai внезапно плюхаются вниз. Уже было несколько таких несчастных случаев.
Я переодеваюсь, чтобы отправиться в пивную. К переодеванию мне приходится прибегать не столько из щегольства, сколько основываясь на предыдущем опыте: бродягу отовсюду гонят и клянут. Я не хочу привлекать к себе лишнее внимание своей грязной одеждой и исходящей от неё вонью. Я не хочу, чтобы на меня пялились. Я хочу иметь возможность заговорить с интересными женщинами.
Я покидаю парк большими, целеустремлёнными шагами, поворачиваю налево мимо Швабинга, через Университетский квартал, вдоль Шеллинг-штрасе, потом направо…
Заведение обставлено уютными д иванчиками и мягкими стульями, воздух густо прокурен, пиво сравнительно дёшево. Я киваю бармену, он знает меня давно, но подробностей ему обо мне неизвестно. Игровой автомат поёт свою завлекательную мелодию. На стене висит большая картина, написанная маслом, – изображение обнажённой женщины. Она сидит своим мясистым задом на мшистой лесной поляне. На столах горят свечи, и можно заказать горячее мясное блюдо с хлебом и горчицей. На сигаретном автомате лежат рекламки альтернативных мероприятий. В углу стоит древняя металлическая печь. Здесь крутится самая разномастная публика: студенты, артисты и даже несколько приличных людей в костюмах. На полках бара между бутылками текилы и виски стоят два гипсовых бюста – Маркса и Энгельса, рядом висит ностальгическая реклама кока-колы из пятидесятых годов.
Я сажусь в уголке. Пивные бокалы здесь красивые, в форме кружек. Наличествующие женщины не производят особого впечатления. Некрасивые некрасиво одеты, а красивые держатся за ручку с мужчинами, многие из которых одеты в чёрные водолазки и носят очки а-ля Бадди Холли, желая, как видно, придать себе больше интеллектуальности. Они не целуют своих женщин, стремясь побалансировать на лезвии голубизны. Тк что лица красивых женщин открыты, свободны и ослепительно блестят на всю пивную. Лишь столики делят их облик пополам.
В Швабинге, на дискотеках, мимо которых я проходил, – там совсем другой расклад. Ткм я просто заболеваю от похоти. Тысячи женских ляжек, выставленных напоказ, побритых, гладких, загорелых, похудевших ради стройности, голых до самой промежности – у меня язык во рту не ворочается; столько плоти элегантно взлетает в сполохах разноцветных огней, что всё токовище ликует, – плоть, которую так и хочется утанцевать и уболтать. Там я чувствую себя более одиноким, чем последний динозавр, потому что не могу себя причислить ни к покупателям, ни к товару. Тм я вытеснен из рыночного оборота. Убегаю оттуда на раздутых парусах моего пениса.








