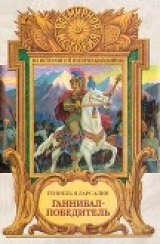
Текст книги "Ганнибал-Победитель"
Автор книги: Гуннель Алин
Соавторы: Ларс Алин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 28 страниц)
III
И тут кто-то окликает меня. Я быстрым шагом, словно ничего не слыша, иду дальше. Однако вскоре меня нагоняет спартанец Сосил[36]36
Сосил – греческий писатель, автор биографии Ганнибала в семи книгах. Находился при войске Ганнибала во время похода в Италию.
[Закрыть], которого Ганнибал иногда зовёт Геласином, то есть Хохотуном, потому что он почти никогда не смеётся.
– Ты уже был у шлюх? – запыхавшись, произносит он у меня за спиной.
Я резко останавливаюсь.
– У кого? У шлюх? Что ты хочешь сказать?
– Что, если ты ещё не был, поторопись. Когда на каждую девку по двести человек, сам понимаешь, сомнительное удовольствие попасть к ним под конец.
– Я совершенно не понимаю, о чём ты.
– Разве ты не слышал, что всех потаскух выталкивают взашей? «Досюда, но не дальше», – заявил Рим о нас, ратниках. «Досюда, но не дальше», – заявляет теперь Ганнибал об обозе со шлюхами и вообще обо всех особах женского полу. «Торговать севернее Ибера вы можете, – говорит Рим. – Но если вы переправите на другой берег солдат, на вас обрушатся наши легионы». – «Насиловать местных на левом берегу – пожалуйста, – говорит Ганнибал. – Но если вы попытаетесь протащить туда хоть одну женщину отсюда, будьте готовы к жёстким дисциплинарным мерам, а то и к трибуналу».
– Ты ещё долго собираешься нести эту белиберду? – угрожающе спрашиваю я.
– Нет, ты только посмотри. Да не на меня, а вон туда, дай я тебе покажу один из наших борделей. Вон он, милый Йадамилк. Нет-нет, подвинься в сторону и чуть поверни голову, тогда увидишь.
Схватив за плечи, он силой поворотил меня туда, куда указывал.
– Не задерживай. Сейчас же отпусти!
– Взгляни на очередь. Эти выстроившиеся в ожидании воители напоминают свиней, которые набили себе пасти желудями, но ещё не проглотили их. И настроение у всех препоганое. Удовольствие ведь кратковременно, тогда как похоть гложет постоянно. Они это знают и тем не менее ни свет ни заря приволоклись сюда. Простым солдатам приходится стоять в очереди, чтобы трахнуть девку, и я полагаю, в соседнем борделе творится то же самое. К вечеру над растянувшимся на много стадий лагерем повиснет душный запах спермы и влагалищных соков. Воздух уже теперь начинает пропитываться ими, а ты, Йадамилк, ещё не побывал там!
– Придурок! От твоих слов разит гнилью!
– Может, у тебя в эфебах раб? Парнишка, который ведёт мула с поклажей, очень даже ничего, а?
– Твои речи пристали не спартанцу, а какой-нибудь аттической сволочи.
– Ты, Йадамилк, куда менее учен, чем тебе кажется. Мы, спартанцы, не гнушаемся никем...
– Перестань меня задерживать. Недосуг с тобой болтать, да и руки чешутся...
– Ах, вот как ты себя ублажаешь...
– Чешутся стукнуть тебя! – реву я и наконец-то могу продолжить путь.
Но спартанец, бывший наставник Ганнибала в ратном деле, идёт следом и дышит мне в затылок.
– Подобное распоряжение неслыханно. «Чтоб ни одной бабы, пока не перевалим через Альпы» – так звучит твёрдый приказ Ганнибала. Ни один главнокомандующий в мире не осмеливался требовать такого.
Я пускаюсь бежать, только бы отделаться от докучливого Сосила. И он таки отстаёт. Сейчас, когда я пишу, у меня перед глазами стоят его омерзительные ноздри: две Глубокие алчные дырки, заросшие чёрной щетиной. Раньше я не замечал их. Ещё вчера я относился к спартанцу со скрытой симпатией, вероятно, более всего потому, что он много знает про Ганнибала и охотно рассказывает разные эпизоды из прошлого, так что мне не приходится пытать его. На сей раз он здорово завёл меня, лишив привычной рассудительности, о чём свидетельствует мой вопрос к Силену (именно его, проснувшегося и уже вставшего, я обнаружил у входа в свою палатку):
– Неужели нам предстоит перебираться через Ибер в этом заболоченном месте?
– Кто тебе сказал?
– Никто.
– Да нет, кто-то сказал.
– Кто же?
– Ты сам, – вмазывает мне Силен.
Однако я не успокаиваюсь и спрашиваю дальше:
– Ганнибал небось уже на той стороне?
– Вовсе нет, – отвечает Силен. – Он там, где царица Имилке.
– А она где? – тупо раскрыв рот, интересуюсь я.
– В двух часах отсюда, если верхом.
– То есть обратно, на юг? – продолжаю я выказывать свою тупость.
– Более точный ответ должен включать формулу «К востоку от солнца, к западу от луны». Но почему ты смущён, Йадамилк? Ганнибал пришвартован у тихой пристани, в брачном чертоге, а следующая возможность бросить якорь в сей гавани, видимо, представится не скоро. Видишь ли, брачный чертог...
– Почему тебе нравится повторять это выражение?
– Это цитата из Софокла[37]37
Софокл (497—406) – великий греческий драматург. Написал, по преданию, 123 трагедии, из которых сохранилось 7: «Царь Эдип», «Эдип в Колоне», «Антигона», «Филоктет», «Электра», «Аякс», «Трахинянки».
[Закрыть], – с напускным достоинством произносит Силен.
– Едва ли.
– А вот и да! Могу совершенно точно сказать, в какой трагедии упоминаются эти замечательные метафоры – и «тихая пристань», и «брачный чертог».
– В какой же? – невольно спрашиваю я.
– Конечно, в «Антигоне».
– Прямо-таки «конечно»?
– Да.
– Не помню такого.
– А я помню. Удачные находки, крупицы чистого золота, которые может выловить из языкового потока лишь превосходный поэт. К тому же они стали достоянием всех греков: люди подкрепляют их, используя в речи и получая от этого удовольствие. Метафоры освободились от трагедии и перешли ко всем на уста. Такое случается не каждый день! Тебя, милый штаб-бард, можно было бы поздравить, если б ты совершил нечто подобное.
Я покидаю Силена с ощущением, что меня опозорили или, по крайней мере, опозорили бы, задержись я тут на лишнюю секунду. У меня перед глазами возникает Александрия, одна из её гаваней под названием Эвност, что значит «Счастливое возвращение». Я понимаю, что Эвностом моей жизни может стать только завершённый эпос. «Сколько времени он займёт? – вздыхаю я. – И вообще – сумею ли я? Я ведь ниоткуда не получаю поддержки. Напротив, меня со всех сторон бьют и давят. Боги, даруйте несчастному барду волю и горячее желание свершить задуманное!»
Теперь перед моим взором возникаю я сам: я впервые бреду через роскошный квартал Брухейон к знаменитой на весь мир Александрийской библиотеке. Не стану утверждать, что гнев и необоримая ненависть охватили меня в тот же день. Нет, не в тот же день, но они пришли! На меня нахлынули негодование и злоба, которые поселились во мне, отравив мою душу. Даже в эту минуту, когда я держу в руке перо, во мне оживают те мучительные чувства. Мне делается стыдно, стоит только подумать: где в этой колоссальной библиотеке представлены мы, карфагеняне? Где собраны книжные сокровища финикиян? Сколько полок занято папирусами на финикийском языке? Может быть, они хранятся среди редких книг? В помещениях за семью замками, куда не допускают посторонних? Ведь, клянусь всеми богами, рукописи на родном языке карфагенян должны считаться самыми важными и бесценными...
Ничего подобного. Их вообще нет. Ни одной.
Само собой разумеется, я знал об этом ещё до приезда в Александрию. Но однажды сия мысль ударила меня, словно обухом по голове, и я вскипел от гнева. В тот вечер я напился и буянил, переходя из кабака в кабак. Никто не слушал моих негодующих речей. «Мальчишка просто мелет вздор», – сказал один. «Поезжай лучше в Карфаген – выплакаться на груди у мамочки», – посоветовал другой. «Говори по-гречески и молчи на своём родном языке», – раздражённо молвил третий. Конечно, они правильно делали, что не слушали меня: в тот раз я был почти невменяем. Но разве моя идея не была ясна как день? Нет, в Александрии истину предпочитали считать заблуждением и пустым звуком. Она оставалась сокрытой от всех, кроме меня, который пытался показать её.
Друзья притащили меня домой – предварительно наложив повязку на мои уста. Я вёл опасные речи, в частности, политические: о Птолемеях, о том, что их власть зиждется на мародёрстве. Дескать, усыпальницу Александра Великого нужно снести, а его золотой саркофаг отправить туда, где ему самое место, то бишь в Македонию, в Пеллу; бедным египтянам, которых все презирали, в которых не видели людей, в особенности так называемым «царским крестьянам», я советовал поднять мятеж, изгнать деспотического правителя с его придворными, посадить весь этот сброд на их увеселительный корабль, который не в состоянии плавать. «Топите его! Топите! – шумел я. – Очистите Александрию от скверны!» Мы, финикияне, всегда ценили достойную уважения культуру Египта и его древнее государственное устройство. Неужели никому не известно, что новый Птолемей, тот, кого называют Филопатором, вытатуировал себе на теле лист плюща – в честь Диониса – и что весь его двор предаётся вакханалиям?
По-видимому, никто, кроме меня, не замечал изначальных заслуг финикиян перед высокой культурой. Сия истина ускользала от всеобщего внимания. Ни единой фразы, ни единого слова от тех, кто выиграл за счёт нашего изобретения. Разве беда, что наша литература не заняла сколько-нибудь достойного места? Этому горю могли бы помочь настоящее и будущее, могли бы помочь мы сами, современные карфагеняне, – только бы нам выпал шанс, только бы была создана благоприятная культурная обстановка, только бы к нам проявляли больший интерес, большую восприимчивость, только бы на нас снизошла благодать. Недостатки можно устранить, упущения – исправить, раны – залечить. Однако всем на свете необходимо знать нижеследующее (причём без моих напоминаний, будь то мучительно-страстных или выдержанных в спокойном тоне).
Если бы финикияне не изобрели алфавит, не было бы ни книжных свитков, ни библиотек, ни десятков тысяч читателей в разных концах ойкумены; уверяю вас, все рукописи остались бы ненаписанными, а все их мысли – невысказанными, ибо не существовало бы букв. Попробуйте-ка и дальше высекать в камне иероглифы и выжимать на глиняных табличках слоговые клинышки, посмотрим, много ли вы успеете. Разбудите бардов, приманите рапсодов, позовите гистрионов и комедиантов, посадите всех детей за зубрёжку, и вы обнаружите полную невозможность удержать в памяти созданную к сегодняшнему дню колоссальную литературу. Хранящиеся в библиотеках толстые, солидные труды, которые были созданы благодаря нашей звукобуквенной письменности, ни в коем случае не могли бы передаваться изустно. Иными словами, эти труды вообще не могли бы появиться на свет. Вероятно, мы бы ещё не вышли из пелёнок, уповая на богов.
Откуда же тогда всеобщее закоренелое упрямство?
Ганнибал меня понимает. Он сразу понял меня.
– Тут нам, карфагенянам, похвалиться нечем, – признал он в Гадесе. – Мы даже не пробовали, были заняты другим. Но коль скоро в свитках заключено столько красоты и учёности, не следует игнорировать уже созданное. Напротив, нужно овладеть этим богатством.
– И приумножить, и превзойти его.
– Хорошо бы. Ты, конечно, прав, Йадамилк. Желательно было добиться больше того, что мы имеем. Однако не поздно начать и теперь. Время ещё не вышло. Мир поддаётся изменениям. У Рима положение будет похуже нашего, правда? Ты когда-нибудь обнаруживал хоть один свиток с римской рукописью?
– Я не искал. Впрочем, даже если бы искал, то ничего не нашёл бы. О Риме в тех краях вообще не упоминают.
– Вот видишь. Значит, мы не самые плохие. Рим просто-напросто выскочка. По части культуры от него ещё воняет волчицей и козами, так что никакого другого запаха он пока распространять не может.
– Браво! – воскликнул кто-то.
– Чтобы превзойти Афины и Элладу, Карфагену нужен длительный мир, – решился сказать я.
Неужели я и впрямь решился на такое? Или я спутал место и время? Нет, я действительно произнёс эти слова. И именно в тот раз, в Гадесе, в присутствии сыновей из многих аристократических семейств. Да, именно тогда я осмелился высказать мысль о «длительном мире»! Вот как обстоятельно ответил Ганнибал на мою дерзость:
– Или же крепкая власть. Вы, учёные...
– Пожалуйста, не причисляй меня к учёным, – взмолился я. – Я слишком мелкая сошка.
– Вы, учёные, – продолжал между тем Ганнибал, – а также коммерсанты и судовладельцы, ремесленники и крестьяне или, скажем, женщины... никто из вас не понимает сути дела... В этом вы напоминаете мне свиней, которые не подозревают, что их откармливают на убой, и только на убой, а потому уписывают за обе щеки помои и радуются своей покойной и удобной жизни. Мало кто из вас, людей цивильных, сознает, что самые что ни на есть мирные занятия немыслимы без власти, без государства, а зачастую и без насилия. Но рядом с женщиной, которая чешет шерсть у дверей учёного, вроде бы не должен стоять воин с обнажённым мечом?.. И барда как будто не надо защищать копьями? Его оберегает Муза. И ремесленнику, чтобы продолжать свой полезный труд, не требуется вербовать наёмников? Так по привычке любите рассуждать вы, штатские!
Молчал ли я, стоя в кругу своих сверстников рядом с Ганнибалом? Во всяком случае, я отчётливо помню, как он продолжал:
– Мы, карфагеняне, долго платили дань за землю, на которой воздвигнут наш город, даже за Бирсу – холм, на котором он основан. Как бы обернулось дело, если б мы отказались платить? Естественно, ливийцы вторглись бы в Карфаген и уничтожили всех беззащитных граждан – жрецов и учёных, коммерсантов и ремесленников, женщину с её гребнем и крестьянина с его вилами. Народы, рядом с которыми мы жили, всегда проявляли подозрительность, а более отдалённые – угрожали нам. Так что мы ежегодно вносили дань за позволение жить и существовать в городе, который построили для себя собственными руками. Лишь сравнительно недавно мы перестали платить эту дань. На что это указывает? На то, что мы ослабели и обнищали? Отнюдь нет! Напротив, мы были сильны и богаты. Наше воинство охраняло нас и на суше, и на море. Между военными и политиками не было разлада. В Карфагене царило согласие.
– Как теперь, – вставило сразу несколько голосов.
– На протяжении многих веков нас, западных финикиян, сплачивали язык, который мы принесли с востока, и религия, которая по своему происхождению также была восточной, причём древнее Тира и Угарита. Как бы далеко мы ни забрались от своей прародины, мы понимали, что придаёт смысл нашему существованию и поддерживает его. Прежде всего мы воздвигли храм и устроили пантеон, и наш город стал городом Мелькарта. Мы не имели ничего против греков. Мы торговали и с ними – к их удовольствию и собственной выгоде. Даже когда они следом за нами распространились в разные стороны (какая, однако, ручища была одно время у этого великана-сеятеля!) и начали строить города по соседству с нашими факториями, мы и тут не стали чинить им препоны. Греки не воспринимали нас как настоящих варваров, хотя мы были родом с востока и не знали их языка[38]38
Греки не воспринимали нас как настоящих варваров, хотя мы были родом с востока и не знали их языка. – Греки называли всех неэллинов, говорящих на чуждом грекам языке, варварами. Последним, как считалось, был свойствен низкий культурный уровень, на чём и основывалось представление о естественном господстве греков над варварами.
[Закрыть]. Не у одного Аристотеля, наставника Александра[39]39
Не у одного Аристотеля, наставника Александра... – Аристотель (ок. 384—322) – выдающийся древнегреческий философ. Учился у Платона в Академии и был одним из ближайших его сотрудников. После смерти Платона уехал из Афин, несколько лет был воспитателем Александра Македонского. По свидетельству Плутарха, Александр говорил, что своему отцу Филиппу он обязан тем, что живёт, а Аристотелю – тем, что живёт достойно.
[Закрыть], были веские причины написать: «Карфагеняне не варвары». Но стоило грекам превратиться в пожирателей земель, какими теперь являются римляне, как они начали угрожать нам и обзывать нас ориентальцами и корнем всех зол. Тогда уж мы сплотились всерьёз. Мы даже объединились против общего врага с этрусками. Это давняя история. С тех пор нам и приходится год за годом сражаться, притом не на жизнь, а на смерть, ради жрецов и учёных, ради коммерсантов и матрон.
Ганнибал раскрыл руки, словно предоставляя слово всем желающим.
– Наша борьба с западными греками продолжалась много веков, – произнёс высокий юноша.
– Мы всегда вели оборонительные войны, – подхватил другой.
– Совершенно верно, – согласился Ганнибал. – Война против Рима тоже оборонительная.
– Однако Рим распускает слухи о том, что мы сами выбрали войну.
– Римляне умеют передёргивать факты.
– Им верят одни глупцы.
Сыны знати всё прибавляли и прибавляли реплики, пока их не набралось порядком, хотя сами молодые люди были равнодушны к предмету разговора. Ганнибал нетерпеливо тряхнул головой, которую венчала диадема.
– Я хочу вернуться к тому, с чего начал. Преуспевающим гражданам не стоит обольщаться на собственный счёт, если они не считают власть необходимой предпосылкой для своей деятельности.
– Клянёмся, что мы...
Ганнибал жестом отмёл их возражения.
– Про вас и так всё ясно!
– И наши родители тоже, – добавил одинокий голос.
– Послушайте. Если удобная система письменности служит предпосылкой как для великой, так и для мелкой поэзии, как для значительных учёных трудов, так и для никуда не годных, то и власть обусловливает всю гражданскую жизнь, как повседневные дела, так и великие свершения. Ты мне не веришь, Йадамилк?
– Конечно, верю. Ты давно убедил меня. Ради меня не стоило даже начинать...
– Минуточку. Ты слишком быстро сдаёшься. Естественно, люди более или менее наслышаны, что первый алфавит, сделавший письмо простым и лёгким, изобретён нами. Однако требовать после этого признания следующее – что все крупные труды, заполняющие сегодня библиотеки, не существовали бы без содействия наших предков, – это уже слишком, по крайней мере сегодня. Слова и истина должны быть подкреплены властью. Справедливой властью, Йадамилк. Иначе нами будут помыкать все, кому вздумается.
– Значит, мы сошлись во мнении, что искусство слова способствует возвышению конкретного народа и придаёт ему больший вес в глазах других?
– Интересно, кто призвал тебя сюда, если не я?! – рассмеялся Ганнибал.
И сверкнул зубами. У него совершенно великолепная голова... Как у священного змея. К тому времени Ганнибал ещё не стал в моих глазах Орлом. Теперь я знаю, что его профиль обладает суровой красотой Орла. Прямая спина и величавая посадка головы придают этой птице силу и делают удар клюва смертельным.
– Мы многому научились у греков, – продолжал Ганнибал. – Даже я, не говоря уж о Йадамилке. Однако есть одна вещь, которой они, видимо, научили нас на свою погибель: жадность до земель! Мне нелегко откровенно признаваться в этом, хотя мы, Баркиды, всегда старались умерить сей аппетит. Итак, в своё время карфагеняне перестали платить дань. Это стало возможно благодаря нашей силе и кое-чьей алчности к благородным металлам. Не столько монеты, сколько сила способствовали тому, что мы начали скупать земли за стенами нашего города. Из года в год у нас собиралось всё больше собственной земли. Но я не был бы Баркидом, если бы вдруг принялся убеждать всех: нам надо бросить свои замечательные посадки, свои оливковые рощи и пшеничные поля, своих превосходных лошадей, овец и быков и снова запереться за городскими воротами!
Теперь юные львы[40]40
В своё время Тит Ливий утверждал, что Гамилькар Барка вскармливал своих сыновей, как львов, натравливая их на римлян.
[Закрыть] молчали, не произносили ни слова и присутствовавшие при разговоре некарфагеняне.
– Между тем положение таково, – повёл речь далее Ганнибал, – что именно плодородные земли, жирный чернозём соблазнили греков напасть на нас. Мы даже – в виде предупреждения – лицезрели их на своих городских стенах! Но им нужен был не город Карфаген, а поля, приносившие обильные урожаи. Мы же, если бы нам того захотелось, могли занять страну ливийцев и нумидийцев от края до края. Однако мы вовсе не стремились к созданию огромного государства, вроде Египта или Персии, а потому не делали таких попыток. А если какая-нибудь карфагенская партия принималась настаивать, на неё всегда находился Баркид. Зато мы создали империю городов, империю, существующую уже много веков. Посмотрите, насколько прочнее наше государство по сравнению с тем, которое построил Александр! Он пронёсся ураганом, бешено летящим вперёд суховеем. Все застонали – и целые страны либо полегли к императорским ногам, либо были обращены в пепел. Так называемая Римская держава будет ещё более недолговечной. Мы ненавидим пожирателей земель. Где бы и как бы они ни объявлялись, они посягают на нашу жизнь. Испания не принадлежит нам. Мы образовали здесь содружество, союз свободных государств. Дальше этого мы никогда не пойдём. Как вам известно, войска выбрали меня своим предводителем, и их выбор утвердил не только Карфаген, но и сход испанских правителей.
Я пишу, а у самого в глубине души шевелится мысль: когда я успею записать всё, что просится на бумагу? И тут я вспоминаю сад в Новом Карфагене, где Жизнь пела мне: «Ты проживёшь до глубокой старости, станешь знаменитым, уважаемым и почитаемым». Отсюда, с берега Ибера, где стоит лагерем наше войско, достижение этой цели кажется неизмеримо далёким. Сейчас я вовсе не тот, о ком мне поёт Жизнь. Я не ограждён даже от непристойностей Сосила или наглости Силена. (Неужели Софокл действительно пустил в ход столь слащавые выражения? Да ещё где – в «Антигоне»... невероятно!) А совсем недавно я рвал и метал у себя в палатке, обращаясь с грозными словами к Орлу – могучему, но отсутствующему Орлу, который не в состоянии защитить меня от ударов из-за спины и притом лишает возможности испытать прилив сил от размеренных взмахов его крыльев, когда мне это особенно необходимо.
Мы, карфагеняне, совершаем такое же кощунство по отношению к языку, как в своё время совершали по отношению к богам, протягивая для МОЛКа детей рабов – вместо перворождённых младенцев знатных родителей. Тогда это худо обернулось для нас. Солнце в небе померкло. Под покровом тьмы на берег высадился грек Агафокл и стал угрожать нашей империи ратью[41]41
Под покровом тьмы на берег высадился грек Агафокл и стал угрожать нашей империи ратью. — Агафокл – возглавивший в 318 г. демократическое движение в Сиракузах авантюрист, которому Карфаген помог прийти к власти. Но затем Агафокл стал воевать с Карфагеном за господство в Сицилии. В ходе войны Агафокл перенёс военные действия в Африку и добился определённых успехов. Однако эта война закончилась договором в пользу Карфагена, который сохранил все свои владения в Сицилии.
[Закрыть]. Тогдашние карфагеняне плутовали со священными жертвоприношениями, в результате чего были поколеблены основы государства. Мы были бы сметены с лица земли, если б не одумались и не постарались исправить прежние огрехи и легкомыслие. Дабы предотвратить полную катастрофу, наши аристократы отдали на всесожжение пятьсот детей – в виде жертвы Верховным Супругам, Баал-Хаммону и Танит-Пене-Баал.
– Из всех, кого я хорошо знаю, ты, конечно, самый дерзкий. Неужели ты хочешь, чтоб мы снова пожертвовали сотнями младенцев – а может, теперь тебе подавай тысячу?! – с одной-единственной целью: ради славы карфагенской литературы, ради того, чтобы мы своим эпосом переплюнули греков?
Я сглатываю и чувствую, как тяжело стало дышать.
– Отвечай же! – требует Орёл.
– Мы допустили уйму промахов, – выдавливаю я из себя, прежде чем Орёл успевает стукнуть меня жёстким папоротком крыла. – Финикийский язык испорчен. Он пришёл в упадок, выродился. Он заражён таким количеством заимствований от варваров, что теперь страдает самыми разными болезнями. Наши уста порождают уродов и ублюдков. При обсуждении серьёзных тем мы тужимся, точно рабы, когда они пытаются сказать что-то своё. И получается переливание из пустого в порожнее, только и всего. Красноречие не более досягаемо для нас, нежели затонувшая Атлантида.
Когда я дохожу до этого места, меня настигает удар.
– Сколько же жертв ты требуешь принести для удовлетворения твоего эпического тщеславия?
Но я не сдаюсь. Под угрозой ударов когтей и клюва я продолжаю:
– Карфагенская молодёжь тоже ждёт эпоса в высоком штиле, эпоса, который бы дышал покоем, как море, мерно колышущееся волнами и в то же время готовое в любую минуту показать свой норов, море, бьющееся об утёсы и вдребезги разносящее незадачливые суда, – эпоса с подводными течениями, которые проявляют свою силу, выныривая из языкового потока у самой поверхности и подхватывая вас, подобно рукам божества. Уверяю тебя, Ганнибал, что это так, я точно знаю: у молодых людей, принадлежащих к разным средиземноморским народам, одно и то же желание. Лишь очистительное вымачивание в эпосе может закалить и укрепить нас, говорят все, кто требует от поэтов прежде всего подвергнуть язык дублению. Нам нужны не красильни, а дубильни!
Ты, Ганнибал, навязываешь мне скоропись. Слова мои прыгают горными козами и в беспорядке, обвалом скатываются вниз. Будь уверен, что греческие юноши надеются напрасно. Впрочем, ими владеют скорее сомнения, нежели надежды. Выработанные золотым веком убеждения не позволяют им баюкать себя безмятежными упованиями. Устав от Гомера, они действительно говорят о нарождающейся современной эпике. Появилась «Аргонавтика» Аполлония Родосского[42]42
Аполлоний Родосский (ок. 295—215) – древнегреческий поэт и грамматик. Его поэма «Аргонавтика» – один из памятников эллинистической поэзии, оказавший большое влияние на римскую литературу.
[Закрыть]; поначалу она вызвала пламенные восторги, но затем они потонули в обрушившихся на неё со всех сторон Эгейского моря язвительных насмешках и зубоскальстве. Уверяю тебя, Ганнибал, что в Элладе новых сил на подходе нет. Возможности греческого языка истощены, оригинальность и свежесть испарились с этого чудесного луга, некогда радовавшего глаз необыкновенными цветами. Обновление должно прийти из других краёв. Представь себе, что нас обгонит Рим!
Орёл ударил безжалостно и сильно, теперь уже обоими крылами, которые объяли меня столь навязчиво и крепко, что мне показалось, будто он не только может, но и хочет удушить меня. Я вынужден выпустить из пальцев перо. Рука моя повисает плетью, словно у новопреставившегося. Однако я быстро прихожу в себя.
– Моя аналогия была глупа, – шёпотом признаю я. – Нельзя ставить на одну доску детей рабов и испорченный язык. Естественно, я не хочу, чтобы мы снова в широком масштабе прибегали к МОЛКу – разве что того потребуют боги. С моих губ тоже срываются убогие слова. Вот до чего довело нас смешение языков. Но согласись, что метафора Софокла, если она всё-таки принадлежит ему, малоудачна, тенденциозна и попахивает сентиментальностью. «Тихая пристань» звучит филистерски: крестьянин, ратник, гребец постесняются выговорить таксе. В устах знати это выражение тем более немыслимо. Оно может подойти разве что для пугливых мытарей, которые при малейшем изменении конъюнктуры запирают окна и двери и, стеная, призывают к себе жену и детей, дабы совместно предаться воплям и жалостливым утешениям. Сам ты, Ганнибал, конечно, безупречен. Твои воины это понимают, за что и восхищаются тобой. Они чувствуют, что ты отдаёшь им все свои силы. Как и подобает предводителю, ты женился по политическим соображениям: нужно было задобрить иберов. Говорят, им польстил твой выбор, и в карфагенских верхах наступило спокойствие. Баркиды не приросли за счёт ещё одного могущественного семейства. Что касается твоего решения отослать обоз с потаскухами, тебе подсказал его твой стратегический гений. Гипергрек Силен злословит по этому поводу. Ну и пусть катится отсюда с этой сворой женщин. Здесь от него разит гноищем.








