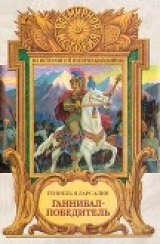
Текст книги "Ганнибал-Победитель"
Автор книги: Гуннель Алин
Соавторы: Ларс Алин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 28 страниц)
VII
Уйдя от болот, мы попадаем в местность не менее своеобразную. Теперь начальствование переходит к ратному жрецу Богусу. Пейзаж, расстилающийся перед нами, куда ни кинешь взгляд, напоминает пустыню. Бесплодная почва сплошь усеяна красноватым камнем. Этот край тоже едва ли способен вызвать нашу приязнь. Богус рассказывает о том, как сюда попали красные камни, и объясняет, что нам всем надлежит пасть ниц перед ними. Он делает это сам, и многие следуют его примеру. По мере того как рассказ его доходит до дальних шеренг, всё больше и больше воинов падает ниц.
Давным-давно, когда до этих мест добрался бог Мелькарт (которого греки впоследствии окрестили Гераклом, а римляне стали после них называть Геркулесом), его остановил великан по имени Альбион. Великан не желал видеть здесь Мелькарта. Воинственно настроенный, он просто кипел от гнева. Стало очевидно, что он не успокоится, пока не отнимет у Мелькарта жизнь. Тогда наш бог поднял лук, прицелился и выстрелил. Это было всё равно что стрелять в высокий дуб. Стрелы застревали в дубе, тогда как сам он оставался стоять, крепок и прям. Когда Мелькарт расстрелял весь колчан, великан Альбион, целый и невредимый, угрожающе двинулся на него. Тогда Мелькарт призвал на помощь самого Баал-Хаммона. Тот не отказал ему: средь ясного неба на великана обрушился град камней, который и порешил его. Мелькарт получил помощь – посмотрите сами, какая масса камней потребовалась, чтобы прикончить кровожадного злодея Альбиона. И до сего дня камни сохраняют красный цвет его крови.
В связи с этим божественным вмешательством мы принесли в жертву Баал-Хаммону чудесного чёрного быка. После жертвоприношения мы съели быка. Мне достался большой кусок, еле уместившийся в руке. Происходило это ранним утром, при низком солнце и в окружении головокружительных высот. В ушах у нас уже начинал свистеть ветер. Вскоре погода совсем испортилась. Ветер разыгрался не на шутку, одну половину небосвода стало затягивать странного вида тучами. При свете дня перед нами громоздились иссиня-чёрные города и охристо-жёлтые укрепления; они возникли, чтобы тут же исчезнуть, сменившись пропилеями и прочими воздушными сооружениями. Нас отвели на опушку пиниевой рощи, надеясь, что она послужит защитой от набиравшего силу урагана.
Однако мы попали из стихии сумасбродствующей в прямо-таки сбесившуюся. Похоже было, будто в роще растут не деревья, а злобствующие фурии. Каждая пиния обрела собственный страшный голос. В творящемся гвалте эти безумствующие создания подняли такой вой и вопь, что привели в ужас лошадей, у ратников же пальцы невольно потянулись к ушам, чтобы заткнуть их. Каждая пиния превратилась в разъярённую ведьму, которая, неистово размахивая бесчисленными руками, грозилась обрушиться на нас. Нам ещё не приходилось слышать подобного гама. Пинии звучали одна невыносимее другой. Тут были и надсадный кашель, и визгливый скрип, и стон, и рёв, и свист – все они пронзали нас своими острыми жалами. Всё войско, насколько я видел, точно ополоумело. Пехотинцы падали ниц, кони устремлялись вскачь неведомо куда, слоны, сложив огромные уши, становились по двое и упирались лбами друг в друга.
Да, мир сделался чудовищно ненормален, природа обратилась в руках божиих супротив естества, мы оказались фактически беззащитными, а наши меры предосторожности – совершенно бестолковыми...
Больше всех перепугался жрец. Какие он допустил ошибки во время священного ритуала?
А что происходит в моей палатке? Мои размышления прерывает появившийся в дверях вестовой. Он прислан Ганнибалом и говорит, что Бальтанда (который всё ещё спит) должны завтра поутру представить воинству вместе с вождём бойев Магилом из долины Пада. Зачем? Этого мне не сообщают. От меня вообще многое утаивается. Я не съел быка, я вкусил от него, причём получил большой кусок. Значит, Бальтанд – фигура значимая, смекаю я. Может быть, в часы, проведённые с ним, я играл более важную роль для великого военного похода, нежели я считал ранее? Может быть, кусочек волчатины вырос теперь в большой кусок?
Я не успеваю обдумать этот поворот событий. Вошедший в палатку верный слуга Астер рассказывает, что подошла очередь слонов переправляться через Родан. Такое великолепное зрелище пропустить нельзя! На всякий случай я расталкиваю Бальтанда и, схватив крепкой хваткой, беру его с собой.
Вдоль берега уже толпится пехота, собравшаяся поглазеть на необыкновенное действо. Я замечаю тут и многих писцов. Никто из них, насколько я вижу, не обременён мелкой тварью вроде Бальтанда. Один только я! Писцы ведут себя довольно развязно. Они пялятся и строят мне рожи, точно я – полная противоположность тому уникальному номеру, который исполняется сейчас на реке. Они идут в нашу сторону, как будто хотят заговорить со мной, но, приблизившись, внезапно отворачивают в сторону. Причём это петляние повторяется не единожды. Чего они хотят? Помешать мне наблюдать за происходящим? Или от меня дурно пахнет? Может, они боятся меня? Или просто испытывают? А, плевать! Их зады напоминают мне пустую доску для объявлений – по-испански tablon de anuncios!
Моя правая рука устала обнимать Бальтанда. Удержу ли я его левой? Должен удержать! Я поспешно меняю руки.
Писцы продолжают строить мне гримасы. Они не выносят меня. Мои привилегии для них – бельмо на глазу, мой талант – вонзившийся в кожу шип, мой свободный, светский образ жизни пробуждает в них мечты, которым не суждено осуществиться в этом мире, – вот почему один мой вид раздражает их. У меня уши вянут и глаза сохнут от их претенциозной некультурности. «Отвалите, засранцы несчастные! – так и хочется крикнуть мне. – Пошли в задницу, culum et clibanum!» Я смотрю на Родан, но настолько разволновался, что почти ничего не вижу.
Бальтанд жмётся ко мне. Уж не страх ли пробрал наконец этого искателя приключений? Обсуждать с ним сколько-нибудь сложные предметы бессмысленно. Попытайся я рассказать о вызывающем поведении писцов, он всё равно не поймёт меня. Когда Бальтанду нужно объяснить мне что-то чуть более сложное, он прибегает к неуклюжим вставкам на каком-то кельтском наречии, поскольку его владения греческим явно недостаточно.
Писцы продолжают изображать дурацкие пируэты около нас. С каким бы удовольствием я передал своего Бальтандика одному из них! «Вот тебе знатная норманнская муха, поди-ка понянчись с ней!» Я запрятываю взгляд как можно глубже, чтобы видеть происходящее вокруг лишь искоса, боковым зрением.
Эти летописцы повседневности везде одинаковы. Они ходят в солнечный день с зажжённым фонарём и уверяют себя, будто именно они распространяют кругом свет и просвещение, будто сам ход событий в мире зависит исключительно от них. Вот откуда их забавное выражение лица: «я первый» – когда речь идёт о какой-то новости, и «я самый умный» – когда дело касается объяснения запутанных явлений и событий. Они хронически страдают от зависти друг к другу. Ведь среди них постоянно происходит смена лиц: вчера ещё Наипервейший Первый вынужден по непонятным причинам уступить своё место новому Наипервейшему – ведь только Наипервейший годится для создания той или иной сенсации.
Создание... созидание... «Да, как насчёт созидания?!» – хочется мне крикнуть им. Откуда приходят выдающиеся творческие успехи? Как они получаются – кто, из чего и почему творит новое? Как возник весь мир? Эти пустые доски не задаются столь праздными вопросами. Зато чуть что, они уже готовы обделаться от страха! Каждый акт творчества кажется им опасным, как зыбучие пески, как светопреставленье. Они предпочитают держаться на расстоянии, позволяющем удовлетворять их любопытство. Если процесс созидания затягивает их глубже, у них пропадают какие-либо устремления, они не могут выдавить из себя ни слова, не могут продолжать ходить по белу свету с зажжённым фонарём. Им, разрази их гром, необходимо выложить истину сию минуту, причём жеваную-пережеваную, чтоб дошла до последнего дурака. Родовые муки творчества пагубны для них, ибо напрочь лишают их дара речи и способности нести свет в массы – ни фонарь, ни свечка в руке более не зажигаются.
О поэзии они не имеют ни малейшего представления. Чистые воды поэзии никогда не орошали их души. Почти ничего не известно им и о поэтическом источнике, забившем из горы Геликон благодаря удару копытом несравненного коня. Этот «лошадиный источник» принадлежит музам, а потому он также первоисточник живой речи. Когда музы принимались петь, гора Геликон приподнималась, росла ввысь от восхищения. Приходят ли в восхищение летописцы повседневности? Да, от собственных каракулей. Пинки под зад, которые они раздают в своих acta populi[88]88
Также «acta publica» или «acta diurna» (лam.) – хроника, дневник ежедневных происшествий. Под таким названием в Древнем Риме вывешивались для всеобщего обозрения новости, правительственные распоряжения, приказы и т. п.
[Закрыть], доставляют их нёбу не меньше удовольствия, чем свежайший кусок дерьма. Слова для них всё равно что кучка игральных камешков: они хватают первые попавшиеся и бросают их на разграфлённый лист. Разве они могли бы запоминать эпос? Что они знают про небезопасные перескоки с крыла на парус и обратно? Или про ужас, который ты испытываешь, когда разверзаются языковые горизонты, открывая бездну хаоса? Или про душевную радость, которая приходит к тебе, когда намечаются очертания будущего стиха? Эй ты, задница, назови-ка истинное солнце речи! Ага, не можешь! Ну что ж, я скажу сам! Это эпос. Эпос! Он, и только он, дарует свет, исходящий от языка.
– Ответь мне на один вопрос, – просит Бальтанд, с трудом приподнимая зажатую голову. – Почему он чёрный?
– Мой раб?
– Ну да! Я слышал про чёрных, но никто не объяснил мне, почему они такие.
– А тебе кто-нибудь объяснил, почему ты розовый?
– Ответь на мой вопрос, карфагенянин. Почему они чёрные? Они ведь такие же люди, как мы.
– Астер принадлежит к народу с обожжёнными лицами.
– Но почему он тогда не красный, а чёрный?
– Он родился ближе к солнцу, чем ты.
– Солнце никого не чернит до угля.
– Оно никого и не розовит.
Бальтанд обижается и хочет сделать шаг в сторону от меня. Но вместо него делаю шаг я. До меня доносятся возбуждённые голоса. На реке что-то происходит. Беда! Кто-то громко кричит, над Роданом распространяется тревога, она растёт вширь и одновременно усиливается. Вот она уже накатывается на нас. Могучий Родан, которому впервые приходится нести на своей спине слонов, не желает мириться с прыгающей тяжестью этих колоссов. А я? Я тоже ощущаю перекатывающуюся тяжесть моего бедного неоконченного эпоса, который на самом деле существует лишь в виде разрозненных звучных обрубков. Но что самое тяжёлое? Самое тяжёлое то, что не поддаётся взвешиванию! На меня давит непомерной тяжестью ещё не написанное.
Я смотрю на происходящее холодным взглядом. Здесь, в эту самую минуту, мне нужно увидеть его как нечто конкретное – только тогда придут слова. Я хочу найти какую-нибудь неожиданную деталь, которую можно было бы запечатлеть словом и превратить в значимую.
Несколько боевых слонов очутились в воде, и теперь их сносит течением. Я слышу встревоженные реплики: «Теперь все утопнут, пойдут на дно – и поминай как звали». А куда делись погонщики слонов? Их нигде не видно! Погублены дорогие, незаменимые служители. Почему никто не вмешается и не поможет? Конечно, переправа слонов была тщательно продумана, однако теперь все усилия пойдут насмарку. Найти новых конников несложно, слышу я с разных сторон, но хорошего вожака слонов из всадника ни за что не получится. Нет, конный воин не годится в индийцы – так зовут народ, обитающий далеко на Востоке, но у нас этим словом пользуются для титулования.
Толпа волнуется и горячо высказывает разные мнения. Народ снова и снова перемалывает всё: и то, что проходит на удивление удачно, и то, что срывается. Необычайные события всегда разжигают страсти, поднимают жизненные силы. Приносят эти события счастье или беду, не играет роли. Почему же я не испытываю подъёма сил, не чувствую у своего жизненного тонуса разгоревшегося аппетита? Ответ предельно ясен. Йадамилк всегда стоит особняком, его мало интересует то, что потребно толпе.
VIII
Как же мне наскучило всё, что я видел и продолжаю видеть у этой реки! Кто спасёт Йадамилка от скуки? Шесть дней мы уже шумим здесь, шесть дней галдим и бьём тревогу. Сначала нужно было отогнать кельтов, пытавшихся оказать слабое сопротивление на левом берегу. Потом надо было изыскивать переплавные средства. И надо сказать, их оказалось немало. В этом месте по реке большое движение, а воинская касса у Ганнибала тяжёлая. Кроме того, многих ратников поставили валить деревья и обрабатывать стволы, дабы потом использовать их для переправы. Наделали плотов, больших и малых, вместо вьючных животных приспособили колоды, часть из которых плыла, а часть – шла ко дну.
Пока происходил весь этот наем, строительство и просто конфискация плавучих средств, на нас таращилось кельтское племя, которому принадлежат прибрежные земли как по ту, так и по эту сторону реки. Нас осыпали криками и всячески стращали. Кельты эти были людьми своевольными, но не настолько независимыми, чтобы не поддаться на подкуп Массилии. Отсюда воинственные кличи и внезапные перебежки туда-сюда, призванные увеличить их число в наших глазах. По ночам нас донимали широкой полосой костров вокруг, а днём – нескончаемым дудением в рога. Смешно! Неужели они думают, что у солдат такие же уши, как у женщин? У тех уши действительно самая нежная часть тела.
Ганнибал придумал очень простой план. Он послал племянника Ганнона с отрядом испанских конников вверх по течению. Это было сделано ночью, в расчёте на то, что Ганнон и его люди переправятся через Родан в никем не охраняемом месте. План удался. Однажды утром Ганнон подал нам условленный дымовой сигнал начинать лобовую атаку на кельтов. Одновременно его тяжёлая конница напала на крикунов с тыла. Как всё прошло? В точности согласно задуманному Ганнибалом. Всё племя полегло – кроме тех, кто спасся бегством. У кельтов ещё не сложилось общенациональное самосознание. Их занимает исключительно собственное племя, его непосредственные потребности и интересы.
Что случилось со слонами, которые свалились в реку? Они достали до дна, быстро обнаружили, что могут противопоставить сносящему их течению свою упрямую силу, и нога за ногу перебрались на ту сторону. Некоторые из них (те, что были индийского происхождения) перебирались легче других из-за своего большого роста, но и наши ливийские лесные слоны выдержали испытание. Задрав хоботы и бешено трубя, они выбираются на сушу, причём на нужный берег, после чего застывают в нерешительности, чувствуя, что погонщик не сидит на привычном им месте. Они взмахивают хоботом над головой и ощупывают пустоту. Затем хобот опускается и начинает биться обо всё кругом. Уперев маленькие глазки в землю, слоны недовольно ворчат.
Наши индийцы тоже живыми достигают берега, где сначала выхлёстывают из себя набравшуюся в реке воду и катаются по траве, но вскоре восстают и вновь обретают ощущение того, что в этом мире вполне можно передвигаться на своих двоих. Обычно ведь мир и человек живут в согласии: вселенские законы (nomoi) приложимы как к миру, так и к человеку.
– Ты только посмотри туда, – говорю я, толкая Бальтанда в бок.
На том берегу отправляют в путь следующий плот со слонами. На сей раз переправа исполинов проходит без происшествий. У Ганнибала обычно всё кончается удачно. С тех пор как мы перешли Ибер, его рать сократилась наполовину. Незаметно, чтобы это его сильно беспокоило. До сих пор всё идёт более или менее в соответствии с планами. «Всё в полном порядке» – так, вероятно, оценивает сейчас положение Ганнибал? Не знаю. Мне редко удаётся поговорить с ним. Его взгляд время от времени скользит по мне, но никогда не останавливается. Ни одного личного приказа от Ганнибала. Ни одного слова, предназначенного мне, и только мне. Выводы приходится делать самому, зачастую на основе мимоходом брошенных слов и случайных впечатлений. Полезно ли это для моего эпоса?
По-видимому, захват земель и меры безопасности, принятые в тылу, призваны компенсировать уменьшение войска? – рассуждаю про себя я. Если боевая сила и далее будет сокращаться, как воспримут это наёмники? У нас были большие потери в Каталонии. В Галлии много ратников было посажено воеводствовать на местах. Как их отбирали? Истинный наёмный солдат предпочитает терпеть прихоти Фортуны, вертясь в её колесе. Один военачальник сказал мне: «Если они даже упадут, то упадут со столь небольшой высоты, что едва ли это причинит им серьёзный вред».
Ганнибал никогда не позволял себе такого цинизма. Он бережёт каждого хорошего воина. И разве то, что ты «жив и здоров», – не самая большая радость для каждого из нас?
Я снова и снова спрашиваю себя, почему он перестал вербовать новых солдат, но вопрос сей по-прежнему остаётся без ответа.
Скука колет мне глаза. Великолепное зрелище обернулось показушным спектаклем. Я резко разворачиваюсь и удаляюсь в палатку, где и сижу, измученный и расстроенный. Я пытаюсь поддеть себя насмешкой. Мы съели всего быка, но не одолели его хвост. Увы, я плохо переношу издёвки и подковырки, даже просто неприятности, поэтому и замечаю каждую пустяковину. Но что теперь? Мой эпос – это мечта, которая висит на ниточке, на нескольких слабых лучиках солнца. Поскольку мы с эпосом составляем единое целое, образуем то, что греки называют «генадом», я тоже подвешен на этих хилых лучиках. Я всё шарю и шарю вокруг, пытаясь ухватить пучок побольше, но мои усилия пропадают втуне.
Наверняка солнце моего эпоса во всём своём блеске сияет где-то в другом месте. Только не здесь. Не в палатке на берегу Родана, у которого Ганнибал завершает свой очередной подвиг. Мой враг – время. Ганнибалов – римская держава. Я правильно мыслю, но неправильно формулирую свои мысли. А слова порождают вещи и поступки. Таково моё кредо, если выразить его простыми словами. Тем не менее в данном случае мне кажется верным и высказывание презренного Демокрита[89]89
Демокрит из Абдеры (ок. 460 – ок. 370) – древнегреческий философ-материалист, основоположник атомистического учения.
[Закрыть] о том, что «слова суть тень поступков».
С какого-то времени дела у меня пошли из рук вон плохо. Я свернул вбок, и это отразилось на моём поэтическом вдохновении. Ровное плетение ткани прервалось, прекрасный, чистый голос сорвался и начал фальшивить, эпические симметрии были нарушены и исчезли. Золотая полоска эпоса, подобно тени солнечных часов, сползла с камня, который я держал перед собой. И тут же всё потемнело, помрачнело, стало пустым и порожним. А я остался сидеть с камнем, про который знаю, что он целиком состоит из речи, из словесных блоков, пока не извлечённых из него, может быть, даже не обнаруженных в нём. Раньше я видел в камне золотые и серебряные прожилки. От них исходят главные мысли о том, что призван воспеть мой эпос. Камень, о камень, моя «петра», скала, на которой я хотел бы возвести свой эпос... почему же ты умолк, поющий утёс? Зазвучи, молю тебя, возвысь свой голос!
Кажется, это злосчастье постигло меня под стенами Эмпория? Именно там я сильнее всего затосковал по всему греческому! Тем не менее я прекрасно знаю, что стоит нам по-настоящему углубиться в собственное наследие, и мы обнаружим там теснейшее переплетение Востока с Западом. Это справедливо в отношении всех цивилизованных народов Средиземноморья. Так что не пристало карфагенянину томиться ностальгией по какому-то Эмпорию. Нельзя не признать, что греческий стиль достиг больших высот, отчего он и стал образцом для других народов, стремящихся дотянуться до него и ещё выше. По сути дела, стиль этот образовался из смеси восточного с западным. Кипрский царь Пигмалион был финикийцем, верно? Но его безрассудная влюблённость в изваянного им же самим идола из слоновой кости была курьёзна, она была смехотворным безумием. Эх ты, скудоумный Пигмалион, ничтожный комедиант! Тебе бы создать статую на уровне самых потрясающих работ Праксителя или Фидия[90]90
Пракситель (ок. 390 – ок. 330) – древнегреческий скульптор. Работал в Афинах. Произведения его сохранились главным образом в мраморных римских копиях. Знаменитые его работы: статуи «Отдыхающий сатир», «Гермес с младенцем Дионисом», «Афродита Книдская» и др.
Фидий (ок. 500—431) – древнегреческий скульптор, автор статуй Афины Промахос (Воительницы) и Афины Девы (Парфенос) в афинском акрополе, Зевса Олимпийского, а также других выдающихся произведений античного искусства.
[Закрыть]. А ты вместо этого сотворил всего лишь женщину (которых кругом пруд пруди) и детей (которых тоже более чем хватает).
Неужели ошибка Пигмалиона так засела в веках, что теперь проросла во мне – и я, в свою очередь, стал уморительным глупцом? Неужели карфагенянам на роду написано отдавать предпочтение низкой жизни перед чистым искусством? Между прочим, Пигмалион был братом нашей богини и царицы Дидоны, той самой Дидоны, которая основала в далёком прошлом Карфаген и которую изначально знали под финикийским именем Элиша!
Почему меня пугает Ганнибал-Волк? Почему собравшаяся воедино рать привиделась мне в образе чудовищного дракона? Что обжигает моё сердце? Искры из горнила учёности, отвечаю я сам себе. Я прекрасно понимаю, к восприятию чего ещё не готов. Откуда мне это известно? Я смущаюсь, я краснею. Смущение – это защитный вал, поспешно воздвигаемый против натиска бесстыдных знаний. Если бы я впитал в себя все доступные сведения и знания, я бы обратился в прах. Способность смущаться свидетельствует о моих потенциальных возможностях, которые мне пока рано использовать. У меня до сих пор в памяти женщина, впервые в моей жизни посмотревшая на меня с вожделением. Тогда я не понял ни почему к лицу моему прилила кровь, ни почему я испытал растерянность. Вскоре, однако, я узнал, что всё это связано с тем, кто я такой и насколько гожусь к тому, чего ещё не пробовал.
Мы, люди, способны воспринимать знания только в должное время. Если они приходят не вовремя, мы вынуждены защищаться. Ганнибал осознает это. Он был прав, сказав мне в Гадесе: «Ты слишком торопишься, Йадамилк». Я быстро признал истины, о которых разглагольствовал Ганнибал – насилие и власть как предпосылки обеспечения хорошей жизни, – но признал в разбавленном, абстрактном виде. Я даже не покраснел, что было бы признаком внутреннего сопротивления. Знание, сведённое к абстракции, не задевает человека. Да-да, конечно... победитель прибегает к насилию, и он всегда прав. Как может быть иначе! Ещё мой отец, бывало, посмеивался: «Труп врага всегда пахнет приятно». Бессердечное знание само овладевает массами, его никому не приходится вдалбливать.
Но Ганнибал-Победитель пробуждает во мне смущение. Меня бросает в краску. У меня цепенеет шея. Я не могу глотать. Пересыхают губы. Сердце еле бьётся. Мне хочется сбежать. Хочется потерять сознание. Хочется избавиться от времени. Ведь время – горнило знаний. И я уже попал в самое полымя. Однако я не погибаю. Я поклоняюсь тому, что пробуждает моё смущение. Я признаю только Ганнибала-Победителя. Меня тянет вскочить и нестись к Ганнибалу, только бы ещё раз взглянуть на него. Возможно, мой взгляд различает нечто не замеченное другими, что красит его не меньше, чем когти Орла и клыки Волка?
Я воздерживаюсь от искушения. Вернее, приберегаю возможность поддаться искушению до другого случая.
«Рим будет примерно наказан Карфагеном», – думаю я, придя в более спокойное состояние. Речь ведь не о выяснении отношений между Баркидами и одним римским родом. Решающее слово тут не за Корнелиями, заклятыми врагами Карфагена, возглавляющими партию империалистов. И не за партией осторожных соглашателей и уступателей, Фабиев в Риме и так называемого Ганнона Великого с его прихвостнями в Карфагене. Сам Карфаген был унижен, предан и опозорен Римом. Ни один Баркид и ни один римлянин не играет здесь главной роли. Историей движут более глубинные вещи. Насколько глубоко они лежат? Настоящий эпос тоже должен искать свою основную тему в глубине. Этому нас научили греки. Зачем забираться так глубоко? Затем, что тогда и достигнутая высота будет больше.
Моя голова раскалывается. Моим мыслям приходится пробиваться к истине дорогой ценой.
Мне не суждено было войти в ворота Эмпория, дабы убедиться, что и там Восток с Западом слиты в светлом единстве. Не суждено, потому что, где бы ни обосновывались греки, они с помощью своих богов-покровителей и Верховных Супругов замуровывали город за каменной стеной. Посему каждый греческий город окружён кольцом, которое привлекает внимание своим завораживающим блеском, архаичным ароматом жирного чернозёма, штукатуркой цвета слоновой кости и благородным мрамором. Как лучше выявить красоту форм, если не через игру света и тени? Как убедить в превосходстве добра, не изобличая зло? Прометей и Эпиметей были братьями, и их пример показывает, что ум и глупость не только сопутствуют друг другу, но и имеют вполне очевидные родственные черты[91]91
Прометей и Эпиметей были братьями, и их пример показывает, что ум и глупость не только сопутствуют друг другу, но и имеют вполне очевидные родственные черты. – Прометей – герой древнегреческих мифов, один из титанов. Имя его означает «мыслящий прежде», «предвидящий» – в противоположность его брату Эпиметею, «мыслящему после», «крепкому задним умом». По одному из мифов, люди и животные были созданы богами в глубине земли из смеси огня и земли, а Прометею и Эпиметею боги поручили распределить способности между ними. Эпиметей истратил все способности к жизни на земле на животных и сделал людей беззащитными. Поэтому Прометей должен был позаботиться о людях. Он украл для них огонь у Гефеста и Афины и научил им пользоваться, за что был наказан Зевсом.
[Закрыть]. Ум и глупость прекрасно дополняют – вернее, завершают – генеалогическое древо. Хотя календарь праздников у народов Средиземноморья не совпадает и не может объединить города-государства во всеобщем торжестве, настроение в каждом из них бывает весьма приподнятое: праздник объединяет граждан каждого полиса.
Не Карфаген, а боги решили, что он должен наказать Рим за позор и унижения, которые претерпел не только тридцать лет тому назад, но и гораздо раньше (да и позже было много случаев). Всё это ты, эпик Йадамилк, должен хорошо себе представлять. Представляешь? За мной стоят наши праотцы. Они сказали всё о Риме ещё до рождения Ганнибала. Их чувства и выводы живут в доставшихся нам в наследство пословицах и поговорках. Может быть, Йадамилку стоит вернуться в Карфаген и раскрыть глаза и уши? Язык рождается не только здесь, в Ганнибаловом войске. Происходящее сегодня имеет давнюю историю.
Мне нужно поговорить с Ганнибалом. Я хочу посмотреть на него широко открытыми глазами. Хочу послушать, как он скажет что-нибудь определённое и конкретное.
Я безвылазно сижу в своей палатке. Йадамилк сидит в палатке, теснимый утёсом с умолкнувшей песней и ненародившейся речью, и кручинится по поводу покинувшей его музы. Напрасно запоминает он обрывки плохих стихов. Они не ведут ни к вершинам, ни вглубь. Они плоски и лежат на плоскости. Но почему он вдруг смеётся?
Почему я смеюсь, Мелькарт? Неужели в самом деле над безбожником Демокритом, этим Философом, появившимся на свет во фракийском городе Абдеры? Философом, которого почитали ненормальным за то, что он бежал всяческого общения и всех подымал на смех, так что абдериты даже призвали Гиппократа[92]92
Гиппократ (ок. 460—377) – древнегреческий врач и естествоиспытатель, один из основоположников античной медицины, оказавшей большое влияние на развитие медицины в последующие века.
[Закрыть], чтобы тот излечил его, а сей искусный Лекарь провозгласил Демокрита умнее прочих смертных; и утратил затем Демокрит дар Зрения, почему мог предаваться философствованию в ещё большем покое, нежели прежде; а может, просто невмоготу ему стало смотреть на безумие Человеков; и скончался он, в своё время, в возрасте 109 лет...
Почему я прячу лицо в ладонях, Мелькарт? Почему я смеюсь, если я плачу?
Может, я смеюсь над Аристофаном? А плачу, потому что, по утверждению Демокрита, человек – это «дитя случая, которому потребны вода и грязь»? Вовсе нет. Я продолжаю смотреть боковым зрением. Наша способность видеть, говорит Абдерит, обусловлена прониканием нам в глаза образов. Почему я плачу из-за образов, которые проникают мне в глаза от Демокрита, – если я действительно плачу из-за них? У комедиографа Аристофана царь Вихрь свергает Зевса с его небесного трона[93]93
Речь идёт о комедии «Облака».
[Закрыть]. Ещё бы не посмеяться над этим! Но поэт-комик слишком всерьёз воспринял разглагольствования нашего проповедника о вихрях, почему он ещё больше затемняет и без него достаточно тёмное (типичный случай obscurum per obscurius). Ибо – что дальше? Если из завихрения атомов в пустоте может возникнуть Гомер, значит, перед нами появляется живёхонький Гомер, существование которого невозможно отрицать. С другой стороны, если мойры решат, что Гомеру суждено появиться на свет, результат будет тот же; Гомер станет, подлаживая голос под ритм гексаметра, читать «Илиаду». Незачем свергать Зевса с его трона только из-за того, что какой-то философ заводит речь об атомах и пустоте (бытии и небытии). Разве «Илиада» представляет собой совокупность пустоты и завихренных вместе атомов, а не произведение, на создание которого Гомера вдохновили музы? Но что дальше?! Какое бы объяснение мы ни избрали, «Илиада» всё равно останется на месте.
Точно так же обстоят дела со всем прочим, чем люди похваляются и чего стыдятся. Все эти вещи остаются, от них нельзя избавиться простыми разговорами, исходят ли сии разговоры из Абдер или из Эпикуровых Афин[94]94
...из Эпикуровых Афин. — Эпикур (341—270) – древнегреческий философ-материалист, последователь Демокрита. В 306 г. он поселился в Афинах, приобрёл сад и в этом «саду Эпикура» излагал слушателям основы своей философии.
[Закрыть].
Я смеюсь и одновременно плачу, закрывая лицо ладонями. «Приди же, вихрь или муза, – сквозь смех всхлипываю я, – приди и сделай из Йадамилка обещанного Жизнью великого поэта».
Кстати, как Демокрит перешёл от бытия и небытия к тому, что должно быть? Судя по его словам и сентенциям, он был выдающимся этиком и наверняка желал содействовать одним вихревым движениям и препятствовать другим. Он был никудышным практиком. Он погасил свет своих очей. Возможно, он был столь же непримирим, как Гераклит, который поносил Гомера, называя его обманщиком и путаником. По утверждению Абдерита, чтобы повысить плодородие земли, нужно послать девушку обежать возделываемые поля. Какую девушку, спросите вы? Девушку, у которой только что впервые начались регулы. А вдруг заботливо внесённое удобрение создало бы на полях более плодородное завихрение атомов, нежели бегущая девушка с текущей по ногам первой месячной кровью? Тут Демокрит брал на себя серьёзный риск. Интересно, что предпочёл владелец земель, Дамас: удобрение или бегущую девушку?
Но вот мои разнообразные страсти улеглись. Я парю в пустоте. Ничто не образует совокупности со мной. Впрочем, нет, возникает одна мысль: что мне сейчас надо бы сидеть в отцовском доме, дабы, не полагаясь на память, можно было проверять по свиткам сведения, которые я заношу в рабочую тетрадь.
К счастью, меня прерывают! В палатку входит Бальтанд. Вернее, выражаясь на манер Демокрита, ко мне в глаз проникает образ Бальтанда. Я вижу боковым зрением, как он слоняется по палатке, пофыркивает, роется кругом. Насколько я понимаю, он обустраивается у меня, причём делает это столь безапелляционно, что через некоторое время я взрываюсь:
– Как ты смеешь?!
– Смеешь? Что смеешь?
Бальтанд даже не удостаивает меня взгляда. Он смотрит, хорошо ли завязан его кожаный мешок.
– Нечего ходить за мной по пятам! Где тебя носило?
– В слонах оказалось мало интересу.
Я, Йадамилк, вскакиваю. Я ещё сомневаюсь, но, кажется, я наконец понял всё виденное до сих пор.
Теперь, после удачной переправы через Родан, Ганнибал может продолжить натягивание лука. Я вижу перед своим внутренним взором, как постепенно, шаг за шагом, ценой невероятных трудностей, лук устанавливается и натягивается. Одновременно я вижу себя в другой, более юный и счастливый, период моей жизни. Год, проведённый в Сиракузах! Я беззаботно брожу не только по самим Сиракузам, но свободно перемещаюсь почти по всему острову. Я добираюсь до элимов, преданных друзей и верных союзников карфагенян. Элимский народ населяет ближайшую к Карфагену область Сицилии. С горы Эрике я пробую разглядеть свою любимую родину, однако море раскинулось слишком широко, а обзор у меня ограничен. Меня переполняет радость от запахов дрока и хвойного леса, потрясающие виды делают моё тело лёгким, как пушинка, и я передвигаю ноги без малейшего усилия: они сами проворно выплясывают подо мной. Руки, всплёскиваясь, ласкают моё лицо, пальцы перебирают волосы – словно прикасаются не к моей собственной голове, а к чьей-то чужой, более достойной любви. Я молод и податлив. Я охотно склоняюсь перед ветрами всех впечатлений и гордо восстаю, чтобы идти, куда мне заблагорассудится. Душа моя впитывает в себя всё вокруг, и всё ей кажется по вкусу, при этом сам я остаюсь незрим для других. С неотвязным отцовским надзором покончено! Опьяняющий первый год жизни за порогом родительского дома.








