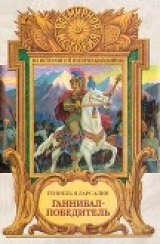
Текст книги "Ганнибал-Победитель"
Автор книги: Гуннель Алин
Соавторы: Ларс Алин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 28 страниц)
XII
Я сам слышу во сне свой пронзительный стон. Кто-то весьма ощутимо трясёт меня.
– Подать моё оружие! – ору я.
Кажется, я различаю Бальтанда, который стоит на коленях надо мной и трясёт за плечи. Я едва верю собственным глазам, но даже сейчас его палец остаётся посредством шнурка соединён с кожаным мешком.
– Пусти меня! – жалобно прошу я. – Подать сюда оружие!
Я изо всей силы зажмуриваюсь: перед самыми глазами у меня дождевым червём извивается кожаный шнурок.
– Спокойно, – шепчет Бальтанд. – Кошмарные сны обычно не сбываются. А сильный испуг иногда даже полезен, кровь будет здоровее. Я же от одного упоминания оружия чуть не заболеваю. Мне начинают мерещиться бунт и резня, кровопролитие и убийство из-за угла. Этакая мешанина из всего сразу! У нас на севере конунги держат своё оружие взаперти, под охраной рабов. Сам понимаешь, из соображений безопасности... Свободный человек может поддаться соблазну вломиться в оружейную, но раб – никогда.
Бальтанд отпускает меня. Избавленный от его рук и кожаного шнурка, я лежу спокойно. Я не понял ни слова из того, что он наговорил. Я ещё сплю. А может, и нет. Рядом со мной кто-то дышит. Это снова Бальтанд.
– Ты не норманн, – шепчу я, осенённый внезапной догадкой. – Ты кельт.
Мне никто не отвечает. Наверное, я всё-таки сплю?
– Ты кельт! – уже громче повторяю я.
– С чего бы это?
– Ты кельтский лазутчик! – кричу я.
– Придержи язык, кончай молоть чепуху.
– Я много раз видел, что ты в задумчивости сосёшь большой палец, – не унимаюсь я. – В точности как кельты. Значит, ты кельт?
Вопрос остаётся без ответа.
– Ты лазутчик и кельт!
Никакого ответа.
– Зачем нужно запихивать палец до самых зубов мудрости? – ворчу я.
– Неужели тебе, учёному писцу, неизвестно даже это?
– Нет... Клянусь палицей Мелькарта, известно!
В палатке тишина и мрак. У нас плохо с маслом и кое с чем ещё. Мне нельзя жечь светильник без надобности, нельзя оставлять зажжённым ночью – если я не пишу. Я побаиваюсь темноты и хотел бы не гасить его на ночь, чтобы, открыв глаза, можно было оглядеться по сторонам. Я вслушиваюсь в малейший шорох. Мне безумно хочется знать, сплю я или бодрствую! Право слово, я бы сейчас собственными руками задушил Сосила. Жажду мести следует утолять. Как же мне себя пробудить и поднять? Пробудившись, можно обнаружить, что вся твоя жизнь – комедия, а сам ты – обыкновенный зубоскал. «Мы созданы из вещества того же,// Что наши сны. И сном окружена // Вся наша маленькая жизнь»[115]115
Цитата из шекспировской «Бури», в переводе Мих. Донского.
[Закрыть].
– Пора, мой друг, пора. Пора не пора, идём со двора.
Верный слуга поднимает меня с постели. Он протирает мне лицо и руки сначала мокрой, затем сухой тряпочкой. Поправляет мои одежды. Выводит меня из палатки. Я ни о чём и ни о ком не спрашиваю. Я растворился в воздухе. Я призрак. А окружающий мир – безжизненный мираж. Астер подводит меня к красавцу жеребцу.
– Сегодня ночью я не сомкнул глаз, – запыхавшись, жалуюсь я.
– Да-да, конечно, – отвечает Астер.
– А Бальтанд куда делся?
– Ускакал.
– Ну да!
– Ты бы, хозяин, его видел верхом... потеха! Ганнибал распорядился прислать за ним коня.
– Не поверю, пока не увижу собственными глазами.
– Пришёл солдат, привёл мерина.
– А я даже ничего не слышал!
– Ты очень крепко спал.
Поторопив Медовое Копыто, я вскоре подъезжаю туда, где собралось войско. Перед солдатами, верхом на чистокровном жеребце, держит речь Ганнибал. Справа от него, тоже верхом, пыжится в своих пышных мехах Магил, слева цепляется за гриву мерина Бальтанд. Все военачальники сгрудились за Главнокомандующим. Перед ним теснится кучка переводчиков. Наше воинство многонационально. Речь будут переводить по меньшей мере на двенадцать языков. Это не может не раздражать меня: Медовое Копыто, со мной на спине, стоит поодаль от этой группы, на самом солнце, из-за чего веки у меня сами собой смеживаются. А может, они просто отяжелели от сна? «Воинство должно быть карфагенским», – досадливо думаю я. Ведь наёмникам, будь то начальник или рядовой солдат, плевать на конечные цели войны. Они не спрашивают Ганнибала о планах на будущее, об одушевляющих его высоких помыслах. Следовательно, он не может обсуждать с ними то, что по-настоящему движет им, то, ради чего затеяна вся эта война. Он вынужден говорить о поверхностных победах, об ощутимых успехах и о весомой военной добыче. Разъяснять теологию Победы выпало на мою долю.
– Наши кельтские братья, – вещает Ганнибал со своего коня, – единодушно примкнули к нам. Наше прославленное войско, объединившись с их многочисленными и не знающими страха боевыми отрядами, которые рассеяны по всей долине Пада, станет воистину непобедимым.
Совместными усилиями мы положим конец террористическому режиму Рима.
Меня слепит Ганнибалов шлем, хотя я и без того ослеплён и не вижу почти ничего даже искоса. Перед глазами размыто, словно за колышущимся прозрачным занавесом маячит Праздник Забавных Уродов. Оглядываясь по сторонам, я, кажется, и тут вижу таких же уродов, особенно напоминающих «настоящего» Гермафродита, который был представлен во всей своей неприглядности под номером два. Однако я стараюсь взять себя в руки. «Всё-таки Ганнибал обошёлся со мной неправильно», – думаю я. Ему нужно было с самого начала сделать своим ближайшим советчиком меня, а не кого-либо ещё. Тогда мне не пришлось бы якшаться с писцами и я был бы избавлен от необходимости слушать их неотёсанную речь. Тогда я бы знал обо всех Ганнибаловых планах и идеях и избежал бы настойчивых попыток Сосила приобщить меня к тому, чем пробавляются подонки нашего войска, к тому, что противодействует приказам Главнокомандующего и выставляет их на посмешище.
– Да, Ганнибал, ты совершил по отношению ко мне серьёзную ошибку, – бормочу я.
Ганнибалова речь не доходит до меня. Впрочем, насколько я понимаю, это не важно. Я и без слов знаю всё, что он сейчас говорит. (Tout dire sans parler!) Смысл речи доносят до меня жесты. (Semiologie du geste!) Кто, интересно, её сочинил? Надо было поручить это мне! Я пробую утешиться тем, что придумал её сам Ганнибал. Ему всегда внимали с уважением и многократно устраивали овации. Однако каждому известно, в какой стороне находится Италия, и всё красноречие Главнокомандующего не способно стереть память об этом из голов слушателей. Сознавая, что мало кому понравится и дальше продвигаться на север, Ганнибал неожиданно поворачивает свою речь по-новому. Теперь он обещает воинам тёплую одежду, крепкую обувь и замену износившегося снаряжения. Где мы разживёмся всем этим добром? На севере! Там есть город, царь которого просил Ганнибала о помощи. («Помоги мне», – шепчу я).
Ганнибал увещевает, рассеивает сомнения, подбадривает, отдаёт приказы. Магил восхваляет силу и храбрость кельтов. Бальтанд, лихорадочно хватаясь миниатюрными руками за гривки, заверяет, что в северных краях вполне можно передвигаться без особых усилий.
Я расту, но не в высоту, а в пустоту. «Неужели я утратил все прежние мысли о Ганнибале? – спрашиваю я себя, – Неужели я потерял его самого? Ради чего же мне тогда жить и писать?»
Со спины Медового Копыта, на котором я сижу в своей неприметности, я внезапно вижу за прозрачным занавесом (вот ирония судьбы!) двуполое создание, что выступало под номером два, то есть самого Гермафродита или, по крайней мере, его прапрапра-не-знаю-сколько-раз-пра-правнука. Перед у него прикрыт огромным султаном, поскольку, при всей эротичности жителей Средиземноморья, вульву избегают выставлять напоказ, разве что в виде граффити не на самых видных местах. При этом бесчисленные фаллосы никого не смущают. Как жене положено сидеть дома, а не показывать себя на улицах и площадях, так и увеличенные изображения срамных губ положено прятать подальше.
Сзади у Гермафродита свисает длиннющий фаллос, который хороводники мгновенно приспосабливают себе спереди. И вот Забавные Уроды начинают столь соблазнительно качать и кружить самодостаточную любовную парочку, что их движения подхватываются восторженной публикой. Сосил пробует поднять и меня, но я изо всех сил стараюсь пригвоздить себя к месту – и мне это удаётся! (Одновременно я пытаюсь перенестись с задворков обратно, в мир Ганнибала, но эта попытка оказывается неудачной!) Всё ревёт и ходит ходуном. Pedes exitamus, мы идём ногами, прыг, скок, топ, тарантелла, зодионы изображают зодиак, звери кружатся в зверином кругу вращательного танца до тех пор, пока сия мастерская любовного искусства не являет миру своё многообещающее творение – внушительных размеров продолговатый мешок. Глаза Забавных Уродов горят похотью, вспыхнувшее вожделение прорывается в безудержном хохоте.
– Дубась дубину, пока не даст дуба! – кричит кто-то.
– Откинул копыта, сказало корыто.
Из мешка вываливаются булки.
– Viva el muerto![116]116
Да здравствует мёртвый! (исп.)
[Закрыть] – возглашают танцоры и, ведя хоровод, поют осанну: – Как такая смерть прекрасна, днесь дарует хлеб она!
Ганнибалов мир постепенно снова поворачивается ко мне передом, и я могу искоса наблюдать за происходящим там.
– Солдаты, – говорит Магил. – Все вы видите, что конь мой отнюдь не крылат. Я не по воздуху перелетел через Альпы сюда, на берег Родана. Это произошло естественным образом. Мы просочились через перевалы, которые конечно же лежат довольно высоко, однако вполне проходимы. Мы, кельты из долины Пада, сотни лет тому назад сами преодолели эти Альпы огромными толпами, таща с собой жён, и детей, и все свои пожитки. Молва всегда и всё преувеличивает. Это знает каждый из вас. Дики и мрачны голые скалы, но не везде. Устрашающи? Нигде! Вы собственными глазами убедитесь в том, что даже очень высоко расположенные долины населены и возделаны, давая пропитание многим семьям. Мои люди станут вашими проводниками и покажут наиболее удобные проходы не только по пути наверх, но и при спуске с Альп. Будьте уверены, воины, что наши легионы (он усмехается) ждут не дождутся вас. У нас с вами общие интересы. И вы и мы добиваемся возмездия. И почаще вспоминайте о том, как богат сейчас Рим и сколько зажиточных городов лежит по дороге к нему.
Войско, медленно и тяжеловесно, приходит в движение. Вот уже задрожала земля. Медовое Копыто ржёт. Наконец-то отбросив от себя кошмары, я решаю двигаться за Ганнибалом. Мы держим путь на север, где просит Ганнибаловой подмоги один из известных кельтских царей. Привычный к переменчивости собственного нрава, я не удивляюсь своему внезапному решению продолжать поход с писарской братией. В отличие от Ганнибала, мои настроения могут меняться, но воля моя от этого только укрепляется, а жизненная цель остаётся неколебимой.
Я решаю передать Медовое Копыто на попечение слуги. Мне не хочется, чтоб моё имущество тащилось сзади, в обозе, без коня. Посему я шагом направляю его к палатке. Там уже всё собрано и уложено. Когда я оставляю лошадь Астеру, тот расплывается в своей всегдашней широкой улыбке. Теперь конь будет в надёжных руках.
– Мы очень спешим, – одновременно говорю я.
– Я заплету ему хвост на ближайшем привале, – откликается Астер. – Будь осторожен, господин, береги себя!
«Старые слуги становятся вроде кормилиц», – думаю я и тороплюсь нагнать своих коллег. Высоко над лесом виднеется косяк перелётных птиц. Из зарослей черешни одна за другой вспархивают, в поисках новых ягод, стаи дроздов. Королёк, а королёк! Может, я и тебя где-нибудь увижу, мой маленький королёк? Он такой крохотный, что его можно рассмотреть только совсем вблизи. Я гляжу окрест. Кругом осень.
Уже осень, Ганнибал-Победитель! Что ты на это скажешь? Что скажешь мне ты, призвавший меня сюда?
«Я никогда не отнимаю у детей еду».
А я?
«Я не съел волчицу. Я отведал волчицы. Я не съел быка. Я отведал быка. Но читатель моего эпоса должен почувствовать вкус целой волчицы и целого быка. Я собираюсь раскрыть людям глаза и уши на всёпокоряющий язык эпоса».
Уже поздняя осень, говорю я сам себе. А я отнюдь не приблизился к цели, я перестал идти вперёд размеренным эпическим шагом с тщательно выверенными стихотворными стопами. Теперь я семеню крошечными шажками.
Где вы, мои гексаметры? Вспомни обо мне, Ганнибал-Орёл. Почему ты всегда присутствуешь во мне отсутствующим? Потому что нам надо преодолеть Альпы, пока не выпал снег и не наступили нестерпимые для нас холода? Дай мне какое-нибудь поручение, Ганнибал, желательно самое прозаическое. Сейчас, когда я перестал понимать тебя, мне нужно именно это. Займи меня чем угодно. Я опустошил свою голову. В мозгу у меня свербит одна-единственная мысль: победишь ты – будет и моя победа. Однако тебя уже чествуют. В том-то вся разница. А на меня давит ощущение, что меня никто по-настоящему не видит. Я примирился с твоими метаморфозами. Признал тебя и в обличье Волка. Моё сердце певца – в твоих руках... то бишь когтях. Зубами волчьими стило отточено, и так же будет стих отточен мой.
Я попал в группу незнакомых солдат. Один из них делится с другим мыслями о Ганнибале:
– Ты понял последний приказ полководца? В Каталонии нас гнали: «Воины, только вперёд!» Теперь гонят чуть ли не назад. Клянусь всеми богами, на черта нам сдался этот север?! Какой-то там Бранкориг просит помощи... Брехня!
– Совсем ополоумели!
У меня чешутся руки дать этим болтунам-наёмникам по оплеухе. Но я, Йадамилк, воздерживаюсь. Я даже не выговариваю им, не делаю внушение. Я лишь припускаюсь бегом, чтобы поскорее очутиться среди других.
Я лечу вослед Ганнибалу. Я в смущении. Я вновь очарован им.
МИФ О ЕВРОПЕ
I

Мы с Исааком (иудеем, который смеётся, но которого следовало бы называть Сифом, поскольку он появился вместо другого) сидим в тени каменного дуба и беседуем. В стороне нескончаемым потоком тянется на марше войско. Его отсюда не видно, но до нас доносится гул, похожий на рокот морской волны, когда она, набежав на берег, не успевает, шурша, откатиться обратно и наталкивается на следующую. Звук этот, то нарастая, то убывая, действует усыпляюще – так же, как и солнце. Совсем недавно был проливной дождь. Он освежил и подбодрил нас. Теперь же снова по-летнему печёт солнце. Мы как будто попали в сад с пряностями. Воздух напоен ароматами: тимьян, лаванда, розмарин, может быть, ещё шалфей с валерианой. Когда мы проходили мимо кустарниковой чащи, оттуда сильно потянуло лавровым листом. Вообще-то даже в этот час чувствуется осень. Через неделю-другую кроны деревьев зажгутся золотом, медью, пурпуром... По нашим лицам наверняка заметно, как. мы наслаждаемся сей передышкой.
Мы привязали своих коней к одному дереву, и им это явно пришлось по нраву.
– Интересно, мы так же столкуемся? – с улыбкой произносит Исаак.
Он рассказывает, что каждый день позволяет себе на время покинуть походный строй. Даёт отдышаться лёгким, поясняет он. Десятки тысяч людских, конских и прочих ног поднимают тучи пыли. Над воинскими колоннами словно повисает занесённый над головами гигантский сачок.
– Здесь нам хорошо, – признается Исаак. – Мы с тобой вправе сказать, что выполняем одну из заповедей Эпикура.
– Какую? – спрашиваю я, приготовившись услышать нечто очень для себя интересное.
– Мы проживаем свою жизнь не на виду, незаметно.
– Lathe biosas...[117]117
Живи скрыто (греч.) – афоризм Эпикура.
[Закрыть] Возможно.
Тон у меня уже куда менее заинтересованный. Исаак улавливает это и спешит поправиться:
– Ой, я совсем забыл, что ты поэт. Прости, пожалуйста. Само собой разумеется, тебе хочется внимания.
– Не столько ко мне, сколько к моей поэзии, – смеюсь я. – Внимание к личности может прийти позднее.
– Да-да, конечно. Но раз уж у нас зашла речь об Эпикуре... Тебе приходило в голову, что он обращает свои советы к весьма узкому кругу людей? Ведь основная масса и без того, в силу обстоятельств, живёт незаметно. Lathe biosas – судьба подавляющего большинства.
– Тех, кто хотел или хочет внимания к себе, не так уж мало, – говорю я. – Многие юноши мечтают о победах, успехах, почёте... Эпикур явно имеет в виду их. Если они смолоду последуют его совету, их не ждёт разочарование, не ждёт крах надежды на известность. По крайней мере, они сами избрали свою жизнь и им не придётся страдать от слепой фортуны.
– Вероятно, ты прав. Во всяком случае, это звучит правдоподобно. Мне только что пришла в голову занятная мысль. Ты обратил внимание, что человек неприметный может в любую минуту вспомнить про заметного человека, заметное явление или событие, причём не только вспомнить, но и пространно рассуждать о них? Так что в речи его достопримечательные вещи присутствуют. Но что это значит, я пока задуматься не решился. Возможно, эти два столь разных слова – заметный-незаметный – всё же близки друг к другу! Да, так о чём я? Восходящая звезда всегда светит прежде всего в сторону элиты. Первыми замечают и оценивают яркость новой звезды заметные люди. Лишь обратив на себя внимание элиты, новоявленная звезда может завоёвывать известность у масс. И надо сказать, приобретший известность обычно не возражает против неё, хотя популярность может обернуться и обузой. Воспринятому массой, возможно, придётся соперничать с демагогами.
– Ганнибала, – поспешно вставляю я, – можно назвать демагогом в старом смысле слова, то есть руководителем народа.
– Отлично. Я и сам собирался перейти к Ганнибалу. Что ты теперь скажешь про гигантский лук, о котором столь увлечённо рассказывал прежде? Мне просто любопытно. Наверное, придётся потом делать поправку на этот лишний кусок, который мы пройдём к северу?
– Ничего подобного, – уверяю я. – Наоборот, он завершит натяжение лука.
– Объясни.
– Оглянись по сторонам, – не задумываясь, отвечаю я. – Окрестности чарующи, правда? Такое ощущение, будто мы находимся на юге. Воздух благоухает, так? Почва прекрасно возделана, верно? Ты обратил внимание, какого благородного красного цвета тут земля? Мы можем получить здесь всё необходимое, прежде чем вступим в суровый край с более мрачным пейзажем. Очень скоро нам придётся задирать головы, глядя на покрытые замерзшей водой исполинские нагие вершины. Вероятно, там мы все будем чувствовать себя не более заметными, чем тень от летящей ласточки. Ганнибал знает, что делает. Мольба о помощи царя Бранка пришлась нам как нельзя более кстати. Ганнибал купит всё необходимое для войска не деньгами из воинской кассы, а одним решительным действием.
– Смотри, Йадамилк!
Вверх по дубовому стволу шмыгнула переливающаяся зелёным ящерица. Пробежав небольшой кусок, она застывает. Глаза ящерицы блестят двумя чёрными бусинками. На лапке можно один за другим пересчитать все её светлые коготки. Внезапно ящерка срывается с места и исчезает среди шероховатой коры. Мы ещё высматриваем её, когда Исаак говорит:
– Я припас для тебя старинное изречение.
– Спасибо.
– Однажды фараон повелел записать суждение о вас, финикиянах. Кажется, это был Рамсес Третий. Вот его слова: «Ни одна страна не может устоять под натиском их оружия. Они прибрали к рукам все территории до самого края земли. Сердца их были преисполнены надежды и уверенности в себе: «Наши планы непременно исполнятся!» Лица их светились».
– Этого я ещё никогда не слышал! – в упоении воскликнул я. – Сказано очень красиво, просто восхитительно.
– У Ганнибала и его окружения такие же сияющие лица, – спокойно продолжает Исаак. – На них написаны надежда и уверенность в себе. Их лица убеждают и их самих, и всех остальных: «Наши планы непременно сбудутся!»
– Браво, Исаак. Как, говоришь, звали фараона?
– Рамсес Третий.
– Я его запомню. И ты, Исаак, утверждаешь, что ты безбожник... когда ты – воплощение доброты и товарищества.
– Разве безбожник не может быть добрым?
– Откуда мне знать? Я никогда прежде не встречался с безбожниками. Скажи, как ты им стал?
– Я и сам толком не знаю.
– Наверное, у тебя были очень серьёзные возражения против веры в богов.
– Естественно. Это отнюдь не легко – отказаться от того, во что верят все на свете. Я пришёл к выводу, что богов не существует. В этом и заключается моё главное открытие. Наша вселенная безбожна, она – космос атеос. А как я шёл к этому убеждению, я помню плохо.
– Вероятно, путь к нему был тяжек и труден.
– Не знаю. Я прошёл его довольно легко.
– Не представляю себе ни как, ни что именно происходило, не представляю даже, что это вообще возможно. Мне крайне любопытно было бы проследить сам процесс.
– Не хочу заражать тебя своим атеизмом, – улыбается Исаак. – Я предпочитаю оставаться добрым товарищем.
– Меня не так-то просто заразить.
– Показать тебе, какой я бываю зловредный? Я ведь и дразниться умею.
– Переживу.
– Что ты думаешь о Сократе[118]118
Сократ (469—399) – знаменитый древнегреческий мудрец и философ, учитель Платона. Учение и деятельность Сократа были признаны опасными для афинской демократии. За своё свободомыслие он был приговорён к смерти и умер, выпив яд.
[Закрыть]?
– Как тебе сказать? Приговор, который ему вынесли афиняне, несправедлив. Но что мне до него?
– Тебе известно, что Сократ осуждал всякое письмо?
– Я никогда не слыхал про это.
– Нападки на письменность звучат в мифе, который Сократ рассказывает Федру.
– Он записан в виде диалога?
– Да.
– Сам факт его записи подтверждает скорее мою точку зрения, нежели сократовскую.
– Ты лучше послушай.
– Я весь внимание.
– В древности был в Египте бог по имени Тот. Ему посвящалась птица Ибис. Он создал многие искусства, в том числе искусство счёта и астрономию, он же изобрёл буквы и граммата, то есть чтение и письмо. Над всем Египтом царствовал в ту пору Тамус. К нему и пришёл Тот со своими изобретениями, утверждая, что каждому египтянину необходимо познакомиться с ними и освоить даруемые ими умения. Царь подробно расспросил о пользе каждого изобретения. Он был одновременно за и против, восхваляя и порицая то, что ему предъявлял бог. Дойдя до буквенного письма, Тот сказал: «Это изобретение сделает египтян более мудрыми и памятливыми; его можно назвать лекарством (фармакон), которое придаёт людям мудрость и хорошую память». Однако царь не согласен с Тотом. Напротив, утверждает он, изобретение это внесёт «забывчивость в души учеников». Их память перестанет развиваться. Полагаясь на письменность, они будут черпать свою память извне, из чужих значков, а не из собственного нутра. «Ты дашь своим ученикам не истину, а лишь видимость истины, – говорит Тамус. – Вместо мудрости они обретут самодовольство», и тогда с ними будет невыносимо иметь дело. По мнению Сократа, человек, который всерьёз учится по книге, становится крайне односторонним. Книги, как и картины, хранят зловредное молчание, если ты их о чём-то спрашиваешь. Тебе кажется, что они только что говорили с тобой как здравомыслящие создания, но стоит попросить у них совета, и они повторяют уже сказанное. Письменное слово – не более чем тень слов, произнесённых знающим человеком, считает Сократ.
– И об этом Платон написал целый труд? – иронично спрашиваю я.
– Да, о том, что рассказал я, и о многом другом.
– Если бы Платон верил в истинность Сократовой легенды, он бы не написал ни одного сочинения. А он их создал ого-го сколько. Почему я и все прочие должны принимать всерьёз сказанное им, вернее, не только сказанное, но и записанное? Нет, этим тебе меня не раздразнить. И не заставить усомниться в сочинительстве. Напротив. Что касается Сократа, у меня о нём своё мнение. Его демонион[119]119
Демонион (гений, даймоний) – так называл Сократ свой внутренний голос, свойственный ему с детства. Демонион подсказывал Сократу, как надо поступить в том или ином случае.
[Закрыть] научил его неким мантическим знакам, которым он повиновался. Если кто-нибудь чихал справа от него, Сократ приводил в исполнение свои планы, если слева – он воздерживался.
– Ты собираешься сочинять и впредь?
– Ещё бы я не собирался...
– Тебе нужно для этого вдохновение?
– Очень даже нужно. Меня должна посетить Муза. Тогда я становлюсь лирой, а она – перебирающим струны плектром[120]120
...перебирающим струны плектром, — Плектр (греч.) – тонкая пластинка из металла, кости или пластмассы, посредством которой извлекаются звуки при игре на некоторых струнных щипковых инструментах.
[Закрыть]. Или я превращаюсь во флейту, а она – в играющего на ней флейтиста.
– Судя по твоим словам, ты подтверждаешь старые истины.
– А ты нет, Исаак.
– В каком смысле?
– Ты безбожник.
– Ага, ты не забыл. Значит, мне не удалось увести тебя от этой темы.
– Она меня очень интересует.
– Я же сказал, что не хочу заражать тебя.
– Ты заразишь меня не больше, чем историей про Сократа и сочинительство. Я уже говорил, что безбожие, вероятно, трудно принять, но ты это отрицаешь.
– И правильно делаю. Ладно, давай я расскажу тебе кое-что ещё. Когда умерли мои приёмные родители... вернее, даже до этого... я начал учить еврейский. Я изучал старинные рукописи и беседовал с учёными иудеями. Таким образом я сделал одно наблюдение над языком, показавшееся мне весьма любопытным. Мои предки, выяснил я из текстов, ощущали свою жизнь только как соэ́ – как жизнь с её насущными потребностями, которую нужно прожить в страхе перед богами. Жизнь как биос, которая строится самими людьми, была им неведома. Греки же гораздо больше знали именно о «биосе». Для ящерицы, которую мы недавно видели, жизнь – всего лишь соэ, чисто физическое существование. Животное не в состоянии строить свою жизнь. Оно само формируется этим соэ и не может стать ни лучше, ни хуже того, чем его делает существование.
– Последнее нам подсказывает здравый смысл.
– Притом изначальный, то есть логос сперматикос, создающий мир и правящий им.
– Ты говоришь замечательно, Исаак. И это ты хотел замолчать!
– Стоит тебе захотеть, и я прекращу свои разглагольствования, – смеётся Исаак.
– Но ты всегда говоришь прекрасно, поэтому могу признаться, что в своём одиночестве я нередко беседую с тобой. В этих случаях я называю своего собеседника Би́ос-Био́с, то есть Лук Жизни! Ведь ты покорил меня именно рассуждениями о глубоком единстве этих двух слов. «К нему стоит прислушаться, – подумал я тогда. – Мне нужно как можно чаще разговаривать с ним». Теперь я хочу наградить тебя новым именем, под которым ты и будешь отныне фигурировать в моих молчаливых беседах.
– И что же ты мне приготовил?
– Я буду называть тебя Биологосом.
– То есть актёром? Вот удружил так удружил!
– Почему бы и нет? Жизнь грека подчинена стремлению к совершенству, иудеи живут своей насущной жизнью согласно закону, который они не выработали сами, а получили извне, от Яхве. В Элладе актёр представляет на сцене соответствие идеалам или их предательство. Зритель видит и схему, и её конкретные воплощения. Разобраться в конкретном без этого предварительного эскиза невозможно, поэтому актёра можно назвать учителем жизни. Грек считает человеческую жизнь произведением искусства, которое можно создавать согласно своим идеалам. А ты разве не создаёшь собственную жизнь согласно идеалам? Конечно, создаёшь! Вот почему Биологос кажется мне вполне подходящим для тебя именем. Тебя по праву можно назвать активным учителем жизни.
На какое-то мгновение наши взгляды встречаются. Они проникают глубоко внутрь, поскольку ими скрепляется наша будущая дружба. Исаак умеет по-особому напряжённо слушать. Когда говорит он сам, глаза его находятся в непрестанном движении. Когда высказываюсь я, они стоят на месте, отсюда впечатление, будто он слушает и глазами. Его любопытный и пытливый взор светится на лице с острыми чертами, сгладить которые не может даже изрядное количество плоти. По этому чувствительному лицу легко следить за игрой мышц, от которых зависит его выражение.
– Пожалуйста, продолжи свою тему, – прошу я.
– Тебе действительно нравится?
– Будь уверен. И я обещаю на этот раз запомнить всё в Сократовом смысле слова.
– Письменных трудов ты от меня всё равно не дождёшься.
– Мне повезло, что я имею возможность слушать тебя.
– Выражение «образ жизни» не встречается в древнееврейских рукописях. Возможности выбирать собственный стиль жизни не существовало. Такого никто не понимал. Для моих прародителей различные роли, которые играет актёр, были бы просто непостижимы. Жизнь ощущается ими не в виде самостоятельно выработанных «позиций и отношений», но в виде голода и жажды, потребностей и желаний, любви и ненависти, в виде повседневных забот и хлопот. Подобно плоти, жизнь преходяща и кончается смертью. Долгая и счастливая жизнь – венец благополучия. Такая жизнь бывает у тех, кто выполняет Божьи заповеди. Грешников Яхве наказывает ранней смертью. Греки склонны вводить смерть в свою жизнь. Они даже говорят о доблестной смерти. Для них последние дни или часы человеческой жизни могут стать её апогеем и получить наименование «доблестной смерти». Даже самоубийство может быть возведено в ранг героического, благородного поступка.
– Но я спрашивал про твой путь к безбожию.
– Спокойно. Я туда и веду. Но сначала мне нужно сказать ещё кое-что о том, что я обнаружил, изучая священные писания. У моих праотцев призыв дельфийского оракула ни в коем случае не мог бы возникнуть[121]121
У моих праотцев призыв дельфийского оракула ни в коем случае не мог бы возникнуть. – Дельфийский оракул – храм Аполлона в Дельфах, построенный на том месте, где, по преданию, Аполлон убил дракона Дельфиния, опустошавшего окрестности Дельф. Убитый Дельфиний получил имя Пифон, т. е. гниющий, т. к. лучи солнца превратили его тело в прах. Предсказания давала пифия, восседавшая на треножнике над расщелиной и приводившая себя в экстатическое состояние испарениями, выходившими из расщелины, и жеванием лавровых листьев. Пифия произносила бессвязные слова, которые в загадочной, двусмысленной форме истолковывались жрецами как прорицания, пророчества. По преданию, на фронтоне храма в Дельфах было начертано изречение, приписываемое греческому мудрецу Фалесу: «Познай самого себя».
[Закрыть]. «Познай себя самого!» Такой призыв немыслим! На их языке невозможно даже сформулировать вопрос о настоящей и ненастоящей жизни.
– На нашем тоже, – убеждённо поясняю я. – У нас, финикиян, есть идолы, но не идеалы.
– Ay тебя по этой части как дела?
– Разве мы с тобой оба не эллины? Разве я не научился мерить свою жизнь в терминах степеней сравнения: хорошая-лучшая-наилучшая и плохая-худшая-наихудшая? Наша тяга к настоящей жизни и подгоняет и терроризирует нас.
– Ты прав, Йадамилк.
– Можно, я упрощённо сформулирую то, что уже усвоил из твоих рассуждений?
– Пожалуйста. Я с удовольствием послушаю.
– Представим себе двух людей, одного из которых я назову Сосимой, другого – Вносимой. Сосима (или, если хочешь, Зосима) живёт стихийно. Он никогда не задаётся вопросом о том, подлинна ли его жизнь. Он не подвергает сомнению ощущаемые им потребности жизни. Вносима же с самого начала усваивает, что ему необходимо развивать себя в соответствии с современными идеалами, которым он ещё должен дать собственное определение. Такое развитие происходит благодаря тому, что он постоянно спрашивает себя: «Живу ли я настоящей жизнью?»
– Ты прекрасно понял мою мысль. Поэтому-то у греков есть то, чего нет у евреев, и наоборот. Старый еврей умирает, истомлённый долгими днями и годами. Грек ищет противоядие от своего беспокойства. У евреев жизненный путь не разделён на стадии. Греки же проходят этапы обучения в области гармонии, искусств, наук и философии. Характерам разных людей посвящается греческая поэзия и искусство. У евреев нет ни трагедии, ни комедии. Нет у них и произведений искусства, которые бы изображали судьбу отдельного человека. Ни один биограф не представляет этос известных личностей. Ни один эпик не демонстрирует всё многообразие жизни – в большом и малом, высоком и низком. Ни один лирик не обнажает внутреннюю жизнь. Лишь Иов[122]122
Иов – в иудаистических и христианских преданиях страдающий праведник. Желая испытать его покорность и смирение, бог наслал на него беды и несчастья, но он остался неколебим в своей вере и смирении.
[Закрыть] осмеливается противиться Господу, но и он в конечном счёте утихомиривается. Конец у Иова как нельзя более счастливый.








