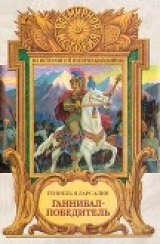
Текст книги "Ганнибал-Победитель"
Автор книги: Гуннель Алин
Соавторы: Ларс Алин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 28 страниц)
IV
От долгого писания я весь одеревенел и выдохся. Если бы теперь рядом оказался Ганнибал собственной персоной, едва ли я сумел бы говорить с ним достойным образом – живо и смело. Сейчас бы мне подвигаться, причём подвигаться как следует. Скажем, выступить в состязаниях по бегу или, того лучше, борцов. Я бы с удовольствием заставил какого-нибудь увальня потерять опору, чтобы он некоторое время посучил ногами в воздухе, прежде чем я уложу его на лопатки. А уж поставить ногу на лоб побеждённого грека и объявить его своим рабом – тут моей радости не было бы предела. Увы, всё это невозможно, что я прекрасно понимаю.
Чем же заняться? Меня уже начинает беспокоить, что я ничего не знаю о происходящем вне стен палатки, посему я призываю своего верного слугу и хочу послать его разведать обстановку. Он несколько раз заглядывал ко мне и что-то бормотал. Бормочет он и теперь. Однако, поскольку я раньше не давал ему говорить, я снова затыкаю его и выталкиваю прочь со словами:
– Пойди разнюхай, что делается в соседних палатках. Только тихо. Придёшь – расскажешь.
Раб скоро вернулся, и на этот раз я вооружился терпением, чтобы выслушать его.
– Всё как обычно, господин. Мне нечего сказать, кроме того, чего ты не дозволяешь.
– Что ты опять городишь?
– Палатка. Твоя драгоценная палатка, господин.
– Палатка? Что с ней такого?
– Она поставлена неправильно. Против господина строят козни.
Я покатываюсь с хохоту. Слово «козни» в устах моего служителя звучит странно и нереально.
– В таком случае я ничего не заметил, – наконец произношу я. – А ведь должен был бы, потому как много часов просидел над своими записями.
– Я ещё с утра говорил хозяину, как она стоит. Но он каждый раз велел мне молчать.
– Как ты мог говорить мне, если тебе с самого начала велели молчать? Выражайся разумно, тогда я стану тебя слушать. И вообще, я сегодня выходил раньше всех и ничего подозрительного не заметил.
– Мог бы и заметить. Палатка стоит не так, как надо. Тут строят козни. Кто именно и сколько человек, не знаю. Вчера вечером было слишком темно, чтобы разглядеть что-нибудь подозрительное. Но мне почудился вдали крик совы и показалось, что он не к добру. А потом в голове у меня всё завертелось, и я ничего не мог с этим поделать, пока не заснул.
– Завертелось?
– Ну да. Звёздное небо было как перевёрнутое. Вот что сделали с хозяином.
– Со мной?! Мы же говорим про палатку!
– Палатка хозяина и сам хозяин едины и суть одно и то же.
– Совсем рехнулся!
Я заливаюсь хохотом пуще прежнего.
На своего слугу я смотрю редко. Во всяком случае, не смотрю ему в глаза – это не положено. Хорошее правило, ведь он мой раб. Он уже давно прислуживает мне, несколько лет сопровождал меня и когда я ездил учиться. В целом я им доволен. Если я заболеваю, он ухаживает за мной и может, скрестив ноги, просидеть рядом целую ночь. Измождённый жаром, я часто заглядываю ему в глаза, иногда даже благодарю и треплю по руке, а бывает, дело доходит до того, что – при всей неуместности подобных действий – я глажу его по плечам, по груди. Застань нас кто-нибудь в это время или подслушай, мне бы посоветовали тотчас продать служителя. Рабов портит благодарность, которую им выражает хозяин, и тем более портят чувственные ласки. Отношения между рабом и господином регулируются крайне просто. Раб обязан признавать безраздельную власть хозяина и понимать, кто его кормит. Господину не нужно признавать ничего о своём рабе, кроме того, что он раб и полностью зависит от хозяина.
Однако я не стал ни прогонять, ни продавать слугу. Он, со своей стороны, никогда не позволял себе никаких вольностей. На меня не раз находили приступы острого одиночества. Отец испытывает ко мне лишь презрение и жалость. Я не гожусь на ту роль, в которой он хотел бы меня видеть. Он сам отрешил меня от жизни, которую считает единственно полноценной для сына знатного человека. Мой раб – негр и принадлежит к племени, которое мы называем: «люди с обожжёнными лицами»[43]43
Речь идёт об эфиопах.
[Закрыть]. Теперь мне удобно иметь его при себе, ибо он знаком с моими привычками и складом характера. Мне не надо без конца отдавать ему приказания. Достаточно намёка – и он уже знает, чего я хочу.
Этого иссиня-чёрного раба, эту прямоходящую тень, этот кусочек тёмной ночи подарил мне отец: на пути к свету знаний меня должен был сопровождать ночной мрак. Это был один из многочисленных способов отца подчеркнуть своё мнение о сыне. Не скажу, чтобы он сильно задел меня. Я уже привык к тому, как отец словом и делом выражает своё отношение ко мне. Мать подарила мне несколько отрезов пёстрой ткани, из которой раб делает на моей голове тюрбан. Лик служителя светится, подобно звезде, и я стал в избранных случаях называть его этим именем. «Астер (что на нашем языке означает Звезда)! – громко или шёпотом зову я. – Сделай то-то и то-то». И он мгновенно всё исполняет. При звуке ласкательного имени глаза и губы раба исполнены такой же преданности, какую выказывает собака, если держать у неё перед носом кусок мяса.
Коль скоро Ганнибал не объявляется, я, хотя у меня сегодня туго со временем, выскакиваю из палатки посмотреть, что с ней стряслось. Как ни маловразумительны были речи раба, они разволновали меня, и я не сразу обнаруживаю, в чём дело. Меня окликают несколько писцов, то ли чисто по-дружески, то ли с намерением подразнить. Я вздрагиваю, но стараюсь не придавать значения их окрикам. Слышу, слышу, карфагеняне Табнит, Палу и Манги, видите, как я машу вам, показывая, что занят?.. Больше всего я боюсь появления Силена. Мне не хочется быть втянутым в спор о каких-либо подробностях Ганнибалова сна в Онуссе. Не привлекают меня и возможные насмешки Хохотуна над тем, что я, собственно, суечусь около палатки: может, всё-таки соблазнился прелестями борделя и намылился туда? Ох уж эти непритязательные непристойности! При всей их грязности такие остроты удручают прежде всего своей банальностью.
Побегав вокруг своей и других палаток на манер ходулочника (птицы, глядя на которую всегда кажется, будто у неё вот-вот отвалятся ноги), я снова скрываюсь к себе и опускаю полог. В палатке я застываю на месте, словно окаменев.
– Ты видел, как нам переменили звёздное небо, господин?
– Помолчи, – только и могу выговорить я.
Я крайне обеспокоен. Мою палатку поставили совсем не так, как мне положено по рангу. Вчера я не заметил этого из-за усталости, сегодня утром – из-за возбуждения. У меня есть все основания для обиды. Впрочем, я не собираюсь подавать жалобу. Есть способы и получше. Разумеется, я настою на своём праве. Я им этого не спущу. Ведь если не заартачиться, недолго превратиться в игрушку, в объект злых шуток и проказ сначала для более или менее равных, а там и для низших чинов.
Не стану утверждать, будто собственная палатка есть у одного меня, но моя, несомненно, самая дорогая и солидная из всех, что стоят вокруг. Большая часть писцов вынуждена ночевать в общих палатках, по четыре-пять человек в каждой. Так что же произошло с моим шатром? Насколько я понимаю, кто-то из моих так называемых коллег подкупил прислужников, которые, следуя квартирмейстеровой схеме, устанавливают и личные и общие палатки. Несмотря на вскипающий во мне гнев, вернее, на досаду и злобу, я осознаю, насколько опрометчиво было бы обращаться с жалобой к начальству. Не стоит также отвечать на одну взятку другой, более крупной. Нет-нет, от меня им не дождаться ни денежного вознаграждения, ни лукавой лести, ни притворного доброжелательства. При первом же удобном случае наши верные подможники получат от меня разнос, который они не скоро забудут. Нечего лишать меня того, что мне положено. Ганнибал всегда должен знать, где меня найти.
Но как Главнокомандующий сумел обнаружить мою палатку вчера?
Мысль об этом вновь распаляет меня. У него было важное дело. Ганнибал сам понимал его неотложность. Конечно, Анне Барка необходима своя версия онусского сна.
Прервав собственные записи, я принимаюсь искать эту сугубо секретную версию с богиней Танит и, найдя, берусь снова перечитывать текст. Однако вскоре меня отвлекают мрачные раздумья. Прежде всего, я вспоминаю брошенные мимоходом слова Палу: дескать, нас, писцов, по какой-то причине должны перевести на стоянке подальше от штаба, вблизи которого мы обычно по праву располагались. Затем меня одолевают мысли о том, грозит ли моему личному «обозу» чистка, на которую мне уже неоднократно намекали. Вдруг у меня прямо тут, на берегу Ибера, отнимут обоих рабов, а с ними и мула? Вдруг я буду лишён отдельной палатки?
На той стороне реки начинаются серьёзные дела, начинается война. Там нас ждёт противник, который, возможно, уже сидит в засаде; нам будут мять бока и кусать за пятки, пока мы не перевалим через Пиренеи, где есть надежда встретить благорасположение кельтов.
Что я знаю про военные действия? Ничего. Какие жестокие схватки ожидают нас уже завтра? Понятия не имею. У меня никогда не было с Ганнибалом конкретных разговоров о походе, к которому он соблазнил меня присоединиться. Мне неведомы даже ближайшие его планы. Я знаю только, что Ганнибал – или кто-то другой – отодвинул нас, писцов, чуть ли не на задворки лагеря, к самым болотам, раскинувшимся столь широко, что о переправе здесь нечего и думать. Не мудрено, что писцы воспользовались шансом задеть моё самолюбие проказами с палаткой.
«Наши ударные силы явно стоят очень далеко, – размышляю я. – А где высшее командование, штаб? Мы, писцы, должны находиться в пределах досягаемости для него. Или теперь, у порога кровопролития, нас решили перевести в более безопасное место? Что же, связь со штабом будет померживаться через быстроногих гонцов?»
«Как следует понимать все эти знаки? – спрашиваю я себя. – Может, меня поселят в одной палатке с другими? Ну уж нет, лучше буду спать на голой земле! Неужели у меня отнимут собственный угол и возможность спокойной работы, причём теперь, когда подвергаются суровой проверке мои способности к сочинительству, а меня ещё тянет писать своё? Нет, так нельзя, это недопустимо! Мне совершенно необходимо сохранить палатку и хотя бы Астера. Как я иначе буду справляться? Да и мула! Я не забыл, что мне запретили покупать нумидийского коня. Мне, видите ли, положено идти на марше пешком. Но если у меня отнимут всё, мне, по крайней мере, нужен конь. Коня, коня, дам эпос за коня! Нет, не эпос, а эпиллий, – спешу поправиться я. – Конь большего не стоит».
Постепенно я успокаиваюсь. Меня угомонили и умиротворили широкие взмахи могучих крыл, которые я слышу у себя за спиной. Будут слишком притеснять – обращусь к Ганнибалу. Он защитит меня и обеспечит все условия для моей безопасности. Если бы я в своё время обратился к нему, у меня уже был бы резвый скакун. Я ведь прекрасно езжу верхом. Это мне говорили многие, даже отец. А Ганнибал никогда не видел меня на коне. Сам он отличный наездник. Можно сказать, выдающийся. Но это, естественно, никого не удивляет.
Даже здесь, в Испании, никого не удивляют многочисленные таланты Ганнибала. Все воспринимают любое его достижение как должное. То, что ещё минуту назад считалось нереальным, вдруг становится действительностью, в которую верит каждый, – стоит лишь Ганнибалу заикнуться об этом, только что для всех немыслимом. На него смотрят так, словно он сам воплощает в своём лице лучшие стороны существования: блистательные победы, богатую добычу, высокое жалованье, весёлую жизнь, отсутствие смертей, приятное насильничанье и не знаю что ещё. Ветераны ликовали, когда Ганнибала выбрали начальствовать над войском. Для солдат он – Баловень Судьбы. На голове у него сияет шлем, и это сияние зажигает каждого ратника. Стоит Ганнибалу раскрыть рот, как он очаровывает всех. Его харизма, а также любое из его высказываний распространяются по войску, точно сладостный аромат тинктуры[44]44
...точно сладостный аромат тинктуры. – Тинктура (лат.) – настойка лекарственного вещества на воде, спирте или эфире.
[Закрыть]. Каждого словно обволакивает фимиамом. И все будто ждут этого. Сначала у них от изумления спирает дыханье, но они делают глубокий вдох – и потом им уже дышится легко и свободно. Воздух оказывается напоен чем-то необыкновенным, и все воспринимают это как нечто само собой разумеющееся.
Ох-ох-ох! Всё невиданно, неслыханно, необычайно и в то же время совершенно естественно и осенено благословением богов. Кто может отрицать реальность происходящего? Ох-ох-ох! Вторгнуться в земли варваров, взойти на Пиренеи и Альпы, напасть на Рим со стороны суши и победить его – это нечто необыкновенное, удивительное, особенное, чудесное и в то же время совершенно естественное и богоугодное. Ведь с нами Ганнибал, он начальствует и повелевает!
«Да, на этом берегу Ибера, – подпускаю я гадкую мыслишку. – Посмотрим, как они будут ликовать на том».
Тут мысли мои перескакивают на другое. Безо всякой связи с общим ходом рассуждений я вдруг нападаю на прозвище, которым хотел бы впредь величать Силена: Птичья Глотка! Исключительно подходящее для него имя. Как это будет на языке Гомера? Я не ломаю себе над этим голову, а принимаюсь торопливо писать: «Видел ли кто птиц, пережёвывающих пищу? Я, во всяком случае, такого не наблюдал. Все они мгновенно заглатывают свою добычу».
Что делает и Силен. Гурманство ему неведомо. Он запихивает в себя еду и проворно глотает всё, что напихал. Правда, он хвастается изысканным чувством языка. Он берёт в рот фразу и тщательно взвешивает её, смакует какое-нибудь избранное слово, перебирает союзы, причмокивает на окончании, словно это лакомство вроде змеиного хвоста. Неофициально Силен назначен историком Ганнибалова похода и время от времени с важным видом удаляется написать очередную страницу хвалы нашему полководцу.
«Он у меня ещё получит за своего слащавого Софокла! Я напущу на него Аристофана[45]45
Аристофан (ок. 446—385) – древнегреческий комедиограф. Жил в Афинах. Из 44 комедий Аристофана сохранилось 11: «Ахарняне», «Мир», «Лисистрата», «Всадники», «Осы», «Птицы» и др.
[Закрыть]!»
Теперь ликую я. Насколько я помню, «Ламо» буквально значит «глотательница». Перечислив части её тела, Аристофан приходит к выводу, что не все они женственны. «Лаймос» – это «глотка». Почему бы не наречь Силена Лаймом или Ламией? Я останавливаюсь на Ламии – это прозвище привлекает меня своей двусмысленностью[46]46
В греческой мифологии Ламия – чудовище, пожирающее детей (или высасывающее кровь из юношей).
[Закрыть].
V
Ох уж этот Силен, этот кичливый грек, родившийся даже не в самих Сиракузах, а в какой-то дыре, чуть ли не пещере под ними! Хотя языком римлян он не владеет, за что я, впрочем, не могу винить его... (До последнего времени язык Рима был практически неизвестен за пределами этого захолустного города волчицы, да он и по сей день остаётся несформировавшимся, неровным, несущим в себе отголоски архаической эпохи, иногда ещё пахнущим зверем, как свежая убоина, – надеюсь, ты понимаешь, что я имею в виду, Ганнибал. И этот непричёсанный, дефективный, пришепётывающий язык римляне теперь навязывают привыкшим к изящным звукам италийцам, они силой, принуждением понукают их пользоваться своим мужицким языком...) Итак, Силен – новонареченный Ламия...
Когда я предложил назвать неземной красоты юношу, которого видел во сне Ганнибал, этруском, – по крайней мере в римском тексте, – Силен ничего не понял. Он был не в состоянии разглядеть безжалостное жало, коварный коготь, сокрытые мной в этом образе. Но если нужно объяснять каждую мелочь, жизнь делается безумно тоскливой. А Силен, сей отвратительный Ламия, вынуждал меня именно к подобным объяснениям. Что в греческом тексте юношу следует назвать греком, я, так и быть, не возражал, хотя при общей запутанности обстановки готов был предложить македонянина или уроженца Микен – последний вариант пробудил бы отзвуки очень давних времён. Ладно, пускай Силен радуется своему красавчику греку, но в римской редакции молодой человек должен быть этруском. Это сообразили все.
«Замечательная находка! – просиял Ганнибал и заверил: – Решено: по-римски будет этруск!»
Мы знаем, как Рим обошёлся с этрусками. Сами способные лишь на проявления ханжества и мужицкой неотёсанности, а также на закоренелый формализм, римляне терпеть не могут этих любителей искусства, людей, живущих утончёнными идеями и имеющих развитую систему правления. Сначала Рим просто-напросто использовал их, высасывая все соки и обдирая как липку. Затем он согнал их с высших должностей и, наконец, фактически уничтожил сей народ как носителя собственной культуры. Да, Рим в неоплатном, кровном долгу перед этрусками, и, насколько мне известно, Ганнибал рассчитывает вобрать в своё войско остатки этого народа – когда мы перевалим через Альпы и углубимся в италийские земли.
На нашем языке юноша, естественно, будет карфагенянином, чистой воды финикийско-пунийским уроженцем Карфагена. Да и кем ему ещё быть в карфагенском тексте? Как бы проэллински ни был настроен Ганнибал, он не осмелится бросить вызов Мелькарту, покровителю нашего города, а впрочем, и других финикийских городов. Мелькарту поклоняются очень широко, он есть даже у греков и римлян, хотя и под другими именами. Баркиды издавна были высокими поспешествователями этого бога.
Кстати, неотъемлемый символ Мелькарта – палица, изображён на монетах, которые Баркиды распорядились отчеканить в Иберии. Это был дерзкий и рискованный политический шаг, крайне отрицательно воспринятый карфагенскими гражданами. Чеканка монет в провинции, к тому же по распоряжению Баркида, преступала все границы дозволенного и была нарушением порядка и законности, не говоря уже о традициях и правах граждан. Так что Баркидам был устроен нагоняй. Они пытались отговориться финансовой необходимостью, но у них ничего не вышло. Чеканка монет относится к области внутренней политики, а за проведением оной в Карфагене следили особенно строго. Чтобы их не заклеймили как врагов империи, Баркидам пришлось прибегнуть к подкупу и поднять на ноги народ.
Бури бывают самого разного свойства. Бывают в стакане воды, а бывают те, что известны под названием «ведьмин котёл». Каждое дошедшее до Карфагена известие о чеканке вызывало в городе именно такую бурю. В ведьмином котле начинали барахтаться все политические деятели. Ураган бушевал во дворцах и в домах частных граждан, проносился по улицам и площадям, врывался в залы Бирсы, чтобы затем вырваться наружу и снова вломиться внутрь. Даже храмовые дворы были наводнены кипящими от злости властителями. «Баркиды поместили на монетах собственные изображения! Неужели они свалятся нам на голову в виде тиранов?» – «Мы всегда пожалуйста», – смеялись Баркиды и в самых крайних случаях призывали народные массы утихомирить кипящие страсти.
Но вернёмся к онусскому сну!
Тщательно продумав наиболее подходящее происхождение юноши, мы стали на все лады обсуждать фразу: «Только не вздумай оборачиваться!»
Совершенно очевидно, что тема эта была крайне деликатной.
Во сне Ганнибал обернулся. Тут уж ничего не поделаешь: что было, то было. Но обязательно ли всем знать об этом? Стоит ли включать сию подробность в тексты, предназначенные для всеобщего распространения? Не совершим ли мы серьёзный промах, который сведёт на нет воздействие сна в его письменном варианте? Божественной красоты юноша карфагено-греко-этрусского происхождения говорит спящему Ганнибалу:
«Меня послал Баал-Шамем, чтобы я лучшим путём довёл тебя до самых стен Рима. Только не вздумай оборачиваться!»
Всем известно, какие роковые последствия влечёт за собой оборачивание, если оно запрещено посланцем богов. Несколько писцов, и карфагенских и греческих, предупреждали Ганнибала и просили его разрешения выпустить этот кусок. Если исходящему от него запрету не подчиняются, божество обычно нарушает своё обещание. Однако Ганнибал в данном случае проявляет твердолобость и начинает цепляться к словам.
– О каком, собственно, божестве речь? Я видел всего-навсего юношу...
– Он был посланцем бога, а это значит, что запрет...
– Минуточку! Вам не кажется, что вы путаете сон с реальностью?
– Предсказания бывают реальнее...
– Совершенно верно, – не моргнув глазом, меняет свою позицию Ганнибал. – Так вот: мне никто не давал чёткого приказа. Я даже не могу назвать это призывом. Речь идёт исключительно о дружеском совете. Юноша хотел избавить меня от страшного зрелища за моей спиной. Но я не мог воспользоваться подобным великодушием. Неужели Баркиду слабо посмотреть, что ему показывают во сне? Ну уж нет! Я взял и обернулся. Баста!
Разумеется, Силен уже приводил в пример легенду об Орфее и Эвридике. Аид оставил у себя возлюбленную Орфея, потому что фракийский певец обернулся и таким образом нарушил закон подземного царства, гласящий, что никому нельзя видеть тех, кто попал в мир теней. Если такое случится, не помогут никакие песнопения: нарушение закона освобождает всех от данных ранее обязательств. Эвридику снова отзывают в царство мёртвых.
Я внёс свою лепту, обратившись к древнееврейской литературе. (Евреи с презрением относятся к нам, финикиянам, хотя наши праотцы помогли царю Соломону в строительстве Иерусалимского храма[47]47
...наши праотцы помогли царю Соломону в строительстве Иерусалимского храма... — Соломон – третий царь Израильско-Иудейского государства (ок. 965—928). По повелению Бога он должен был выстроить храм в Иерусалиме. Храм возводили десятки тысяч людей в течение семи лет. Он был разрушен войсками вавилонского царя Навуходоносора в 586 г.
[Закрыть], и не только в этом. Они также не хотят признать, что без нашего содействия их священные книги остались бы ненаписанными). Когда были уничтожены Содом и Гоморра[48]48
Содом и Гоморра – в ветхозаветном предании два города, жители которых погрязли в распутстве и были за это испепелены огнём, посланным с неба.
[Закрыть], расположенные на берегу страшного моря смерти, Асфальтового моря, и все его жители погибли от серы и огня с Небес, успели спастись четверо, которых предупредили заранее. Это был Лот с женой и двумя дочерьми. Несмотря на запрет, Лотова жена, движимая любопытством, обернулась – и была мгновенно обращена в соляной столп.
Ганнибал, когда того пожелает, делается просто солнечным: единственное сияющее лицо из всего окружения. Когда это происходит, блекнут звёзды на небосводе. Однако на этот раз он внезапно помрачнел и стал загадочен, как сфинкс или герма[49]49
Герма – четырёхгранный столб, увенчанный головой бога Гермеса или других божеств. Гермы употреблялись как верстовые и межевые столбы, ими отмечали священные участки, и сами они считались священными.
[Закрыть], которая посвящена неизвестному божеству, а потому не имеет черт лица. Всё же Ганнибал поднял, голову и, не размыкая губ, улыбнулся. Чему? Нашим речам, нашему переливанию из пустого в порожнее? Нет, не может быть. Я ещё никогда не видел его таким красивым, таким серьёзным, таким исполненным жизненных сил.
– Я обернулся во сне, чтобы посмотреть на происходящее у меня за спиной.
– Разве во сне оборачиваются? – решился спросить кто-то.
– Не я, который спал, а я, который был во сне, – парировал Ганнибал.
Ему не нужно было снова повторять: «Баста!» Голос его звучал чисто, словно флейта.
Как же пристально я вглядываюсь в это неповторимое лицо! Конечно, перед мной Ганнибал-Победитель собственной персоной. Но что это за Победитель? В чём заключается его Победа? В каких областях он достиг её уже теперь, так что всё его существо кажется осиянным Победой? Я вижу, что он смакует её в глубине души и разума... но по какому праву? Где уже одержана Победа? В Сагунте[50]50
Где уже одержана Победа? В Сагунте? – Испанский город Сагунт был расположен в той части полуострова, которая принадлежала Карфагену, но он сохранял независимость и являлся союзником Рима. Под предлогом того, что Сагунт напал на одно из подвластных Карфагену племён, Ганнибал начал осаду города. Жители его восемь месяцев отстаивали свою независимость, проявляли смелость и самоотверженность. Но в 219 г. Сагунт пал, и это дало повод Риму объявить войну Карфагену. Так весной 218 г. началась Вторая Пуническая война.
[Закрыть]? Она слишком незначительна, чтобы оправдать чувство непобедимости, которое столь наглядно и убедительно демонстрирует Ганнибал.
Он не прислушался к юноше и обернулся. Станет ли от этого его Победа ещё замечательнее?
Ганнибал умудряется покончить на месте даже с моими мыслями.
– Уважаемые господа! – язвительным тоном произносит он. – Вы перестали шевелить своими прекрасными мозгами. Вы рассуждаете о реальной жизни, тогда как я говорю о своём сновидении. Я повернулся во сне. Уверяю вас, что наяву я ни в коем случае не сверну с нашего пути на город Рим.
Меня часто охватывает чувство зависти к Ганнибалу, зависти к его образу жизни, к его духу, к благородному вину, которым наполнены его – но не мои – мехи. Как бы я ни приближался, мне никогда не разделить с ним эту жизнь, эту брызжущую через край энергию. Я всего лишь сторонний её наблюдатель, жонглирующий словами спектограф, медиум муз. Я готов вывернуться наизнанку, готов на манер флюгера вращаться из стороны в сторону ради хорошей точки обзора. И я всегда вижу всё как нечто определённое и конкретное. Только в этом случае я обретаю дар речи, который безмерно радует меня. Пока это нечто остаётся чётким и понятным, язык мой может живописать лишь сие нечто, и ничего помимо него... Такова моя натура! Ганнибал же...
Он Победитель. Победа приходит к нему нагая, nue á nu! И Победитель, и его Победа оба нагие. «Как же иначе!» – с присущей ревности саркастической проницательностью думаю я.
Главнокомандующий бравирует отсутствием вёсел. Но фактически в этом нагота, беззащитность самого Ганнибала и его Победы.
Вёсла, тысячи вёсел, свыше сотни спущенных на воду судов, тысячи гребцов – доведи их до десятков тысяч, сделай суда выше и быстроходнее, посади гребцов по трое-четверо-пятеро в ряд! Вечно воюющий, самый могучий флот Средиземноморья веками служил защитой финикийскому народу, его мужам, жёнам и детям, в том числе жителям Карфагена, первого среди равных городов. Наша держава представляет собой талассократию[51]51
Наша держава представляет собой талассократию... – Талассократия (греч.) – господство на море.
[Закрыть]: вопросы власти всегда решаются на море. На протяжении трёх столетий эти вёсла, гребцы и суда обеспечивали безопасность Карфагенской империи, даруя её подданным благосостояние, удобства, мир и покой. Однако примите во внимание, что наши корабли как раньше, так и теперь строились и строятся не только для войны: в основном это торговые суда, а также суда, предназначенные для опасных путешествий по неизведанным морям в неизведанные страны.
Однажды римляне тоже вышли в открытое море. Крестьяне обратились в мореходов. Многие карфагеняне только посмеивались над ними. Наши моряки плевали против ветра, но вскоре им пришлось засучить рукава и плевать на ладони. Римляне стали прочёсывать наши воды и жечь разбросанные по берегам опорные пункты для мирной торговли. В своё время греки попросили финикийцев научить их искусству мореплавания, и то немногое, что им известно о заморской торговле, они почерпнули от нас. Лишь спустя десятилетия греки осмелились, потеряв из виду берег, выйти на морской простор. Римляне же не стали просить у нас помощи. Они просто нагло бороздили моря и океаны.
Но самое страшное было впереди.
Что, собственно, они выхватили в тот раз из наших рук? Не земли. Земли эти никогда не принадлежали нам. Проклятые римляне выхватили у нас весло, нашу надежду и защиту, а выхватив, подняли его вверх и разломили надвое.
Почему Гамилькар-Гасдрубал-Ганнибал прежде всего не построили для нас, карфагенян, сильный флот, чтобы можно было загнать римлян в крысиные норы гаваней, а там покончить с ними огнём и мечом? Может быть, они руководствовались политическими соображениями? Может, им мешало наше государственное устройство? Может, они не хотели становиться тиранами на тот период, который потребовал бы напряжения всех сил? А может, Баркиды просто-напросто сухопутные крабы?
Ганнибал-Победитель остался без вёсел. И, тем не менее, опьянён Победой. Может, его Победа пуста? Пуста, как месть, в которой он поклялся ещё ребёнком[52]52
...как месть, в которой он поклялся ещё ребёнком... – В девятилетием возрасте, перед тем как отправиться с отцом в военный поход в Испанию, Ганнибал поклялся перед алтарём в непримиримой вражде к Риму до конца своей жизни. Слова «Ганнибалова клятва» стали крылатым выражением.
[Закрыть], как зеркальная поверхность моря, которую ничего не стоит нарушить легчайшему бризу? Подобно мести, Победа должна быть наполнена активными действиями, подкреплена выигранными битвами и множеством поверженных врагов; Рим необходимо поразить в самое сердце и уничтожить. Может ли голая уверенность Ганнибала в победе или его жажда мести принести пользу Карфагену? О чём он думает: о своём народе или об отце? Не станет ли отмщение радостью только для его давным-давно почившего отца?
В сей ответственный момент, под моим критическим и нелицеприятным взором, Ганнибал со всей своей исключительностью, а с ним и сама Победа заколебались и едва не опрокинулись. «Я повернулся, – упорно утверждает Главнокомандующий. – Но повернулся во сне, а не наяву». Это добавление про явь призвано уничтожить нас как мыслящие существа. Я уже в третий раз слышу эту фразу, и мне на ум приходят выхваченные откуда-то слова: «Все мы покидаем сей свет с ощущением, будто только что родились». К Ганнибалу это не относится. В нём уже теперь присутствует великая Победа, его триумф, его окончательное торжество. Ганнибал родился отнюдь не вчера. Он приближается к вершине. Для него не существует ни дней, ни лет, ни времён года. Он постоянно и неколебимо живёт в состоянии Победы.
Зависти как не бывало. Перед моим взором – Ганнибал в облике Орла. Он сидит, вцепившись когтями в утёс на краю пропасти, и гордо, бесстрашно смотрит вниз.
А я? Что делать мне? Я решаю по-прежнему всё запоминать и, буде возможно, записывать свои непосредственные впечатления. Я убеждён, что под началом Ганнибала мне предстоит стать свидетелем удивительных событий. Речь идёт не просто о сокрушении Рима. Под водительством Ганнибала и Карфагена преобразится мир. На всей территории новой империи наступит благоденствие. Так, как сейчас живётся на нашем обожаемом Прекрасном мысе, заживут по всему земному шару.
Вот какие слова я пишу теперь, хотя совсем недавно твёрдый образ Победы чуть не опрокинулся, а сам я испытал горькую зависть к той таинственной жизни, которой проникнут, которой светится Ганнибал.
На слегка негнущихся ногах он выплывает из окружения нашей писарской братии – подобно Орлу, который, сделав два царственно-подтянутых шага, покидает широкое гнездо на вершине утёса, чтобы броситься с его края в Никуда, расправить в кромешном мраке крылья и, чуть склонив голову, вглядываться в бездну, где над демонами Неопределённости властвует Небытие.
Мы же, писцы, продолжаем свои споры.
Вот я и дошёл до имени божества. Оно ведь тоже должно быть самым подходящим для каждого языка. На том, что Зевс будет само собой разумеющимся выбором для греков, а Баал-Шамем – для нас, мы сошлись довольно скоро. Дело в том, что в нашем случае имя бога может варьироваться. Баал-Либанон означает Владыка Гор, и некоторые финикийцы предпочли бы его. Мелькарт, бог Тира и Гадеса, произведён многими в божество Солнца, а потому тоже был бы нелишним в тексте. Труднее всего нам далось имя римского бога, притом что эта редакция, как мы понимали с самого начала, была наиболее важной. Мы довольно плохо знали римский пантеон – его только-только ввели. Не правда ли, замечательное свидетельство отсталости и позднего пробуждения Рима? Несмотря на некоторую неуверенность, мы пришли к выводу, что лучше всего подойдёт Юпитер.
Почему? Да потому, что сам Рим торжественно провозгласил Юпитера своим покровителем и защитником. В нашем тексте он превращается в свою противоположность, то есть в бога наказания и мести. В онусском сне Юпитер Оптимус Максимус (то бишь Наилучший и Величайший) обращается к заклятому врагу Рима, карфагенянину Ганнибалу Барке, и заранее отдаёт Победу в его руки. Как поведут себя жрецы Юпитера, дабы отвратить сей ошеломляющий приговор? К чему они вынудят римлян, чтобы умиротворить своего разгневанного покровителя? Сколько тем придётся совершить сложных ритуалов? Сколько принести жертв? Какими их обложат налогами и податями?
В кратком пересказе Ганнибалов онусский сон звучит следующим образом.








