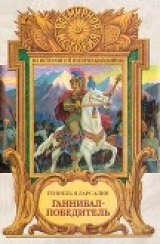
Текст книги "Ганнибал-Победитель"
Автор книги: Гуннель Алин
Соавторы: Ларс Алин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 28 страниц)
IV
Состояние рассеяния иногда благотворно. Ускользая от наскучившего тебе, вынужденного присутствия где-то, гы тем более ощутимо уходишь в какую-то более приемлемую для тебя, иногда просто чудесную, обворожительную обстановку. Именно это и произошло со мной. Палатка исчезла. Бальтанд расплылся и тоже исчез, глаза мои словно промылись. Что теперь откроется моим чувствам – посмотрим.
Наше войско вступило в край, забытый богами, истерзанный и проклятый, на землю, которая зыблется под ногами из-за вдающегося глубоко в сушу морского языка. Уж не заблудились ли мы? По Ганнибалу, во всяком случае, незаметно, чтобы мы отклонились от намеченного пути. Он, как всегда, горит энтузиазмом и даже ухитряется воодушевлять нас на преодоление самых необычных препятствий в добром расположении духа.
Пробираясь по такой местности, никогда не знаешь, что тебя ждёт впереди. Невозможно предугадать, далеко ли тянется этот подземный залив. Иногда море выходит на поверхность в виде лиманов, ключей и болот с обширными зарослями тростника, причём тростник этот настолько высокий, что загораживает всякий обзор. Попав в такие заросли, оказываешься в лабиринте, запутанном куда более искусно, чем Дедалов критский лабиринт[81]81
Дедалов критский лабиринт. — Дедал – в греческой мифологии изобретатель, искусный архитектор и скульптор. По поручению критского царя Миноса построил подземный лабиринт для чудовища Минотавра, поедавшего юношей и девушек, которых ему приносили в жертву афиняне. Афинский герой Тесей (см. примеч. № 75) отправился на Крит, чтобы расправиться с Минотавром, убил его и с помощью клубка ниток, который дала ему влюблённая в него дочь Миноса Ариадна, выбрался из лабиринта (отсюда: «нить Ариадны»).
[Закрыть]. А где тут, ходя вавилонами, найдёшь помощницу Ариадну или клубок ниток? Разве что у стаи фламинго? Они чуть что срываются с места и, по моим наблюдениям, летят к ближайшей водной глади. Однако я не тороплюсь следовать за ними. Нервный полёт чувствительных птиц не может служить проводником для человека, не знающего ни где он находится, ни куда идёт. То ли дело небесные звёзды, по которым в тёмную ночь прекрасно находят дорогу мореплаватели! Один ясный день, проведённый в тростниковой чащобе, – и храбрец из храбрецов чуть не сходит с ума. Если мне кажется, будто я остался один, меня начинает трясти от страха, я озираюсь по сторонам, закрываю глаза и стараюсь отдышаться. Людской поток подхватывает меня и несёт дальше.
И как язык больного бывает обмётан белым налётом, так и морской язык, на котором колышется почва, покрывают солончаки размером с карфагенскую гавань, если не больше. Тут уже расстилается солончаковая степь. Воины вынуждены прямо-таки балансировать на зыбкой подложке. Мы выделываем зигзаги и петли, которые, однако, в конечном счёте ведут нас на север. Путь нам указывают дымовые сигналы, подаваемые форпостами.
«Хоть какая-то польза от этого тростника!» – говорят ратники.
Но сей забытый богами край иногда может угостить куда более необычным, редкостным зрелищем. Например, полнолунием...
Как раз в полнолуние я и ушёл, обиженный, от своих собратьев-писцов. Обычные вечерние дебаты мало-помалу приняли неприятный оборот, а затем стали просто невыносимы для меня. От языков без костей – к лязгающим и цапающим зубам! Фразами кидались туда-сюда, словно шмотьями окровавленного мяса. Даже для постороннего слушателя, каким оставался я, это было слишком.
Сначала я попробовал заснуть у себя в палатке. Сон не шёл. Моя бедная голова раскалывалась. Меня окатывало то жаром, то холодом. В надежде обрести облегчение я решил выйти на воздух. Может, поклониться луне? Я пал перед ней ниц, и мне действительно полегчало. Сразу же прошла голова, вскоре я избавился от недовольства, потом с меня были сняты все заботы и огорчения.
Безо всякого моего участия – так мне, по крайней мере, показалось – у меня в голове начали повторяться сочинённые к этому времени строфы эпоса. Я видел, скорее чем слышал, как плетущаяся ткань стиха делает реальным наш мир, объединяя разрозненные и чисто импульсивные поступки и события вокруг чёткой живой основы.
Видел, как под воздействием этого животворного мгновения жизнь выпрямляет свою согбенную спину, приобретая достоинство и величавость! Меня охватило потрясающее чувство свободы от своего привычного «я», отчего и испытал необычайную лёгкость и жгучую, огненную радость.
Я стоял посреди подвижного серебряного сияния: казалось, будто в ярком свете полной луны пляшет сама земля. В северной стороне, насколько хватало глаз, я видел сплошное переливающееся серебро. А совсем рядом, на земле, лежали, одна к одной, мерцающие звёзды. У ног расстилался ковёр из крохотных радужек. Я вытянул руки, и они тут же оделись разноцветьем. Я пришёл в экстаз. Грудь моя наполнилась поющим и пьянящим восторгом. Я пустился бежать. Мне хотелось сиять серебром, как лежащая под ногами земля, которая была полом во внезапно явленных моему взору священных чертогах богов.
О, что за ощущение – видеть, как твои собственные конечности излучают матовый серебристый блеск со вспышками огоньков!
Я испытал это удовольствие. На бегу меня со всех сторон обступили переливающиеся арабески. Их серебристые извивы задевали мои руки и ноги, подсвечивая меня прихотливым мерцающим светом. Внезапно всё словно замерло. В полном упоении я как бы вышел из самого себя, чтобы посмотреть на собственную одинокую светящуюся фигуру.
Вот бы навсегда остаться в этом редкостном состоянии близнецов! Тёмный наблюдатель питает безмерную любовь к своему светозарному брату. Он любит всех и вся, без исключения.
Засим мне больше нечего сказать. Уместных для такого повода слов нет ни в одном из земных языков. Добавлю лишь одно: я медленно и осторожно вернулся в своё привычное состояние и безо всякого испуга обнаружил, что стою на солонцовой коросте, а подо мной в буквальном смысле слова плещется море.
Приободрённый и заново обретший себя, я пошёл бродить дальше в этом поразительном лунном сиянии.
Солью жителя Карфагена не удивить. И ближние и дальние окрестности города перенасыщены ею. Когда задувает крепкий ветер с Атласских гор, соль припорашивает наши одежды и мы заслоняем рот шалью или куском материи. Разумеется, мы используем для своих надобностей естественные водоёмы, где выпаривается соль. Кстати, это мы научили ливийцев бороться с засолением, когда соль образует корку на культивируемых землях, которые могли бы давать урожай злаков и овощей.
Нужно постоянно проходиться по земле с мотыгой, чтобы почва была рыхлой и могла дышать. В более сложных случаях требуются средства покруче. Для них мы изобрели так называемую «финикийскую повозку», борону, заменившую множество рук. И обнаружили невероятную живучесть оливковых посадок, в том числе на тощих и склонных к засолению почвах, где раньше выживали лишь заросли лоха и мастичного дерева[82]82
Мастичное (мастиковое) дерево – вечнозелёный кустарник или дерево. Из его стволов при надрезе получают приятно пахнущую смолу – мастике.
[Закрыть]. О благодати, которую несут с собой оливковые рощи, мы твердим из века в век. Оливковое дерево даёт не только масло, оно отбрасывает тень на залитую солнцем землю. Путешествующий верхом научился ценить эту дарующую прохладу тень, а тот, кто раньше роптал на бесплодную местность с вылезающими тут и там скалистыми остовами гор, может теперь взять оливковую косточку и показывать её всем как залог своего благополучия.
Во время ночных странствий я дошёл до огромного, вытянутого в длину лимана. Там, на мелководье, стояли, наверное, тысячи лошадей, а на берегу я увидел множество догорающих костров. Часть ратников лежала на земле, кое-кто сидел на корточках над костром и подкладывал в него дрова, остальные были в воде, около своих коней. Нумидийцы, всадники, наша африканская кавалерия! Солёная вода должна была залечить и укрепить лошадиные копыта, берцы и бабки, потому и стояли теперь животные, которых всадники берегли пуще своего глазу, в воде, и спали стоя, с опущенными головами. Хотя кони стояли тихо и безмолвно, словно призраки (тени их походили на отброшенные в сторону чепраки), всадники один за другим просыпались и шли по воде к своим любимцам, гладили их или расчёсывали им руками гриву.
Кстати, у меня теперь тоже есть конь, и я тоже беспокоюсь за его копыта, мослы, берцы и особенно за места под щётками, на которых легко образуются трещины и ссадины. Конь доставляет мне радость, но и заставляет волноваться за каждую частичку своего полного живительной энергии тела. Вот что значит быть владельцем лошади. Моего злобно смотревшего на всех мула пришиб камнем каталонский пращник. Выстрел этот едва ли можно назвать продуманным военным действием, скорее он был сделан наобум, и попадание в мула оказалось чистой случайностью. Мой раб привёл мула на водопой. Мальчишка отделался лёгким испугом, а поклажа и вовсе не пострадала, поскольку мула перед водопоем освободили от всех вьюков. Раба я продал за хорошую цену: только на таком условии мне разрешили приобрести коня. Разумеется, я не стал ради исполнения своего желания доходить до самого Ганнибала. Он загружен более важными делами. Я переговорил обо всём с глуповатым начальником, который ведает нашей писарской братией.
Моего красавца жеребца зовут Медовое Копыто. Он карей масти с отливом в корицу, копыта у него медовые и грива того же нарядного цвета. Мои коллеги даже не поверили мне на слово, когда я рассказал про иссиня-чёрный хвост коня. Они захотели сами убедиться, что это так, и при виде хвоста у них вытянулись лица: длинный, чуть не до земли, хвост действительно был иссиня-чёрный. Когда на коня навьючивают мой багаж, Астер заплетает хвост в косу и подвязывает его. Когда я еду верхом, я предпочитаю, чтобы хвост болтался свободно. Медовое Копыто любит носить меня на спине. Тогда, если верить Астеру, его кроткие глаза загораются огнём, он подбирается и ступает особенно изящно. Грива его вздымается у меня под руками.
Да будет благословен свет луны, окутывающий меня ореолом спокойной созерцательности! Не сама ли Селена-Геката уводит меня прочь от лимана и на распутье трёх дорог[83]83
Селену (в греческой мифологии Гекату), богиню мрака, ночных видений и чародейства, иногда отождествляли с римской Тривией, «богиней трёх дорог»; её изображения помещались на распутье, где ей и приносили жертвы.
[Закрыть] направляет к берегу моря? Дойдя дотуда, я опускаюсь на камень. Море на лунной дорожке не шелохнётся. У меня начинает громко, так что хорошо слышно, стучать сердце. Я жду чего-то необыкновенного – сам не знаю, чего именно. Но всем телом ощущаю, что сейчас передо мной должно предстать нечто экстраординарное.
И тут у меня с глаз точно спадает пелена, и я становлюсь свидетелем зрелища в самом деле исключительного. Оказывается, не один я поклоняюсь богине луны. Её чарующий свет завораживает и каракатиц, которые всплыли на поверхность и, ослеплённые и околдованные, качаются на ней, вознеся свои рыбьи взгляды горе. Они почти не шевелят многочисленными конечностями, лишь неторопливо втягивают в себя воду и тонкими струями снова выпускают её. Задом наперёд, они движутся по направлению к берегу и ко мне.
Меня вдруг словно толкнули в бок, я вскакиваю на ноги, здесь же мелко, для каракатиц тут смертельно опасно. На усеянном галькой берегу уже лежит множество их подруг. Они выкачивают из себя остатки воды. Там, куда они попали, их ждёт конец. Они не в состоянии вернуться в ту среду, которая для них единственно животворна. С рассветом все севшие на мель станут добычей птиц.
А может, перед моими глазами разворачивается совершенно иное действо?
Внезапно мне приходит в голову, что это любовное жертвоприношение. Поднимаясь из морских глубин, сии создания приносят себя в дар высшим силам. Не Селена ли подвигла их на это? Не ради ли меня она это подстроила? Возможно, это зрелище призвано чему-то научить меня? Возможно, у Гекаты есть какие-то планы на мой счёт?
Я безумно путаюсь – не столько происходящего, сколько собственных мыслей – и обращаюсь к Танит. Повторяя имя богини, я молю её о защите. Я принимаюсь плакать.
«Пускай трёхликая сгинет! – всхлипываю я. – Нечего ей выводить сюда призраков и демонов! Может, она ещё и мне прикажет пожертвовать собой ради луны и к вящему удовольствию ведьм и прочей нечисти? Прочь её! Спаси меня, о Танит, лик Ваала!»
«Сюда не ведёт с развилки ни одной дороги! – слышу и собственный карфагенский говор, перекрывающий греческое благозвучие Сиракуз и Александрии (которое до последнего пыталось убедить меня в том, что видение каракатиц, приносящих в жертву свои жизни, было явлено мне в качестве примера для подражания). – А луна вовсе не на исходе! – кричу я. – Она полная!!!»
И я припускаюсь бежать к карфагенскому лагерю.
V
Меня тяготит ответственное задание. Я играю важную роль в Ганнибаловом войске. Передо мной сидит изворотливый господин по имени Бальтанд. Он слыхом не слыхал про Баала и знать не знает, что за люди мы, карфагеняне При виде такого чудака я лихорадочно ищу ниточку, которая бы связывала нас с действительностью, и, найдя, спрашиваю:
– Почему ты не выбрал Янтарный путь? Я уже задавал тебе этот вопрос, но ты ничего не ответил.
– Как же не ответил! Я сказал, что ищу приключений.
Мне сдавливает горло. Я принуждён откашляться.
– Ну, хорошо, теперь расскажи, что ты видел по дороге собственными глазами, – приказал я.
– Ничего особенного.
– Особенное или не особенное, решаю я. Что-то ты должен был видеть.
– Мне посоветовали ночью плыть по течению, а днём отсыпаться в укромном месте.
– Ты не слишком усердно следовал этому совету.
– Разве?
– Тебя же захватил военачальник Ганнон со своим отрядом. Почему ты не велел рабу сторожить твой сон?
– Что толку сторожить, когда лемминги устремляются к морю?
– Кто устремляется?
– Да вы, карфагеняне.
Меня одолевает хохот.
– Мы устремляемся вовсе не к морю, а наверх, к Альпам, – сквозь смех говорю я.
Затем я призываю его к порядку.
– Ты говоришь, что получил совет. Когда это было?
– Когда я верхом перебирался от одной реки к другой.
– От какой к какой?
– От Рена к Родану.
– Что это за Рен?
– Северная река.
– Кто тебе дал совет?
– Один гостеприимный народ.
– Что именно тебе сказали?
– Сказали, что вдоль Родана более или менее спокойно, только кавары то и дело дерутся между собой за власть.
– Кавары?
– Они тоже кельты. Или галлы, выражаясь языком сыновей волчицы.
Бальтанд ухмыльнулся, довольный сим добавлением в свой словарь.
– Что тебе ещё известно про каваров?
– Да ничего. Они главенствуют на большой территории вверх по Родану, по эту сторону реки. Я их ни разу не видел, хотя меня они, кажется, заметили. В отличие от вас, они не стали брать меня в плен.
– Ерунда. Ты говоришь: «Ничего». Значит, что-то тебе всё-таки известно. Будь добр рассказать мне. Но безо всяких измышлений о людях, которых ты не видел, но которые видели тебя. Утверждая то, чего утверждать нельзя, человек предаётся фантазиям. Итак, я задаю вопрос: что ты точно видел?
Вскочив с мешка, Бальтанд устроил целое представление. Исполненными пафоса жестами и визгливым голосом он словно разыгрывал некую странную комедию или миму.
– Война, о благословенная война! – вопил он. – Кельтов хлебом не корми – дай поубивать! Чего они только не придумывают, дабы насладиться радостью убийства... Настоящих разногласий между ними нет, поэтому они находят для раздоров разные предлоги. Эти люди берут их из воздуха. Высасывают ссору из пальца.
– Сядь и умолкни, – повелел я.
Он не подчинился. Напротив, разошёлся пуще прежнего. Я не улавливал всех его шуточек, но видел, как он задирает нос, изображая смелость, и сетует, притворяясь побитым и уничтоженным, неся на плечах воображаемое бремя. Очевидно, в основе его лицедейства лежала мысль о том, что труднее всего удовлетворять свою кровожадность племенам, живущим в окружении одних лишь кельтов. (Очень скоро нам придётся убедиться в том, насколько Бальтанд заблуждался на их счёт). Посему братание и дружба с соседним племенем тоже вызывали безмерную печаль. Заключая узы братства, кельты бросались друг другу в объятия и плакали, как бы подразумевая: «Не становись моим другом и братом, ведь тогда я не смогу убить тебя, а этого мне хочется больше всего на свете».
Представление было окончено. Бальтанд сомкнул губы, закрыл глаза и с довольным видом сложил руки на животе – от этой дани искусству вид у него стал довольный и сытый.
– Что ты меня дурачишь всякими глупостями?
Молчание. Бальтанд слишком доволен своим творческим достижением.
– Так ты видел каваров в сражении?
– Я нет, а ты?
– Не нагличай! Говори толком, что ты видел!
– Когда спускался ночами вниз по Родану?
Бальтанд снова ошарашил меня: задрав голову с выпяченной губой кверху, он повёл речь так, словно его слушали оттуда небожители.
– Иногда я видел звёзды и месяц. Видел речные потоки. Большие и малые суда, одни из которых тянули канатами против течения, а другие сами легко плыли вниз. Иногда нам с рабом приходилось туго. Но, так или иначе, я познакомился с берегами и узнал, что по ночам уже начались холода. Похоже, ты и сам мёрзнешь, карфагенянин, а кислое твоё вино не греет кровь.
Мой гнев наконец-то выплеснулся наружу. Подскочив к Бальтанду, я схватил его за шиворот. Видеть не желаю этого типа. Пускай им занимаются другие. Сколько бы я ни отводил взгляд, эта блоха продолжает мозолить мне глаза. Я тебе покажу... С негодующим воплем я вынес его из палатки и уже собирался тащить к шатрам карфагенских писцов, но тут меня отвлекла потрясающая картина. Я опустил барахтавшегося вверх ногами человечишку на землю и сказал:
– Полюбуйся лучше, что умеют карфагеняне.
Бальтанд, ойкая и причитая, копошился у моих ног. Я взял его за плечи и развернул в сторону Родана. Ни одна греческая арена не могла бы предложить более величественного зрелища. Лошади! Подошла очередь переправлять через речной простор коней.
Конечно, их уже немало собралось и на этом берегу, но основная масса пока дожидалась на другом. Дожидалась? Вряд ли такое слово уместно в данном случае. Через ширь реки мне было видно, как лошади кучками вставали на дыбы. Они словно заражались нетерпением; невидимый отсюда, стелющийся по земле пожар заставлял их поднимать копыта и топтаться на месте, скакать и вскидываться на дыбы. Плётками бились хвосты, бешено размётывались гривы. Значительная часть коней уже находилась в реке, причём в самом разном положении. Многие плыли с всадниками на спине, выпрямив шею и задрав голову. Грудью рассекая воду, они оставляли за собой заметную волну, особенно с той стороны, что противостояла течению. Всадник сидел, наклонившись вперёд, голова к голове с конём, явно шёпотом успокаивая его.
Часть лошадей по три-четыре вместе плыли впереди лодок, откуда их держали в поводу: таким образом и воины и кони переправлялись на другой берег без помощи вёсел. Раздобытые Ганнибалом более крупные плавучие средства были поставлены штевень к штевню выше по течению, образуя своеобразный волнолом, призванный уменьшить силу течения. Мера эта явно удалась, поскольку теперь на воду начали сталкивать большие плоты, на каждом из которых стояло с дюжину лошадей, естественно, как-то привязанных, и находились гребцы или люди, толкавшие плот длинными шестами.
– Бесподобно! – заворожённый, прошептал я.
– Теперь я вижу, – донёсся до меня голос Бальтанда, – что вы, карфагеняне, народ богатый. Может, я даже предложу вам купить у меня отблески. Конечно, не все, а столько, сколько будет стоить моя свобода.
– Надо же, чтобы перед глазами было одновременно столько коней, тысячи три, не меньше! – вырвалось у меня. – Удивительно, поразительно, невероятно!
– Мой народ поклоняется лошадям и приносит их в жертву богу...
Я был не в состоянии прислушиваться к варвару. Меня слишком захватило происходящее, за которым я наблюдал боковым зрением. Эта переправа, этот пример решительных действий, как нельзя лучше свидетельствовала о величии Ганнибала и его стремлении к победе.
Вчера я стоял почти на том же месте, но с иными чувствами. Вчера я испугался. Мне впервые довелось увидеть едва ли не всё вытянувшееся в длину войско, и оно предстало передо мной в странно нерасчленённом виде. Я не различал ни людей, ни больших или малых отрядов, которые бы стояли или двигались особняком, отдельно от массы. Точка обзора позволяла мне одним взглядом охватить всё, и это всё составляло единое целое, неразделимое и самоценное: передо мной было гигантское чудовище, которое слепо, ни на что не обращая внимания, ползло вперёд, только вперёд. Всё попадавшееся на пути сметалось, расплющивалось, уничтожалось, дабы сей дракон мог показать свою силу, свою власть, своё могущество. Местность шаг за шагом крушилась, ибо ничему, кроме этого демонического, звероподобного целого, не дозволено было продолжить существование.
Вчерашнее зрелище подействовало на меня угнетающе. Вероятно, нечто подобное видел Ганнибал в Онуссе. Но я не Ганнибал, и представшее передо мной не было сном. К тому же я смотрел открытым взглядом, не так, как обычно смотрю в этом походе – боковым зрением, уголком глаза. А Ганнибал... кем был он, какой облик приобрёл для меня теперь? Lupus in fabula![84]84
Букв.: «Волк в басне» (лат.), употребляется в значении «лёгок на помине».
[Закрыть] Не успеешь произнести его имя, как он уже тут! Чудовище изрыгает, выталкивает из своей устрашающей пасти одинокую фигуру всадника, который внезапно останавливается и разворачивает коня. Это Ганнибал собственной персоной. «Но остался ли он по-прежнему Орлом? – с дрожью в сердце спрашиваю я. – Нет, – приходя всё в большее возбуждение, думаю я, – теперь он сын волчицы. Ганнибал-Волк ведёт дракона и повелевает им!» Эта метаморфоза произошла прямо у меня на глазах.
Занавес раздвинулся, открыв суть того, что случилось в каштановой роще, во время жертвоприношения волчицы. Оказывается, Ганнибал – новоявленный Ликаон, волкоподобный... да нет же, он сам волк, священный зверь войны.
Чтобы стать Победителем, ему нужно принести жертву Зевсу-Ликеосу и Юпитеру-Лупатусу[85]85
Эпитет Зевса Ликейский (чаще применявшийся к Аполлону) истолковывался древними греками не от слова «лике» – «свет», а от «ликос» – «волк», и понимался как «волчий», «убийца волков». Латинское «lupatus» означает «с волчьими зубами».
[Закрыть].
Взамен Ганнибал-Победитель коронуется на царство в облике зверя.
Я, королёк, оказался выброшенным из тёплого оперения Орла в воздушный океан. На земле я забрался к себе в палатку и принялся молить богов о возвращении нас всех в прежнее состояние: чтобы Ганнибал был Орлом, а я – крохотной пташкой из басни, греющейся в перьях у него на голове. Жизнь обещала мне, что я доживу до глубокой старости, стану знаменитым и уважаемым. «Только не такой ценой!» – в злобном смятении всхлипывал я. Всё и вся казалось мне настолько страшным, ужасным, душераздирающим, что я молил богов даровать мне более приемлемую для человека реальность.
В ответ на мою молитву мне была тут же нарисована иная картина: прогуливающиеся люди, которые заняты беззаботными беседами, смеющиеся девушки, которые порхают в светлых аркадах, юноши с крепкими обнажёнными телами, которые участвуют в мирных состязаниях, сидящая в амфитеатре публика, которая, затаив дыхание, следит за перипетиями трагедии. Я попытался также призвать к себе всё самое светлое, лёгкое и свободное: мелодию лиры и благозвучие поэзии, состояние мира и нежной влюблённости, спокойный голос разума и чистые откровения мудрости, чувство отдохновения после крепкого сна.
Моё общение с богами сошло на нет, ибо я отказался рисовать образы через сравнения и метафоры с их бесконечными «как» и «подобно». Я снова предался своим страхам, пока, обессиленный, не задремал. Пробудившись, я понял, что жизнь – это болезнь, а сон – лекарство; но единственное средство для излечения свирепой болезни под названием Жизнь есть смерть.
Вот как было дело ещё вчера.
Сегодня меня не испугать ничем. Бьющая через край энергия коней наполнила всё вокруг необыкновенной бодростью и блаженной жаждой жизни. Кто это не хочет жить, когда ему показывают такие зрелища?! Кто это недавно хныкал: дескать, смотреть на жизнь слишком мучительно, нужно чем-то занимать и отвлекать себя, поменьше думать, ни в коем случае не пытаться разобраться в себе. Кто всё это пищал? Только не сегодняшний Йадамилк! И кто бы вы думали сваливается на меня в этот миг? Конечно же Ганнибал! Ганнибал-Победитель, который, проезжая мимо, на полном скаку кричит мне:
– Выкачай из норманна всё, что он знает, Йадамилк.
– Больно трудно выкачивать! – кричу я в ответ.
– Не сдавайся, – доносится до меня. – Завтра утром он мне может пригодиться.
– Как собаке пятая нога! – хнычу я, задыхаясь от досады и отвращения.
Неужели мне никогда не отделаться от этого торгаша? Неужели настоящему Орлу в самом деле интересна сия норманнская муха? Схватив хлюпика за руку, я волоку его обратно в палатку. Он тут же усаживается на свой набитый отблесками мешок.
Я живу в пустоте, среди всеобщего непонимания. Ох, как трудно быть ненайденным сокровищем! До меня доносятся шаги, они приближаются; я слышу и голоса, они тоже приближаются; потребность в сокровище вопиющая. Сокровище хочет закричать: «Я здесь!» Но кричать нельзя. Как бы ни велика была потребность в нём, оно принуждено молчать. Люди сами должны найти и оценить сокровище. Нет-нет, сокровищу ни в коем случае нельзя подавать голос, кричать о своей ценности. Так же обходятся в этом мире и с поэтом. Сие двуногое сокровище высмеют, если оно попытается заявить о себе. Восхищение эпосом не распространяется на его автора!
Ганнибал совершенно не понял меня. Он не понимает, что значит носить в себе созревающий эпос. У эпика происходит смещение горизонта, его поле зрения всё время меняется, поэтому он утрачивает дальнозоркость и вынужден смотреть с точки зрения попавшего в новую обстановку ребёнка. Кроме того, поэту приходится бессчётное число раз возвращаться к одному и тому же. Что я видел тогда, что вижу теперь? Будь проклята забывчивость! Забывчивость – серьёзный порок, можно сказать, слепота! А ведь бывает ещё занудливость, которая заставляет эпика зацикливаться на каких-то подробностях, лишь много позже обнаруживая их незначительность и эфемерность. Каждая стихотворная строка течёт и извивается. Каждое слово живёт и пульсирует. За спиной у эпика остаются затопленные пространства, впереди встают всё новые и новые языковые возможности. Почему бы иногда не разбивать гексаметр ямбом?
Сочинять эпос – всё равно что плыть из Карфагена в Новый Карфаген. На пути туда тебя подстерегают смерчи, которые не только не спешат утихомириться, но налетают со всех сторон, пытаясь засосать корабль в свою воронку. Эпик, совершенно на это не рассчитывая, может оказаться между двух столпов, его может занести туда, где до него не прокладывал путь среди букв и слов ни один кормчий, занести в околоплодные воды, из которых появляется на свет живой язык – среди сонма мертворождённых детищ, лишь будоражащих поверхность чувственного мира, но так и не вырастающих ни во что дельное.
Поэт перемежает своё плавание с полётом. Он снова и снова падает, сменяя крылья на парус, и взмывает ввысь, всё выше, всё круче, всё дальше.








