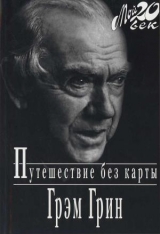
Текст книги "Путешествие без карты"
Автор книги: Грэм Грин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 32 страниц)
Кактусы стояли группками, как люди с воткнутыми в прическу перьями; казалось, что, склонясь друг к другу, они шептали на ухо что‑то очень важное, ни дать ни взять отшельники, пришедшие в унылую скалистую пустыню по неотложному делу и даже не поднявшие глаза на проходивший мимо поезд. Дороги расстилались, как на карте, и видно было, что вдали они змеились тоненькими ниточками, теряясь где‑то между кактусами и утесами. В кактусах не было ничего красивого – какая‑то нехитрая стенографическая закорючка для слов «бесплодие» и «засуха»; вы понимали, что они не столько следствие, сколько причина этой суши: вобрав в себя всю влагу, бывшую в земле, они ее хранили, как верблюды, в своих зеленых, древних, переборчатых желудках. Порою с краю у растений вспыхивал цветок, напоминавший тлеющий конец сигары, но и тогда они не становились краше, ибо его ненатуральный, едкий красный цвет похож был на глазурь дешевого пирожного, из тех, что оставляешь на тарелке недоеденным. Только закатный свет сообщал этой окаменевшей кактусовой пустоши какую‑то очеловеченную, ласковую прелесть, какой‑то бледнозолотистый ореол и ощущение трогательности, словно вы на короткое мгновение могли увидеть мир всепроникающим, как у анатома, и милующим взглядом творца.
Штат Нуэво – Леон устало завершался где‑то между кактусами и камнями, и дальше начинался Сан – Луис – Потоси. Сейчас, когда я пишу эти строки, в горах ведется партизанская война, позавчера мятежники взорвали поезд, и их главу, генерала Сатурнино Седильо, преследуют по пятам, гоняя меж орлиных гнезд с одной горной площадки на другую. По приказанию цензуры газеты хранят молчание об этом (кто знает, какова судьба наших друзей?). С тех пор как я там был несколько месяцев назад, все полностью преобразилось, и то, что я тогда увидел, стало уже достоянием истории.
В начале марта 1938 года, когда я путешествовал по тем местам, Сан – Луис – Потоси представлял собой небольшой капиталистический островок на территории социалистической Мексики, которым управлял не столько губернатор штата, сколько генерал – индеец Седильо, живший на своем горном ранчо в Лас – Паломасе. На протяжении года шли разговоры о том, что в Мексике назревает восстание, которое возглавит генерал Седильо, он был из старых кадров Каррансы, тот самый человек, который одиннадцать лет назад подавил восстание в Халиско. Крещенный во младенчестве, он не был практикующим католиком, говорили, что у него очень набожная сестра, но главную причину, по которой в Сан – Луис – Потоси не проводились антиклерикальные законы, он привел в беседе с американским журналистом: «Сам я, может, и не признаю всю эту религию, но бедные ее любят, и я намерен позаботиться, чтобы им дали то, чего они желают». По какой‑то причине, скорее всего из‑за того, что в Сан – Луисе нет порядочных гостиниц, туристы здесь не останавливаются, а если останавливаются, то не более чем на ночь – довольно и одной ночи в грязном номере с неизбежным дохлым насекомым в качестве символа запустения и с запахом мочи из туалета. Как и мой друг – попутчик, они садятся в первый же утренний поезд и едут в Мехико. Прозвучавший на заре по гостиничному телефону старческий голос неожиданно пробудил во мне острое сожаление – ведь простодушие и доброта не так уж часто попадаются на этом свете. Его владелец выражал тревогу и озабоченность – он уезжал, а я тут оставался. Я успокаивал его как мог. «В Мехико вам наверняка попадется кто‑нибудь из Висконсина» – с этими словами я мрачно опустил на рычаг трубку.
В Сан – Луисе у меня оказалось много времени, даже больше, чем хотелось бы; правда, здесь было очень красиво – узкие, украшенные балконами улицы и ярко – розовые храмы на фоне горной синевы. Это город индустриальный, промышленность которого укрыта на окраинах, и город многострадальный, что постигается не сразу. Готовясь вечером ко сну, вы просто замечаете, что в кране нет воды; потом вам говорят, что в городе неважно с водоснабжением; на самом деле город мучается жаждой из– за того, что вся вода уходит на поля генерала Седильо, волю которого творят продажные городские заправилы. Здесь ничего не изменилось за прошедшие века: как встарь, приносятся даже кровавые ацтекские жертвоприношения – над духом Мексики довлеет ее возраст.
Вы отправляетесь в собор к мессе. Крестьяне в синих бумажных штанах, коленопреклоненные, стоят минута за минутой, раскинув руки в стороны, как на распятии. Старуха с трудом передвигается на коленях в сторону алтаря, другая распростерлась на полу, прижавшись лбом к камням. Долгий рабочий день окончился, но не окончились страдания. Здесь ощущался дух стигматов, и вы внезапно сознавали, что перед вами народ Божий и в этих немолодых, умученных работой людях с невежественными лицами заключено то лучшее, что есть в душе у человека. Натруженные в поле руки старика и через пять минут еще простерты в стороны, молоденькая девушка с ребенком на руках, терзаясь болью, идет по нефу на коленях, за нею в той же позе следует ее сестра, это печальное, медленное, маленькое шествие направляется к подножию креста. Казалось бы, сама их жизнь – сплошная мука, но, как святые, они взыскуют лишь одно блаженство, которое им доставляет еще больше боли.
Неподалеку от собора находился рынок – угрюмое местечко в час заката, такой скудости я не встречал даже в западноафриканском буше: чуть – чуть картофеля, чуть – чуть бобов, безвкусные по форме и по цвету плетеные корзины и гончарные изделия (туристов не было заметно – они могли приобрести точно такие же шедевры на Челси в магазинах фирмы «Котсуолд»), ужасные игрушки, украшения; подержанные пистолеты прикорнули между горок овощей – смерть можно было сторговать за несколько десятицентовиков. От пыли першило в горле. В тавернах было очень грязно и очень людно, какой‑то пьяный качался, опершись на кий. В центре на небольшом, свободном от людей пространстве выступал молодой клоун с размалеванным лицом и смоляными волосами индейца, в серой потрепанной ночной сорочке, по виду ему было лет пятнадцать. Он важно расхаживал перед своим диковинным, сюрреалистическим реквизитом: двумя мегафонами, бутылкой текилы, утыканной гвоздями доской, утюгом и маленькой жаровней, задубелым подошвам его ног не страшны были ни стальные острия, ни огонь – он продавал страдания за деньги, стяжал стигматы ярмарочного балагана. Представлению помогал маленький оркестр, улыбчивым мальчикам – музыкантам было лет по четырнадцати от роду.
Я прошел немного дальше и очутился перед построенным в семнадцатом веке Темпло – дель – Кармен, коричневый фасад которого был щедро изукрашен скульптурными изображениями и цветами работы резчиков – индейцев. Если вы пристально вглядывались в каменные изваяния, они казались издавна знакомыми бородатыми европейскими пророками с самодовольными лицами и с прижатой к сердцу Библией, но стоило вам отойти немного в сторону, и это уже были не христиане, а индейцы, то было торжество неистовой материи над духом, и каменная плоть, бурля, вздымалась к небесам.
На балконах административных зданий целыми днями стояли отцы города. Со времени моего мексиканского путешествия балконы для меня неотделимы от официальных лиц – пузатых мужчин с сизо – небритыми щеками, в широкополых шляпах и с оружием на боку. Во всех городах Мексики они с утра до вечера торчали на своих балконах и вглядывались в даль, где, судя по их лицам, им открывалось что‑то высшее.
Воскресный визитВ воскресенье я был в гостях у шотландки, которая в течение многих лет, с тех пор как потеряла ферму в одной из революций, владеет магазином – над ним мы и сидели. Независимая, откровенная женщина, протестантка по вероисповеданию, она была оплотом здравомыслия в этой стихии дикого, изменчивого фанатизма. Она всему дала свою оценку, досталось по заслугам и Седильо; она была резка, мужественна, грубовата и пряма, словно шотландский переулок. С лестницы доносился запах хорошего кофе, который продавался в магазине; после занятий теннисом в Американском клубе вернулась ее дочь. Но за столом все так же пустовало место – тот, для кого оно предназначалось, пришел под самый конец трапезы.
С., поздний гость, был выходцем из Англии, появившимся на свет в Мексике, и по – английски говорил с испано – американским акцентом. Худой, темноволосый, какой‑то весь лоснящийся, он был учтив чрезмерною учтивостью провинциала и принадлежал к тем людям, которых избегаешь на приемах. Он стал нам объяснять, что его вынудило задержаться: пришлось кружным путем ехать из Мехико, его предупредили, что под Керетаро неспокойно из‑за революционеров (этим эвфемизмом заменяют в Мексике слово «бандит»), только вчера его приятеля обчистили до нитки, отняли деньги и одежду. Его речь отличалась педантичной правильностью слога. То была светская беседа по – мексикански.
Позже, когда мы пили кофе, в его речах уже проскальзывала горечь. Он был сыном богатого человека, владевшего огромными земельными наделами в Морелосе. Отец послал его учиться в Англию, но землю отобрали, отец вызвал его домой и умер. Теперь он работал в горнодобывающей промышленности и о свержении Диаса говорил как о кровоточащей ране (такие люди есть повсюду в Мексике, это хозяева гостиниц, старые дамы, интеллигенция, все они помнят Диаса, чьим единственным недостатком было, наверное, то, что он не думал о бедных, которые теперь не думают о нем). Он ненавидел Мексику изысканно – бессильной ненавистью пресмыкающегося, но был прикован к ней, как каторжник, – его знание горного дела больше нигде не требовалось.
И вдруг за этим чувством обделенности, за тщательным обдумыванием слов что‑то послышалось иное, как будто распахнулась дверь в какие‑то лишь Богу ведомые тайники отваги и привязанности к жизни, открылось то, что он на свой ужинно – горький лад назвал «умением переносить несчастья». В 1927 году его и еще одного молодого американца, работавшего с ним на руднике, похитили мятежники, чтобы назначить выкуп. Сам он ожидал чего‑либо подобного, 1 но молодой американец не верил в существование бандитов, считал, что похищения бывают лишь в кино или в романах, уж слишком это «надуманно». С. все пугал этого юношу, обманывал, будто пришли бандиты. Тот в первый раз поверил розыгрышу, но больше уже никогда не поддавался. А потом они и в самом деле пришли. У С. оставалось несколько минут на то, чтобы предупредить приятеля, когда бандиты въехали в подворье, и он все силился поднять его с постели. 1 «Отстань, – отмахивался тот, – я все равно не испугаюсь». Но похитители уже ворвались в комнату и стали искать деньги, а денег не было. Тогда они швырнули узников к стене. «Я думал, что они нас сразу расстреляют. Но вы бы поглядели налицо американца! Я хохотал как бешеный. А что мне оставалось делать?»
Я ему поверил. Он слишком много потерял, чтоб сокрушаться: не раз встречал я в Мексике таких людей, как он, испанцев, иностранцев, лишившихся всего, кроме отчаяния, а у отчаяния есть собственное чувство юмора и собственное мужество. Должно быть, смех тогда и спас их – наверное, невозможно выстрелить в смеющегося человека, убийце нужно ощущать всю важность своей роли. И петушиные бои идут поэтому в сопровождении оркестра, и зрители туда приходят, приодевшись: в широкополых шляпах, в узких брюках. Бандиты отвезли их в горы и запросили выкуп в двадцать тысяч американских долларов. Четыре дня им не давали пить и есть, привязывали к лошадиному хвосту и волокли из одного укрытия в другое, избивали… В конце концов компания их выкупила за четырнадцать тысяч долларов, после чего их выбросили на какой‑то поросшей кустарником пустоши в двадцати пяти милях от дома.
– Кто вас похитил?
– Кристеро.
Значит, то были католики, восставшие против Кальеса. Типичное явление для Мексики, да и, пожалуй, для всего людского рода: во имя идеалов применяется насилие, потом идеалы испаряются, а насилие остается.
Петушиный бойВ воскресный полдень на арене для корриды давали представление родео, но для хорошей труппы в казне у штата не сыскалось средств. Щедро украшенные места для почетных гостей были пусты. Казалось, в Сан – Луисе все делалось вполсилы, и город жил, косясь все время на дорогу в Лас – Паломас (но и при косоглазии нетрудно было многое приметить: проехала машина губернатора Техаса, которого почтили праздничным обедом, промчался в горы распаленный, покрытый пылью и набитый деньгами американец, и даже главный шпион ничтожного, гонимого Родригеса тащился в ту же сторону), все совершалось здесь под знаком близившегося мятежа.
Для боя были отобраны два петуха. Мужчины в вышитых огромных шляпах – величиною с колесо телеги – и в узких полотняных брюках, с пухлыми лицами и мягким взглядом теноров, похожие на персонажей голливудской оперетки с участием Джона Боула, смотрели из‑за загородки. Словно прицениваясь на базаре, они ощупывали петухов и запускали пальцы глубоко под перья; затем прогарцевал кортеж наездников, сопровождавший скрипачей в пестро – клетчатых пледах. Став тесной группкой, как будто для того, чтоб побеседовать друг с другом, и вроде бы не замечая окружающих, они запели что– то протяжное и грустное об увядающих цветочках под тихое повизгивание скрипок. Двое мужчин достали из пунцовых кожаных ларцов необычайной красоты по паре маленьких блестящих шпор и стали алыми бечевками привязывать их к лапам петухов очень неспешно и сосредоточенно. Но это пение и шествие людей и лошадей были всего лишь прелюдией к кровавой суете, готовившейся на песке арены, к боли, увиденной в далекой перспективе, к смерти, разыгранной в миниатюре.
Смерть требует определенных ритуалов. В надежде приручить ее люди придумывают собственные правила, которые необходимо соблюдать: не разрешается бомбить не защищающийся город, и тот, кто получает вызов на дуэль, имеет право выбрать род оружия… В песке были прочерчены три линии – в смерть тут играли, словно в теннис. Кричали петухи, и духовой оркестр гремел на каменных сиденьях; ветер срывал песок и нес через арену, – здесь, среди гор, en sombre [23]23
В тени (исп.).
[Закрыть]было довольно зябко. И вдруг мне стала отвратительна вся эта пантомима, вся эта ложная торжественность по поводу того, что было так естественно, как отправление нужды: мы умираем точно так, как оправляемся, к чему же эти шляпы шириною с колесо, узкие брюки и духовая музыка? Пожалуй, в этот день я начал ненавидеть мексиканцев. Сначала петухов придвинули друг к другу, чтобы они соприкоснулись клювами, потом их развели по внешним линиям, прочерченным в песке, и музыка замолкла. Но птицам не хотелось драться – смерть не желала выступать, и, повернувшись спинами друг к другу, они заковыляли в разные стороны, переставляя лапы, словно на ходулях, из‑за привязанных к ним шпор, но вскоре замерли, поглядывая равнодушно на улюлюкавших, свистевших зрителей, высмеивавших их, как робких или невезучих матадоров.
Их отливавшие металлом клювы вновь свели, как будто для того, чтоб высечь электрическую искру из обнаженных проводов. На сей раз это помогло; их отпустили, и, немедленно порхнув в свободное пространство, они сошлись, чтоб за минуту все окончилось. Заранее было ясно, кто выйдет победителем из этого сражения, – крупный зеленый петух, взмывавший над противником и прижимавший его к песку, точно пушинку, топорщился, словно гигантский ерш. Щуплый свалился оземь и притих, последовал зловещий удар в глаз, в другой, еще, еще, и все было окончено. Мертвую птицу подняли за лапы и подержали так, пока не показалась кровь из клюва, полившаяся узкой, черной струйкой, как из отверстия воронки. Вскочив на каменные скамьи, дети, ликуя, наблюдали за происходившим. День был холодный, начал накрапывать дождь, родео было хуже некуда, актеры всякий раз промазывали, метя в лошадей, и, так как смерть все досмотрели до конца, делать здесь больше было нечего: грянула музыка, и оркестранты кое‑как исполнили финал. Неподалеку, у казармы, маршировали взад – вперед солдаты, поодаль возвышалась церковь Гуадалупской Божьей Матери, и дальше в этом же ряду была тюрьма; гремел трамвай, спешивший в город, и раздавался барабанный бой.
Когда спустилась темнота, я пошел в Темпло – дель– Кармен, чтоб получить благословение. Для чужестранца вроде меня это было как возвращение домой, там говорили на родном мне языке: «Ora pro nobis» [24]24
«Моли Бога о нас» (лат.). – Из Литании Богородице.
[Закрыть]. Над алтарем на поразительно серебряном, похожем на капусту облаке сидела Божья Матерь с Младенцем на руках; в стеклянных гробницах, выстроившихся вдоль стен, стояли ужасающие статуи в заплесневелых мантиях. Но все же это был мой дом, тут все было понятно. С трудом переставляли ноги, утомленные работой, босые старики в хлопчатобумажных брюках, и я опять подумал: как можно им отказывать в аляповатой роскоши сусальной позолоты, в запахе ладана или в такой парящей в облаках, прекрасно – отдаленной, чистенькой фигуре? Горели свечи, но неожиданно зажегся венчик лампочек, изображавших нимб над головой Мадонны. Даже если бы это была выдумка и Бога бы не существовало, их жизнь была счастливее с этим далеким, неземным обетованием, оно им приносило больше радости, чем жалкие социальные реформы, крошечные пенсии и мебель, сработанная на заводах. Возле собора на обочине сидели группками индейцы и подкреплялись, свое нехитрое хозяйство они носили при себе, словно палатки, которые раскинуть можно всюду, где придется.
Я хотел увидеть генерала Сатурнино Седильо, которому город был обязан столь многими благами и бедами. Нельзя было напиться вдоволь, но можно было рассказать детям о Воскресении Христовом. «Католическое действие» располагало большими силами в Сан – Луисе, но следовать ему открыто нельзя было и здесь, за этим надзирал приставленный правительством чиновник, даже священника, организовавшего школы, полгода в них не допускали. Я сидел в Сан – Луисе, добиваясь встречи с Седильо, часами томился в муниципалитете и ожидал звонка из Лас – Паломаса, отвечал на бесконечные вопросы чиновников, твердил, что не намерен просить денег и никому в Мексике не расскажу о состоявшемся свидании, пока в конце концов не получил нехотя данное согласие на встречу с генералом по прошествии пяти дней; тем временем священник познакомил меня с некоторыми плодами своей деятельности. То была революция, совершаемая в духе Нагорной проповеди, измена – творимая под видом обучения семейному бюджету. Мы шли по розовому, узкому и длинному проулку, где были птичьи клетки и лежали дыни, пока не очутились перед дверью, за которой был огромный двор: гораздо больший, чем могло вам показаться с улицы. В маленьких классных комнатах, замыкавших его со всех сторон, девочки занимались шитьем и обучались кулинарному искусству, в одном из классов старшеклассниц приобщали к апологетике. Центральная дверь вела в большую залу, величиной с церковное пространство, свод опирался на четыре древние, массивные колонны. Здесь шел еженедельный урок Закона Божьего для девочек из бедных семей и служанок. Священник обращался с ними ласково, много шутил – тут были катакомбы, где им преподавали самые опасные предметы: учили их любви и скромности. Священник был интеллигентом, доктором философии, получившим степень в Европе, но война облегчила взаимопонимание людей разных умственных горизонтов: все вместе это очень походило на обход окопов командиром, которому солдаты преданы душой и телом. А где‑то в городе за ними наблюдал чиновник – они ведь нарушали конституцию, и это здание могли конфисковать. Священник говорил очень спокойно, ни разу не повысив голос, – он излучал великую уверенность, великую любовь. И тотчас вспоминались политические лидеры с сине – небритыми щеками и пистолетами на бедрах, руководители страны, не покидавшие балконов и думавшие только о наживе, напрочь лишенные какого бы то ни было чувства ответственности. Сидевшие здесь девочки должны были сегодня же вернуться на свою постылую работу, но у них был заслуживавший доверия наставник, они были не одни. Мы прошли дальше – в школу для рабочих, это была одна большая комната, поделенная на классы, предназначавшиеся для всех возрастов: и для детей, и для взрослых. Отцы сидели бок о бок с сыновьями, учились грамоте, счету и начаткам социологии по энцикликам, изобличавшим капитализм и коммунизм. Учительницами были женщины, имевшие правительственное разрешение на преподавание, их католическая вера была тайной.
А в мире за стенами школы царила безответственность, волнами расходившаяся по округе, где убегали вдаль дороги беззакония с повернутым не в ту сторону дорожным указателем и где пустыня наступала на луга и пашни. И дело было не в засевшем в Лас – Паломасе генерале Седильо, который орошал свои поля, не думая о целом штате, и защищал религию лишь потому, что его люди были верующими, хотя он сам не верил ни во что и волновался лишь об урожае и о женщинах, не в человеке, о котором ходили в Сан – Луисе десятки темных слухов, поборнике католицизма, которого ни в грош не ставил ни один католик, капиталисте, которому не верил ни один капиталист. То был не просто генерал – индеец из одного глухого штата отсталой страны, а целый мир. Я не забыл игру, называвшуюся «Монополия», в которую играли дома, в Англии, с игральной костью и жетонами, не забыл пятнадцатилетнюю девочку, которая легла под поезд, – таков был мир, где политические заправилы стояли на балконах, где землю продавали под строительство, чтоб на ее израненной поверхности плодились маленькие виллы с подобными гробницам гаражами.






