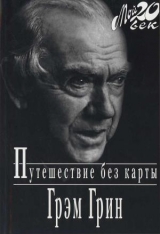
Текст книги "Путешествие без карты"
Автор книги: Грэм Грин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 32 страниц)
Часть вторая
Глава вторая. Его превосходительство господин президентМарк разбудил меня в пять часов утра, скребя рукой о проволочную москитную сетку. Я послал его вперед вместе с носильщиком Ама из племени мандинго предупредить вождя в Кпангбламаи о нашем приходе и о том, что нам понадобятся кров и пища на тридцать человек; я просил также известить вождя в Пандемаи о том, что мы передумали и туда не придем. Ама взял мой чемодан и зашагал по тропинке в деревню. Он знал, что уходит из дому на несколько недель, но все его пожитки были увязаны в тряпку величиной с большой носовой платок.
Мы тронулись в половине восьмого. Длинная цепочка носильщиков потянулась с пригорка, на котором стояла миссия, и скрылась внизу в тумане. Старшина Ванде отлучился в деревню: он пошел попрощаться с женой. Одет он был в широкую рубаху и трусы, голову прикрывала суконная шапочка. Сам Ванде шел без груза, даже его собственный узелок нес младший брат, которого он взял с собой на несколько дней. Ванде как нельзя больше напоминал английского десятника – веселого, нетребовательного, попыхивающего своей трубкой. Когда он не курил, он потряхивал трещоткой, сделанной из двух маленьких тыкв, куда были насыпаны зерна. Он шел в хвосте колонны, и, если кто‑нибудь из носильщиков выбивался из сил и должен был отдохнуть, он оставался с ним.
Целую милю по широкой утоптанной дороге на Колахун рядом с нами бежал вприпрыжку какой‑то малыш. Он был не выше двух футов, в одной руке он держал пустую жестянку из‑под консервированной колбасы, в другой – пустую жестянку из‑под сгущенного молока. Его гнали домой, но он не слушался; чтобы не отстать, ему приходилось бежать, но он не отставал. Ему хотелось пойти с отцом. Вдоль колонны прокатились смех и крики, отец наконец услышал, остановился и велел малышу вернуться домой. Цепочка прошла мимо и исчезла; они остались одни – маленький ребенок, надутый, огорченный, упрямый, и отец, повторяющий слово «домой». Наконец ушел и отец, но ребенок не двигался с места.
К прибытию президента глинистую дорогу расчистили: деревья по обочинам срубили, а стволы сбросили в глубокие, поросшие пальмами овраги. Густой туман низко висел между холмами, и определить расстояние до опушки леса было невозможно. Дорогу перебежал олень – небольшой коричневый олень, каких можно увидеть в любом английском парке, обыкновенный олень, а не королевская антилопа, встретить которую в наши дни в Либерии редкая удача для путешественника: размером она не больше кролика, дюймов десять в высоту, если не считать стройных ног, а рожки у нее не длиннее дюйма. Пока держался туман, шагать было хорошо, но все тенистые деревья вырубили, и я торопился оставить эту дорогу позади до того, как солнце достигнет зенита. В половине десятого мы пришли в Колахун, где дорога кончалась и находилась резиденция Ривса.
Мне пришло в голову, что, хотя президент, как мне сообщили, и отправился дальше, а Ривс, по – видимому, его сопровождает, было бы все же разумно справиться, нет ли здесь окружного комиссара. Поселок опустел; триумфальные арки из зеленых ветвей, воздвигнутые к прибытию президента, покрылись пылью, листья увяли. В стороне от хижин на огороженном участке стоял одинокий двухэтажный каменный дом, перед ним на шесте развевался флаг со звездой и продольными полосами. Это и был тот дом, который, по слухам, строился при помощи принудительного труда. Второй этаж придавал ему внушительный вид; он высился над поселком, словно не спуская с него глаз и зная все, что происходит вокруг; да, нашему длинному каравану было бы неразумно пытаться пройти стороной – дом все равно бы нас заметил.
Кругом было очень тихо, тишина стояла совсем воскресная; ни один человек не вышел из хижины, чтобы на нас поглазеть, и это выглядело странно – словно враг опустошил весь поселок; но когда мы подошли поближе, я увидел десяток солдат в алых фесках с золотой звездой, маршировавших за оградой. В другом конце поселка на пригорке стояло нечто вроде беседки, и там тоже мелькала алая феска. Из‑за ограды вышел нам навстречу маленький мулат с желтым лицом в черной феске. Да, подтвердил он, окружной комиссар здесь; и он тут же провел меня и двоюродного брата мимо часовых за ограду, оставив носильщиков и слуг снаружи. У меня сложилось впечатление, что нас ожидали; да и как могло быть иначе, ведь из окон второго этажа всегда кто‑нибудь следил за дорогой.
Откуда‑то слышались звуки патефона; по двору разносился голос Жозефины Бейкер [48]48
Известная негритянская эстрадная певица и танцовщица.
[Закрыть], проникнутый забавной и слегка наигранной печалью. На миг все вокруг сделалось каким‑то призрачным – и сидевшие в дорожной пыли носильщики, и замершие в тишине хижины, и уходивший за горизонт лес превратились просто в декорацию для обольстительной эстрадной дивы. Уже не верилось даже в реальность мистера Ривса, который, точно злодей в мелодраме, появился вдруг из‑за кулис в алой феске и длинном, до пят, балахоне; его густые черные бакенбарды, серая, точно дубленая, кожа и чувственный рот были словно взяты напрокат из парижского мюзик – холла. Но вот кто‑то наверху остановил патефон, и щеголеватый черный офицер маленького роста в блестевших, как зеркало, крагах избавил нас от мрачного общества мистера Ривса.
– Вас просят подняться наверх, – сказал он. – Президент сейчас примет вас.
Этого мы никак не ожидали. Я не просил свидания с президентом, полагая, что он находится в другом районе, и поневоле был немного огорошен. Костюм мой состоял из рубашки и трусов. На боку висела фляга; особенно смущала меня пыль, которой мы были покрыты с ног до головы; я вспоминал рассказы о правителях Либерии, о том, как они любят заставлять белых подолгу дожидаться у них в приемной и требуют, чтобы посетитель был одет как подобает.
Нас усадили в маленькой комнате верхнего этажа, и какой‑то военный с револьверной кобурой у пояса поставил новую патефонную пластинку. На столе лежал роман Эдит Оливье «Кровь карлика». Черный офицер был щеголеват, изысканно вежлив, чрезвычайно внимателен; он напоминал фарфоровую статуэтку, с которой тщательно смахнули пыль. Не прошло и нескольких минут, как вошла молодая женщина в европейском платье, похожая скорее на китаянку, чем на африканку: у нее был косой разрез глаз и лицо, полное глубокого внутреннего покоя. Офицер представил ее как «одну из спутниц президента», а она не сказала ни слова, села возле патефона, взяла со стола колоду карт и принялась ее тасовать. Позднее я узнал, что отец ее был назначен членом Верховного суда; как видно, на либерийском Берегу царят нравы, господствовавшие при дворе Стюартов в Англии.
Она была самым очаровательным созданием, какое мне довелось видеть в Либерии; я не мог оторвать от нее глаз. Мне хотелось с ней заговорить, сказать, как приятно видеть ее в этом опустевшем, опаленном зноем поселке. Голос Жозефины Бейкер – когда он оборвался, военный сменил пластинку – не мог с ней соперничать. Девушка была, как внезапное откровение, – вот такой могла стать Африка, если бы ей предоставили самой выбирать в Европе то, что действительно могло ее украсить; страна обещала нечто большее, чем мертвая риторика американской Декларации независимости. Я так и не сказал этой девушке ни слова. («Очень жарко шагать в такую погоду», – заметил блестящий маленький офицер, чтобы поддержать светский разговор.) Мне довелось еще раз увидеть ее, но только издали – она стояла на балконе президентского дворца в Монровии, глядя на то, как негры кру демонстрируют свою преданность режиму; но она как живая сохранилась в моей памяти – одно из тех воспоминаний, которые долго влекут нас в давно покинутые места.
Тут вошел президент – человек средних лет по фамилии Барклей с седеющими курчавыми волосами, в темном шерстяном костюме и дешевой полосатой рубашке с мятым цветным галстуком, заколотым булавкой. Живое олицетворение Африки, полное очарования и покоя, выскользнуло из комнаты, и мы остались наедине с Вест – Индией, с ее любезными манерами и красноречием – целыми потоками красноречия. Президенту нельзя было отказать в энергии – он был политиком американской школы, но у меня сложилось твердое убеждение, что на африканском Берегу он нечто чужеродное. Он вел свою собственную игру, но, правда, играл с таким необычайным рвением, что и республике могли перепасть кое– какие крохи с его стола. Я спросил его, пользуется ли он такими же прерогативами, как президент Соединенных Штатов Америки. Он ответил, что его прерогативы шире.
– Раз уж меня выбрали, – сказал он, – и раз я командую парадом, – слова из него так и сыпались, и сквозь выспренние политические сентенции все время проглядывало какое‑то простодушное ребяческое хвастовство, – стало быть, теперь я здесь самый главный хозяин.
Деятельность либерийских политиков похожа на игру краплеными картами. Но в прошлом полагалось, сорвав куш, передать колоду партнеру. Существовало нечто вроде неписаного закона, согласно которому президент мог избираться на два срока, после чего должен был уступить свое место за пиршественным столом другому. Именно уступить: ведь, как совершенно точно выразился мистер Барклей, президент здесь главный хозяин, в его руках находятся газеты, и, что самое важное, он печатает и распространяет избирательные бюллетени. Когда в 1928 году переизбрали президента Кинга, он получил на шестьсот тысяч голосов больше, чем его противник Фолкнер, хотя общее число лиц, пользующихся избирательным правом, не превышало пятнадцати тысяч. Теперь мистер Барклей решил изменить старые порядки. В глазах своих противников он вел нечестную игру; он относился к политике всерьез и может с некоторым основанием называть себя первым диктатором Либерии. До сих пор президент избирался на четыре года; мистер Барклей приурочил к очередным президентским выборам плебисцит, предлагая увеличить этот срок до восьми лет. Для того чтобы провести свое предложение, он мог использовать те же средства, какие должно было обеспечить ему баснословное большинство, ведь печатный станок находился в его ведении. В его распоряжении находилась и армия чиновников. Сверкая очками в золотой оправе и сияя доброжелательством, он объяснял мне, как очистил государственный аппарат и освободил его от влияния политиканов, как при заполнении вакансий заменил назначения экзаменами. Но он забыл упомянуть, что веревочка, которая приводила все в движение, по – прежнему оставалась у него в руках. Если кандидатуры признавались равноценными (а это совсем нетрудно устроить), право выбора кандидата было за президентом.
Все же нельзя не признать, что этот человек обладал силой воли и смелостью. До него ни один президент не отваживался на путешествие в глубь страны. Кинг совершил свой стремительный переход от границы Сьерра – Леоне под охраной двухсот солдат, но президента Барклея сопровождало всего каких‑нибудь тридцать человек. Сейчас я мог их пересчитать – почти все они маршировали взад и вперед перед домом. Конечно, со времен мистера Кинга полковник Дэвис успел обезоружить племена, у них осталось всего по нескольку винтовок в каждом крупном поселке, но в мечах, копьях и кинжалах все еще недостатка не было.
Правда, президент не засиживался на одном месте. Он передвигался очень быстро, форсированным маршем появляясь там, где его не ждали, и наспех знакомился с обстановкой. Как я уже говорил, жители Болахуна не питали надежды, что Ривса когда‑либо призовут к ответу. Их опасения оправдались; позже я узнал, что местные вожди, которых подкупили или запугали, не подали президенту никаких жалоб. Президент смог так же быстро вернуться в Монровию, как он оттуда прибыл. Он объявил, что население повсюду принимало его с восторгом, но ведь устроить пляски нетрудно, да и возвести триумфальные арки из ветвей и рассыпать белый порошок тоже не слишком хлопотно. Мне ни разу не случилось встретить в глубине Либерии ни одного человека, который сказал бы доброе слово о столичных политических деятелях. Если люди отдавали предпочтение тому, а не другому президенту, так это просто потому, что им лучше жилось при одном комиссаре, чем при другом.
Но даже при самом худшем черном комиссаре им не приходилось терпеть того, что терпело население Французской Западной Африки при белых комиссарах. К тому же в этой первобытной, не знающей карт стране двадцать миль расстояния до резиденции комиссара порой равнялись пятидесяти годам жизни. Жителей предоставляли самим себе вместе с их «дьяволами», тайными обществами и всевозможными страхами, их предоставляли патриархальному гнету вождей. В их дела не вмешивались так, как вмешивались в дела населения любой белой колонии, и, право, это было к лучшему: разве можно сравнить «непросвещенных» негров из племени бузи, шагавших с гордой осанкой в своих длинных балахонах по узким лесным тропам, придерживая у пояса меч с рукояткой из слоновой кости, разве можно их сравнить с англизированными «просвещенными» черными из Сьерра – Леоне, в военной форме, полосатых рубашках и грязных тропических шлемах! В племени бузи каждый глава семейства имел свой меч (он брал его с собой всякий раз, покидая деревню) и каждый юноша имел кинжал; в простейшем орудии труда земледельца – ноже с широким лезвием в красивых кожаных ножнах – было что‑то рыцарское, свидетельствовавшее о более древней цивилизации, чем та, которая породила обитые жестью бараки на Берегу. Даже самые бедные племена – гио и мано, соседи бузи, – даже и они, с набедренными повязками и изъеденным язвами телом, были в своих лесах заброшены не больше, чем жители британского протектората, опекаемые одним – единственным санитарным инспектором.
Часть третья
Глава первая. МиссияНикто не сумел так прочно внушить людям представление о ханже – священнике, подавившем в себе всякие человеческие чувства, как Сомерсет Моэм. Когда‑то «Открытое письмо» Стивенсона подарило нам отца Дамьена, но «Ливень» навсегда запечатлел для нас образ миссионера мистера Дэвидсона, который говорил о своей работе на островах Тихого океана: «Когда мы туда приехали, у людей совершенно не было чувства греха. Они нарушали все заповеди подряд, не подозревая, что творят зло. И самое трудное в моей работе, как мне кажется, было внушить туземцам чувство греха». Это был тот самый мистер Дэвидсон, который сошелся с проституткой Сэди Томпсон, а потом покончил с собой.
Я помню, что в школе мне трудно было примирить это общепринятое представление о миссионерах с худыми, усталыми людьми, которые, стоя на кафедре, постукивали указкой, в то время как по экрану скользили тощие тела черных детишек. Они казались мне куда менее библейскими, чем мистер Дэвидсон; их, по – видимому, больше волновало получение нескольких шиллингов на содержание своей уродливой, обитой жестью церквушки, которую, стараясь разжалобить нас, тоже показывали на экране, нежели чувство греха. Чувство греха гнездилось гораздо ближе – по эту сторону алтаря школьной церкви. Тут было сколько угодно и ханжества, и сластолюбия. Гости из Африки казались мне невинными младенцами по сравнению не только с моими учителями, но и с теми неграми, которых они просвещали. Они стояли там на кафедре, изможденные и обтрепанные, наивно упрашивая пожертвовать несколько шиллингов на новый покров для алтаря или серебряную дароносицу; мне не верилось, чтобы они причиняли так уж много вреда тайным Обществам аллигаторов и леопардов или могли растлить тех, кто тайком приносит детей в жертву огромному питону.
В Либерии я узнал другой тип миссионера. Не думаю, чтобы доктор Харли (врач и методистский миссионер) был единственным в своем роде на всю Африку. Этот человек, измотанный душой и телом после десяти лет подвижнического труда, выпускал гной из раздутых, воспаленных половых органов, делал прививки от фрамбезии, смазывал язвы, принимал подвести больных венерическими болезнями в неделю. Он обосновался в этом уголке Либерии со своей женой и двумя детьми – странными желтолицыми маленькими старичками; третьего ребенка он похоронил здесь же, в миссии [49]49
Теперь, в 1946 году, доктор Харли уж отработал больше 20 лет в Ганте. – Прим. автора.
[Закрыть].
Слухи о докторе Харли доносились до меня, когда я шел вдоль границы Либерии; это был человек, который больше всех знал о тайных лесных братствах; редкие часы, которые у него оставались от упорной безнадежной борьбы с болезнями, он посвящал исследованиям в этой области. Но он старался не разговаривать о них в присутствии своих слуг из страха, что его отравят.
Нам приготовили жилье в ста ярдах от миссии, оно показалось нам просто дворцом; это был деревянный домик с железной крышей, на высоком фундаменте, предохраняющем от нашествия муравьев. В другой половине дома помещалась аптека, а прямо под окнами больница на открытом воздухе: длинные деревянные скамьи под тростниковым навесом. Лес подступал сзади, словно больничный сад. Ганта меня испугала: тут пахло лекарствами, болезнями и смертью. Мы как‑то незаметно спустились с плоскогорья в низину, и воздух был здесь совсем другой – тяжелый и сырой. Кругом росли пальмы, земля казалась пропитанной влагой, повсюду были нечистоты и роились тучи мух. Никогда бы не поверил, что за один день пути климат может так измениться. Перемена сразу же сказалась на моем самочувствии: я совсем обессилел, вечером мне было трудно дойти до миссионерского дома, куда нас пригласили поужинать; желудок сразу же перестал действовать.
Ужин, помню, прошел невесело. Доктора Харли целый день не было дома, от усталости он дремал за столом; к тому же это был день рождения покойного ребенка. Когда доктор услышал, что я прошел весь путь от Сьерра – Леоне, не пользуясь гамаком, он обозвал меня сумасшедшим; он только что отправил в последний путь тело доктора Д., который прошел пешком сравнительно немного – из Монровии. В этом климате опасно долго ходить пешком. Я старался навести разговор на лесные братства, но он упорно от него уклонялся. Он сказал, что Сино, куда мы намеревались попасть, находится отсюда не меньше чем в четырех неделях пути. При этом известии боль в желудке, которую я чувствовал уже несколько дней, стала еще острее. Я бы не возражал против того, чтобы прожить на одном месте хоть несколько месяцев, но мысль, что еще целые четыре недели придется терпеть физические лишения, вставать чуть свет и шагать по шесть или семь часов сквозь эти чудовищно однообразные заросли, казалась мне невыносимой.
По дороге домой я вдруг вспомнил, что мы уже два дня не принимали хинин. Крысы добрались до наших головных щеток и погрызли щетину. Они бегали в моей комнате по стене вдоль крыши, не дожидаясь даже, покуда я погашу свет. Я принял горсть английской соли, разведя ее в теплой кипяченой воде, которая все время капала из фильтра, и стал следить за тем, как крысы прячутся в узкую щель у меня над головой. На крыс мне теперь уже было наплевать (монахини из Болахуна оказались правы); зато я испытывал такой же страх, как тогда в Англии, когда вдруг выяснилось, что моя затея с поездкой в Либерию увенчалась успехом и отступать уже поздно. Помню, я тогда думал: «Через три недели я буду там…»; «там» означало длинный список болезней. Я не испытывал никакой радости, я был просто испуган. И сколько бы я себя ни утешал: «Ладно, не буду пытаться дойти до Сино», я знал, что у меня не хватит мужества двинуться прямо на Монровию. Когда я погасил фонарь, крысы стали прыгать с потолка вниз, но крыс я больше не боялся. Я открывал в себе то, чем, казалось, никогда не обладал: любовь к жизни.
Естественно, что при свете дня я почувствовал себя лучше; трудно уверовать в смерть до захода солнца. Однако четыре недели ходьбы до Сино казались мне не под силу, а у нас теперь люди были наперечет, и я не мог пользоваться гамаком даже при желании. Было и еще одно препятствие: недостаток денег. В Сино я не мог раздобыть ни гроша, а того, что у меня осталось, не хватило бы на оплату носильщиков, если бы мы выбрали более длинный маршрут.
Мы решили, что, попав в Ганту, нам следует нанести визит окружному комиссару. На нем был отлично сшитый тропический костюм, лицо украшали небольшие офицерские усики, кожа была желтоватая, и по внешнему виду он скорее напоминал итальянца, чем африканца. Комиссар славился своей честностью, справедливостью и административными способностями. В настоящее время он занимался тем, что тянул дорогу Саноквеле – Ганта дальше на юг. Мы снова столкнулись с либерийским патриотизмом, на этот раз с более европейской его разновидностью. Патриотизм комиссара Данбара был таким же, как у европейцев; его возмущала мысль о вмешательстве белых в дела его народа, и, так как поведение англичан во время восстания племени кру угрожало независимости Либерии, он не любил англичан и им не верил. С нами он был вежлив, но сдержан; убеждать его, что наше путешествие не имеет политической подоплеки, было безнадежно. Я чувствовал, что все мои дружеские заверения звучат фальшиво, разбиваясь о его непроницаемую вежливость, как о скалу. Убеждать его было безнадежно, но этот человек обладал такими достоинствами, что нам хотелось произвести на него хорошее впечатление. Однако, чем больше мы старались произвести это хорошее впечатление, тем фальшивее и лицемернее казался нам самим наш тон.
Я старался заставить его высказать свои подозрения, упомянув город в закрытой для иностранцев береговой зоне, но в ответ он лишь предостерег нас, что мы вряд ли дойдем до Сино раньше, чем через пять недель. А долго ли нам придется ждать там парохода до Монровии? «Может быть, месяц», – сказал он, откинувшись на спинку плетеного кресла. Палящее солнце освещало его сзади, превращая красивое желтое лицо в темный, расплывчатый контур. Он намеренно допустил неточность, ибо, как мы выяснили потом, в Монровию каждую неделю ходил из Сино катер. Тогда я сказал, что мы изменим маршрут и отправимся в Гран – Басу, и он одобрил мою мысль; мы сможем дойти туда за десять дней, сообщил он нам, на этот раз явно преуменьшив расстояние. Сам он дороги не знал; ею пользовались только торговцы из племени мандинго; она непроходима во время дождей и вообще очень трудна, потому что проходит через самое сердце леса, но зато через десять дней мы будем на Берегу.
Данбар не доверял белым не из одних только патриотических соображений. В Саноквеле, где находилась его резиденция, жил католический священник. Предшественник Данбара был женат на католичке. Священнику не нравилось, что Данбар не похож на своего предшественника: он твердо придерживался буквы закона и не делал священнику никаких поблажек. Католический пастырь старался избавиться от Данбара и писал на него доносы президенту в Монровию; жара и одиночество ожесточали обоих недругов. Священник воспользовался тем, что один из рабочих на строительстве дороги заболел, и забрал его к себе в миссию, но рабочий умер. Тогда священник тут же написал жалобу, обвиняя Данбара в том, что тот морит своих людей голодом, а одного из них забил до смерти. Данбар ответил на удар с завидной быстротой: он прибыл в миссию со взводом солдат до того, как рабочего похоронили, увез труп и священника за восемнадцать километров от Саноквеле – в Ганту, где попросил американского доктора осмотреть тело. Доктор Харли реабилитировал его, и священника выслали из Либерии. А что касается самого Данбара, то он понял: белые не только лицемерно ведут себя по отношению к его стране, но и делают подлости отдельным людям.






