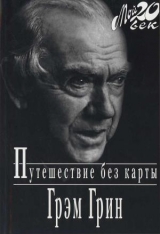
Текст книги "Путешествие без карты"
Автор книги: Грэм Грин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 32 страниц)
Путешествие без карты
Часть первая
Глава первая. Путь в АфрикуВысокая черная дверь, выходившая в узкий переулок, долго не открывалась. Я звонил, стучал и звонил снова. Звонка не было слышно, но я все звонил и звонил – то ли из упорства, то ли от полного отчаяния, и много времени спустя, сидя на пороге какой‑то хижины во Французской Гвинее [37]37
Теперь Гвинейская Республика
[Закрыть], куда я никак не думал попасть, я вспоминал эту первую неудачу, сновавшие за углом автобусы и бледные лучи осеннего солнца…
На помощь мне пришел мальчишка – рассыльный – он спросил: «Кого вам нужно, может быть, консула?»; я ответил: «Да, да! Именно консула», и мальчик сразу же повел меня к собору Святого Дунстана, вверх по ступенькам и прямо в ризницу. Это было совсем не такое начало, какого я ждал в те дни, когда покупал палатку, которой так ни разу и не воспользовался, шприц, забытый дома, и револьвер, которому суждено было покоиться на дне чемодана под обувью и шкатулкой с серебряными монетами. В соборе готовились к Празднику урожая; ризница была разукрашена пышными желтыми цветами, на полу грудами лежали тыквы; но консула тут не было и в помине. Рассыльный долго вглядывался в полумрак и наконец показал мне маленькую озабоченную женщину, склонившуюся над цветочными горшками.
– Вот она, – сказал он. – Она самая. Она вам все объяснит.
Я чувствовал себя очень неловко, когда, пробравшись между тыквами в соборе Святого Дунстана, наконец спросил:
– Вы случайно не знаете… где тут консул Либерии?
Оказалось, что она знает, и я пошел на другую улицу.
Было три часа, и в консульстве как раз кончали обедать. Три человека – я не мог определить их национальности – находились в маленькой комнате, затерянной в сверкавшем новизною конторском здании. На подоконнике валялись старые телефонные книги и школьные учебники по химии. Один из служащих мыл посуду в тазу, поставленном в корзину для бумаг. В жирной воде плавали какие‑то желтые нити, похожие на мочалку. Человек снял с газовой плитки кастрюлю с кипятком и стал поливать тарелку, держа ее над тазом, потом вытер тарелку полотенцем. Стол ломился под тяжестью посылок (казалось, они набиты камнями), а лифтер то и дело заглядывал в дверь и швырял на пол все новые и новые пакеты. Комната смахивала на убогий фургон, застрявший посреди нарядной, ярко освещенной улицы. Пожалуй, если уйти, а потом снова вернуться сюда, в поблескивающее металлом ультрасовременное здание, этой комнаты уже не окажется на месте; да, вернее всего, она переберется куда‑то дальше.
Впрочем, все были очень любезны. Меня только попросили уплатить деньги; никто не поинтересовался целью поездки, хотя многие специалисты по Африке уверяли, будто Республика Либерия не любит незваных гостей. Работники консульства перебрасывались шуточками, понятными только им одним.
– До войны, – говорил высокий человек, – вообще не нужны были паспорта. С ними одна морока. Разве что для Аргентины. – Говоривший поглядел на того, кто возился с моими документами. – А вот чтобы поехать в Аргентину, нужно было даже отпечатки пальцев представлять, да еще за месяц вперед, чтобы Скотленд – Ярд успел связаться с Буэнос – Айресом. Всех жуликов на свете почему‑то тянуло в Аргентину.
Я разглядывал висевшую на стене знакомую карту, на которой так мало названий… Несколько городов на побережье, несколько деревень вдоль границы.
– Вы бывали в Либерии? – спросил я.
– Нет, что вы, – ответил высокий. – Мы предпочитаем, чтобы они ездили к нам.
Другой украсил мой паспорт круглой красной печатью с государственным гербом – трехмачтовым кораблем, пальмой, летящим над ней голубем и девизом: «Нас привела сюда любовь к свободе!» Мне пришлось расписаться повыше такой же красной печати, скреплявшей «Декларацию иностранца, собирающегося посетить Республику Либерию».
«Ознакомившись с положениями Закона об иммиграции, я свидетельствую, что могу быть допущен на территорию Республики.
Мне известно, что в случае принадлежности к какой‑либо категории лиц, которым запрещен въезд в Республику, я подлежу высылке или тюремному заключению.
Клянусь, что настоящее заявление соответствует истине, насколько я в силах об этом судить, и что во время пребывания в Республике я готов всецело подчиняться законам и властям».
Единственное, что я знал о Законе, – это то, что всякому белому въезд в Либерию разрешен только с моря, через определенные порты, за исключением случаев, когда за большие деньги покупается лицензия на геологическую разведку. Что касается меня, я собирался пересечь границу британских владений и выйти на побережье через леса в глубине страны…
В начале девятнадцатого века одно американское филантропическое общество принялось отправлять освобожденных рабов на африканское побережье (говорили, что многие руководители этого общества были рабовладельцами и ухватились за это, чтобы избавиться от своих незаконнорожденных детей). Купили землю у местных царьков и основали поселение Монровия. «Нас привела сюда любовь к свободе…» Трудно винить этих первых поселенцев, которые вскоре обнаружили, что их любовь к собственной свободе мешает свободе местных племен. История Республики Либерии мало чем отличается от истории соседних колоний, где правят белые, – здесь точно так же нарушали договоры, прибегали к вооруженной силе, постепенно захватывали чужие земли; больше того – первые поселенцы проявляли здесь тот же героизм, что и их белые собратья, своеобразный пуританский героизм, где мученичество сочеталось с глупостью. Были тут, например, черные квакеры из Пенсильвании – пацифисты и трезвенники; когда на них напали испанские работорговцы, они целиком положились на Бога и были перебиты. Только сто двадцать человек спаслись и поселились в Гран – Басе.
С самого начала эти бывшие американские рабы – полукровки были идеалистами на американский лад. Когда они провозгласили республику, их Декларация независимости дышала тем же парадным холодом мрамора, что и американская. Шел 1847 год, а слова были заимствованы у восемнадцатого века; они родились в Вашингтоне – пышные, как эпитафия на гробнице богача. Хартия торжественно начиналась с перечня неотъемлемых прав на жизнь и свободу, но сразу же переходила на «право приобретать собственность, владеть и пользоваться ею, а также защищать ее». Сегодня «идеалы» все еще американские, но это уже американизм «Таммани – холла» [38]38
Политический клуб в Нью – Йорке, связанный с местной организацией Демократической партии.
[Закрыть]; потомки рабов пустились в политические махинации с увлечением завзятых картежников.
«Если вы желаете процветания своему народу, независимости правительству, почетного места среди флагов других наций нашей Одинокой Звезде, вы снова будете голосовать на выборах за президента Барклея…» – гласит предвыборное воззвание…
Казалось, в том краю есть что‑то нездоровое, какая‑то порча, которой не найдешь в других местах, болезнь же всегда вызывает жалость, даже болезни цивилизации: рекламы в небе над Лестер – сквер [39]39
Район увеселительных заведений в Лондоне.
[Закрыть], «девицы» на Бонд – стрит, запах вареных овощей возле Тотгенхем – Корт – роуд, продавцы подержанных машин на Грэйт – Портленд – стрит [40]40
Улицы в Лондоне.
[Закрыть].
Но иногда человека охватывает беспокойство, его тянет прочь из города, он согласен терпеть неудобства и лишения ради смутной надежды найти то, чему есть тысяча названий, – копи царя Соломона, «душа черного народа», а может быть, как выражается господин Гейзер в романе об Африке «Паломничество души», свое место во времени, обусловленное знанием не только сегодняшнего дня человечества, но и его прошлого, откуда мы все пришли. Есть, конечно, и такие люди, которые любят заглядывать вперед, – советское агентство «Интурист» снабжает их недорогими билетами в правдоподобное будущее, – но мое путешествие было иным.
Я вспоминаю его, как сон, полный какого‑то особого смысла: перед моими глазами проходят и старик, которого избивали дубинкой во дворе жалкого подобия тюрьмы в Тапи – Та, и скорчившиеся на дне ямы нагие вдовы в Тайлахуне, измазанные желтой глиной, и дьявол с деревянными зубами, который кружит в развевающемся плаще из пальмовых листьев между деревенскими хижинами.
Сегодня наш мир как‑то особенно падок на любую жестокость. Уж не тяга ли к далекому прошлому – то удовольствие, с которым люди читают гангстерские романы и знакомятся с героями, ухитрившимися упростить свой духовный мир до уровня безмозглых существ? Мне, понятно, вовсе не хотелось бы вернуться к этому уровню, но когда видишь, какие бедствия и какую угрозу роду человеческому породили века усиленной работы мозга, тянет заглянуть в прошлое и установить, где же мы сбились с пути.
И все же меня немножко пугала перспектива вернуться в прошлое через Африку в полном одиночестве, и я очень благодарен своему двоюродному брату, согласившемуся сопровождать меня в этом путешествии, для которого нельзя было купить карт.
Оно началось в вагоне – ресторане поезда, уходившего в 6.05 с вокзала Юстон. Перед нами стояли тарелки с плохо прожаренной рыбой. Газетный заголовок сообщал еще одну версию о трупе, найденном в сундуке: покончил с собой безработный; а за окном, вдоль линии железной дороги, мокли под дождем полустанки, словно шеренга опущенных в воду факелов.
Огромная ливерпульская гостиница построена безвкусно, зато с подлинной страстью к великолепию и с пониманием, что такое удобства. Вероятно, здесь могло бы разместиться не меньше пассажиров, чем на трансатлантическом пароходе; я говорю о пассажирах, потому что никто не ездит в Ливерпуль развлечения ради поглядеть на маленькую тесную площадь, на неоновые рекламы, висящие так низко, что впору хоть рукой достать, на кино и бары, которые все тут закрываются в десять часов, и не позже. Но ливерпульская гостиница не похожа на другие; ее не назовешь ни модной, ни веселой, ни европейской, зато в длинных коридорах, где глохнет всякий шум, за высокими, как утесы, стенами жив дух постоялых дворов старой Англии: здесь не постесняешься заказать сдобную булочку или кружку пива, прислушиваясь к пароходным гудкам и разглядывая груды багажа в холле; уверен, что здесь сохранился еще и старомодный коридорный. Во всяком случае, там я понял Генри Джеймса, который, сойдя на берег, удивился, какой английской оказалась Англия, он даже заподозрил, что она приложила к этому немало стараний, желая ему угодить.
Несмотря на блеск никелированной посуды, повсюду проглядывала обычная английская бестолковщина; даже сдобная булочка и та была чудовищных, прямо‑таки тошнотворных размеров. Если гостиница выглядела нелепо, то это потому, что великолепие всегда выглядит немножко нелепо. Редко кому удается величественный жест. В тех немногих случаях, когда красота и великолепие совпадают, вы чувствуете себя как в театре или кино: это «слишком хорошо, чтобы быть правдой». Меня всегда мучает противоречие: я убежден, что жизнь должна быть лучше, чем она есть, и в то же время верю, что всякое видимое благополучие непременно скрывает темную изнанку. Впрочем, в этом гигантском зале ливерпульской гостиницы, на широких просторах пушистого темного ковра вы были как дома; зал напоминал увеличенный в пятьдесят раз сельский трактир; где‑то в углу спал с открытым ртом проезжий коммерсант; вы бы не чувствовали себя здесь по – домашнему, если бы гостиница была построена по голливудским образцам.
На рейде Ливерпуля ничто не изменилось со дней Генри Джеймса: «Черные пароходы снуют в желтой воде Мерсея, а небо нависло над ними так низко, что они, кажется, вот – вот заденут его своими трубами». Даже краски остались прежними.
«Густая, насыщенная ветром мгла мягко серебрится, то и дело переходя в черноту».
Грузовой пароход стоял у самого устья Мерсея, покачиваясь на волнах Ирландского моря; холодный январский ветер разгуливал по палубе; пассажиры теснились внизу; смущенные и благодушные, они прощались с провожающими и откровенно скучали. А в иллюминаторе исчезала из глаз Англия – каменные ступени, просмоленный борт и бьющая в стекло серая волна.
Глава вторая. Торговое судноНа торговом судне у нас с двоюродным братом было пятеро спутников: двое служащих пароходной компании, коммивояжер машиностроительной фирмы, врач, который вез в Африку вакцину против желтой лихорадки, и женщина, ехавшая к мужу в Батерст. Все они, за исключением женщины и коммивояжера, были своими людьми на африканском берегу. У них были общие знакомые и одинаковые привычки, продиктованные одинаковыми условиями существования. Ежедневная порция хинина, москитные сетки на иллюминаторах – все это казалось им столь же естественным, как скатерть на обеденном столе.
В таких условиях легко рождаются легенды. По существу, легенда – достояние первобытного общества, где труд, досуг и образование еще не успели расчленить людей и внести разнобой в уровень их сознания, любой рассказ быстро передается от одного к другому, не подвергаясь ни малейшему сомнению. Но иногда подобные условия складываются искусственным образом и в наши дни. Общая опасность, общая цель или сходный образ жизни могут свести на нет интеллектуальные различия и сломать имущественные барьеры – тогда‑то и являются ангелы и случаются чудеса у раки святого.
– Да, – говорили в курительной комнате, – капитан В. человек с характером, другого такого не найти.
Все его знали, потому что все они жили на Берегу – и капитан, и доктор, и агент пароходства.
– Что бы с ним ни стряслось, он и бровью не поведет, – сказал врач.
– Не раздумывая пойдет на буксирном катере в кругосветное плавание!
– И грузов не страхует! Идет на риск, и все тут. Поэтому и фрахт у него такой дешевый.
– А владельцы грузов соглашаются?
– Его слово крепче страхового полиса.
– А что, если груз погибнет?
– Пока у него ничего не погибало.
Весь субботний вечер молодой агент пароходной компании просидел в радиорубке, ожидая результатов футбольного матча на первенство Англии. Они болтали с радистом, перебирая морские сплетни, интересные одним посвященным: как имярек поссорился со Стариком и перешел на другую линию. Над головой у них мигали лампочки; глухо жужжал передатчик – маленькая кабина с ее частоколом приборов была механизирована ничуть не меньше, чем машинное отделение внизу; как скала, возвышался большой черный полированный ящик, синяя, желтая, темнокрасная резиновые обмотки пухло соединяли концы проводов и были похожи на ряд цветных грелок; в этом безлюдье из сверкающей меди и стали двигался одинокий негр с пыльной тряпкой в руках.
Наслушавшись сплетен, я покинул мигающие лампочки, сумрак радиорубки и вернулся в курительную.
– …четыреста шестнадцать человек в одном Дакаре, – говорил капитан врачу.
Та же тема обсуждалась за утренним завтраком: чума в Дакаре, желтая лихорадка в Батерсте – вспышки эпидемий, которые замалчивались на французском Берегу и о которых не сообщали ни единого слова в Либерии. Разговоров об эпидемиях невозможно было избежать: о чем бы ни зашла беседа – о религии, политике или книгах, – она всегда съезжала на малярию, чуму или лихорадку. Пока ты в море, это предмет для шуток – совсем как чужая жена со сварливым характером; но когда сходишь на сушу, такие разговоры приобретают зловещий характер, даже мурашки пробегают по телу, и ты сразу замечаешь тех, кто уклоняется от подобных тем, предпочитая беседовать о чем‑нибудь более утешительном.
Например, о «Деревушке в долине» мистера Биверли Никольса, стоявшей на полке судовой библиотеки. Странные книги читаешь в море, книги вроде «Цыганки» леди Элеоноры Смит, романов Уорвика Дипинга или У. Б. Максуэлла, – никому бы и в голову не пришло читать их дома. Эту кучу книг, где нет ни правды, ни вдохновения, где одно серое слово цепляется за другое, читают, дожидаясь автобуса, держась за поручень в вагоне метро, урывая минуты, когда хозяин перестает диктовать письма, или за завтраком в дешевом кафе. Целая книжная промышленность зиждется на нехватке досуга и нехватке счастья.
На Мадейре шел дождь. В убогом городке, стяжавшем дурную славу, сводники расхаживали по улицам с девяти часов утра. У Золотых ворот мы пили сладкое вино, а дождевые капли беспрерывно стекали с причудливых шляп в форме фаллоса, развешанных у дверей лавчонок. Сводники предпочитали соломенные шляпы с цветными лентами; они преследовали нас по всему Фуншалу: их нисколько не смущал ни дождь, ни ранний час. «Люкс, – твердили они, – секс», – и добавляли что‑то насчет танцовщиц. Их промысел, как и тот, что кормил господина Биверли Никольса, зиждется на нехватке досуга и нехватке счастья. Скорей, скорей, ты сошел на берег на каких‑нибудь полчаса, да и сил у тебя осталось всего на несколько лет, возьми еще одну женщину, пока не поздно; та, которая у тебя есть, не дала тебе счастья, так попробуй другую. Цветочницы торговали под дождем фиалками, лилиями и розами, дождь стекал с фаллических шляп; сводники никак не могли взять в толк, что тебе не до женщин в такую рань и такую сырость, что можно и по – другому убить время – выпить сладкого вина у Золотых ворот, а то и просто вернуться на борт и приняться за леди Элеонору Смит и мистера Биверли Никольса.
В Фуншале сели на пароход новые пассажиры третьего класса: молодой немец – художник и его жена; их устроили в крошечном лазарете. Художник был полный прыщеватый молодой человек в бархатной куртке. В тесном лазарете он развесил свои полотна – яркие реалистические пейзажи и портреты опаленных солнцем мексиканских индейцев. Темнело. Все пили скверную мадеру прямо из бутылки, художник разглагольствовал об Искусстве, Спорте и Красоте Плоти, а его маленькая жена, пухленькая, хорошенькая и покладистая, потихоньку страдала от морской болезни. Он был горячим поклонником национализма, водного спорта и любви, восторгался живописью Орпена и Ласло, но не признавал работ Мунка – в них нет души, говорил он, Мунк материалист; это не значит, что сам он не верит в Плоть, Красоту Плоти и Плотскую Любовь. Он согласился было отправиться с нами в путешествие по Африке, чтобы иллюстрировать мою книгу: настоящий художник, сказал он, везде чувствует себя как дома, но после обеда отказался от этого намерения. Его милая, покладистая и уже опытная супруга заявила: да, она охотно отправится в глубь Африки, но после обеда, и она отказалась от своего намерения. Он был плохой художник, но отнюдь не шарлатан. Живя почти впроголодь, он не терял веры в себя и в свои туманные тевтонские идеалы.
К обеду все захмелели от плохой мадеры и розового джина, который они называли Береговым. Служащий пароходной компании затянул «Старую отчизну», а потом «Танец цветов» и «Пустил стрелу я в небеса». Толстый коммивояжер по фамилии Юнгер все повторял: «Дайте мне еще молока от бешеной коровки» – и проливал кофе на скатерть. Немцы отправились в свою каюту – через нижнюю палубу и вверх по железным ступенькам на корму; ее мутило, от этого она только притихла еще больше. Служащий пароходной компании снова затянул «Старую отчизну»: «Далеко, далеко на род – ному берегу помолитесь, друзья, за душу мою…» – и все почувствовали себя англичанами до мозга костей, осужденными на изгнание, и загрустили, все, кроме Юнгера, который полез по лестнице на палубу, цепляясь за перила и бормоча: «Назад я поеду поездом». Он был больше англичанином, чем все остальные; север вошел ему в плоть и кровь, он был убежденным шовинистом, чуждым всякой сентиментальности, сквернословом, но человеком честным. Пил он потому, что хотел забыться, потому, что впереди, на Берегу, его ждала трудная работа, потому, что любил жену и его одолевала отчаянная тревога. У него было больше оснований пить, чем у остальных. Годы процветания отложились в складках его грузного тела, в трех его подбородках; с первого взгляда трудно было заметить, каким тяжелым камнем лег ему на сердце кризис. Если бы понадобилось нарисовать портрет Юнгера в старинной манере – с миниатюрными пейзажами и тосканскими городами на заднем плане, – его следовало бы изобразить на фоне потухшей домны или недостроенной фермы большого моста, превратившейся в насест для перелетных птиц.
Юнгера не покидал здравый смысл даже в часы беспутства.
– Восемнадцать месяцев на Берегу!.. Скажите, доктор, – допытывался он теперь, – как это люди ухитряются столько вытерпеть?
– Уму непостижимо, – отвечал врач.
– Нет, как они все‑таки ухитряются?
– Этот же вопрос задавал мне сам губернатор. Не знаю, что вам ответить.
Юнгер ложился позже всех; перед сном он минут десять бродил взад и вперед по коридору; в нем было нечто плебейское и вместе с тем нечто царственное, внушавшее почтение, никто не обижался на его выходки. «Эй, ты, вобла! – кричал он, подойдя к двери капитанской каюты. – Эй!» И капитан послушно появлялся на пороге. С женщинами он вел себя как Фальстаф и был до глупости безгрешен, довольствуясь тем, что кого‑нибудь пощекочет или облапит. «Ах ты, живчик ты этакий!» – приговаривал он. И даже скромная и замкнутая молодая женщина, никогда до этого не покидавшая мужа и Ливерпуль, не пившая, не курившая и не любовавшаяся на луну, вернула ему шлепок. В его беспутстве было что‑то рыцарское. Его речь была хороша, как детский рисунок: живая, непосредственная, неиспорченная.






