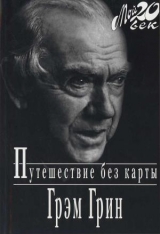
Текст книги "Путешествие без карты"
Автор книги: Грэм Грин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 32 страниц)
Семейное окружение Джеймса представляет такой большой интерес потому, что уже в раннем возрасте он столкнулся с тем миром, которому он впоследствии будет стремиться воздать по справедливости. В автобиографических произведениях Джеймса есть еще два пробела: в них практически ничего не говорится о его братьях – Уилки и Бобе. Все, что мы знаем об этих простых парнях, с невысокими духовными запросами, выделявшихся на фоне своей утонченно – интеллигентной семьи, почерпнуто нами из дневника Алисы Джеймс, изданного мисс Берр. Для Уилки «сам процесс чтения был неестественным и внушающим отвращение». Он писал из военной части: «Скажите Гарри, что я с нетерпением жду следующего романа. Такие душещипательные истории пользуются большим спросом среди черномазых». Заметьте, он писал из военной части. Дело в том, что 18–летний Уилки и 17–летний Боб представляли семью на фронтах Гражданской войны. У Уильяма было всегда плохое зрение, а Генри избежал службы в армии из‑за несчастного случая, подробности которого неизвестны. Ему, конечно, повезло, так как он избежал и печальных последствий участия в войне. Зато его братья ощущали эти последствия всю жизнь: Уилки стал инвалидом в физическом смысле, Боб – в душевном; оба в духе героев войны того времени сначала занялись земледелием во Флориде, потом открыли небольшое дело в Милуоки. Их жизнь не сложилась, и вполне возможно, что Генри Джеймс уехал из Америки, желая избежать участи своих братьев – неудачников.
Может быть, именно фигуры Уилки и Боба позволяют выяснить происхождение основного мотива произведений Джеймса – темы предательства, с которым у него всегда ассоциировалось зло. Насколько нам известно, самого Джеймса не предавали лучшие друзья, как это происходило с его героями: Монтисом, Греем, Милли Тил, Мэгги Вервер и Изабеллой Арчер. Но какое предательство пережил Джеймс, что двигало им, когда он писал «Американца» в 1876 г. и «Золотую чашу» в 1905 г. и вообще создавал свою великую галерею одержимых подлецов? Для того чтобы так глубоко, как Джеймс, проникнуть в глубь человеческого характера, нужно было пережить нечто вроде предательства по отношению к самому себе, поэтому напрасно современные критики ищут причину во внешних обстоятельствах жизни писателя, например в «комплексе кастрации». Действительно, имеются свидетельства того, что причина, по которой Джеймс не служил в армии, была не вполне уважительной. Гражданская война – это не какая‑нибудь обычная заварушка, какие бывают в Европе, ее причины глубже, и даже рядовые бойцы в ней участвуют по убеждению. Семья Джеймса в то время жила в Конкорде – там, где патриотические настроения северян были самыми сильными. То, что произошло с Джеймсом, окружено тайной (именно поэтому некоторые критики подозревают кастрацию в буквальном смысле), и также непонятна его почти экзальтированная поддержка во время Первой мировой войны нации, по поводу которой он не питал иллюзий: он частенько обменивался с Алисой анекдотами, высмеивавшими их коррупцию. Напомним, что в его блестящем рассказе о предательстве «Ряд визитов» Монтиса опять предает самый близкий друг. «Наш путешественник подумал, что этот внешне не изменившийся, коварный человек, сохраняя свою репутацию, должен был, по – видимому, постоянно в душе терзаться угрызениями совести». Можно предположить, что и самого Джеймса все время подсознательно мучил какой‑то комплекс неполноценности.
Это был окружающий его видимый мир, и он был действительно видимым, так как Джеймс ежедневно сталкивался с ним, глядя на себя в зеркало. Предательство друзей, самая низкая ложь, «темные и жестокие дела, с которыми связано богатство», как он писал в «Башне из слоновой кости», – все это рождалось его творческой фантазией. Однако благодаря силе его таланта, широте взглядов и объективности оценок критики старшего поколения, например Десмонд Маккарти, рассматривали Джеймса прежде всего как писателя, изображающего с симпатией, даже с некоторым восхищением «высшее общество». Такое мнение могло быть у критиков потому, что ощущение зла никогда полностью не овладевало Джеймсом, как, например, Достоевским; он никогда не переставал быть в первую очередь художником слова (в отличие от Лоуренса и Толстого, этих одержимых гениев), и его щедрым талантом вполне могли быть созданы такие милые и изящные вещицы, как «Дэйзи Миллер» и «Пансион “Лакомый кусочек”». Они остроумны и сатиричны, но это такая мягкая и добрая сатира, что она вызывает ностальгию по простой и наивной жизни, в которой даже алчность не кажется пороком. «Может быть, она и была простовата, – писал Джеймс о Дэйзи Миллер, – но это определение лучше всего подходило для характеристики ее своеобразного природного изящества». На этих отступлениях от основной темы критики – марксисты, так же как и Маккарти, сосредоточивают свое внимание, не понимая, что Джеймса интересовала в первую очередь духовная жизнь общества, и лишь потом – социальная.
Правда, ни один писатель того времени не сознавал более глубоко, чем Джеймс, что его эпохе и обществу, которые он изображал, приходит конец. Он совершенно недвусмысленно предсказывал, что произойдет революция. Джеймс писал о том «классе, у которого, по моему мнению, было самое долгое и счастливое историческое прошлое… но чье будущее, по всем признакам, не могло быть таким же безоблачным и благословенным… Правда, я не могу сказать, насколько драматичными могут стать события: уничтожение многовековой привилегированности и, наконец, полное разоблачение тех, кто с незапамятных времен пользовался ею». Однако марксисты, так же как критики старшего поколения, не видят в творчестве Джеймса основного. Не только богатство, но и страсть у него тесно связаны с предательством. Когда в своих лучших произведениях он начинает «прислушиваться к голосу своей души», то, о чем и как он пишет, нельзя объяснить, только исходя из социальных пороков капиталистического общества. Деншера и Кейт объединяло не только желание разбогатеть; правда, в «Послах» Джеймс клеймит частную собственность, но в «Пойнтонском богатстве» он с таким же пылом осуждает страсть. И хотя Джеймс жил в капиталистическом обществе и принадлежал к обеспеченным классам, которые, как правило, и были объектом его изображения, «темные и жестокие дела» не связывались у него с той или иной политической системой: он считал, что они свойственны человеческой при – роде в делом. Когда он говорил о «темных и жестоких» сторонах человеческой натуры, он имел в виду такую степень эгоцентризма, когда кажется, что люди не имеют своей воли, а являются орудием в руках каких‑то сверхъестественных сил.
В рассказе «Милый уголок» американский интеллигент Брайдон возвращается из эмиграции в Нью – Йорк и обнаруживает, что в его доме поселилось привидение. Он выследил привидение, загнал в угол и понял, что оно боится его (этот мотив нам знаком из его книги воспоминаний «Малыш и другие», в которой описывается детский сон с похожим сюжетом). Когда Брайдон хорошенько рассмотрел его при дневном свете, он увидел в этих «злых, отталкивающих, наглых, грубых» чертах свое собственное отражение. Таким бы он был, если бы остался в Америке и стал одним из процветающих дельцов Уолл – стрита. Очень легко увидеть в этом рассказе социальную направленность, но кто из социалистов или консерваторов способен сочувствовать тому злу, которое он обличает? Величие Джеймса – именно в этой способности сочувствовать: в ней заключается красота его произведений. Его бедняг – эгоцентристов можно пожалеть, так же как Люцифера. Женщина, которую любит Брайдон, тоже видела привидение; оно ей показалось таким же отталкивающим и безобразным, как Брайдону, – его потерянный вид, искалеченная рука и миллион долларов в год, – но она прежде всего почувствовала к нему жалость.
«– Он так несчастлив, его жизнь загублена, – сказала она.
– А я не несчастлив? Ты только посмотри на меня – моя жизнь не загублена?
– Но я же не говорю, что люблю его больше, чем тебя, – признала она после некоторого раздумья. – Он такой мрачный и изможденный, жизнь обошлась с ним слишком круто. Но он смело смотрел в лицо жизни, а не пользовался, как ты, изящным моноклем».
Джеймс не был пророком или моралистом; он стремился воздать людям по справедливости, а этого нельзя сделать, если ты их ненавидишь. Именно потому, что он был реалистом, он показал не только торжество эгоцентризма, но и то, как самовлюбленный человек становится пленником собственного «эго». «Хорошие» люди, вроде Милли Тил или Мэгги Вервер, всегда находили в чем‑то утешение: в том, что они любили, могли пожертвовать собой, как Уилки и Боб; даже в своей безысходности они никогда не были совершенно одиноки. Но для эгоцентристов не было утешения; в их страсти не было нежности, а их погоня за деньгами не приносила им подлинного удовлетворения, но они не могли стать другими, никуда не могли деться от самих себя. Кейт и Мертон Деншер в конце концов получают желанные деньги, но они не получают друг друга. Шарлотта Стант и Принц удовлетворяют свою страсть, но ценой разлуки на всю жизнь.
Джеймс отнюдь не стремился к «идеальной» справедливости, когда зло наказано, а добро торжествует. Сочиняя свои сюжеты, он проявляет себя не моралистом, а реалистом. Семейное окружение Джеймса, таинственная личная драма определили его отношение к окружающему, видимому миру, когда он только еще начинал писать, и никакие общественные события, происшедшие с тех пор, не могли заставить его пересмотреть эти взгляды. Он всегда был верен своей истине, и самое большее, что могло измениться в его романах с годами, – это замена убийства адюльтером. Причем если в «Американце» он не испытывает жалости к убийце, то в «Золотой чаше» уже способен сочувствовать нарушившему супружескую верность. В конце концов он приходит к выводу, что человек всегда проигрывает: действует ли он от имени Бога или дьявола, он все равно несчастлив. Джеймс верил в сверхъестественное, но он рассматривал зло и добро как равные силы. Он считал, что человечество – это пушечное мясо в войне добра со злом, которая из‑за равновесия сил будет длиться вечно. Самого Джеймса можно обвинить в эгоцентризме как человека, сосредоточенного на себе и своей идее, но он оставил произведения, где в результате глубокого безжалостного анализа эгоцентризму воздается по справедливости, где отдается должное и подлецам, и негодяям.
«Спенсер Брайдон вскочил на ноги:
– Тебе нравится это чудовище?
– Он мог бы мне понравиться. По – моему, – сказала она, – он совсем не чудовище. Я принимаю его таким, какой он есть».
«Я принимаю его». Джеймс никогда особенно не интересовался теософской теорией Сведенборга, занимавшей его отца, но он кое– что почерпнул из нее для подкрепления своей более древней и более традиционной ереси. Так, например, его отец считал (и Джеймс был, по – видимому, с ним согласен), что «темная, дьявольская сторона человеческой натуры, не подчиняющаяся божественному промыслу… не только более жизнестойка и мудра, чем этот последний, но и способна на выдающиеся земные поступки» (к таким поступкам относится, наверное, присвоение денег, принадлежащих Милли Тил). Однако различий в их теориях было больше, чем сходства. Сын не был оптимистом, он не разделял надежд отца, которые тот связывал с дьявольской стихией в человеке, он только сочувствовал тем, кто был поглощен этой стихией. Высшая справедливость этого сочувствия, которое распространялось даже на самых подлых и низких актеров его человеческой комедии, позволяет нам поставить Джеймса в один ряд с величайшими художниками слова. В истории романа он такое же исключительное явление, как Шекспир – в истории поэзии.
Два друга
Этих двух людей – Генри Джеймса и Роберта Льюиса Стивенсона – разделяло немалое расстояние: от островов Самоа до улицы Де – Вер – Гарденз в Кенсингтоне. С одной стороны – Генри Джеймс, с высоким крутым лбом, с респектабельной бородкой, придававшей ему, по мнению некоторых его знакомых, сходство с принцем Уэльским, с широкими плечами, которые казались немного сутулыми от долгого оберегания горевшего в нем драгоценного пламени. Это пламя он то раздувал, то бережно заслонял рукой, всегда неусыпно охраняя его – будь то на званом обеде или на рассвете за письменным столом. С другой стороны – Стивенсон, с нервным худым лицом, всемирно известными усами и тонкими, непомерно длинными ногами; Стивенсон, переходящий реки вброд по ночам, рискующий получить пулю в лоб, ввязываясь во всякие местные конфликты, каждый день подвергающий свою жизнь опасности, – и все это из‑за страстного желания доказать, что он может быть не только писателем. На чем основывалась их странная дружба?
Мы глубоко признательны мисс Джанет Адам Смит, автору наиболее достоверной биографии Стивенсона, рассказавшей нам историю дружбы двух писателей. Многие из опубликованных здесь писем нам уже известны – правда, письма Стивенсона в искаженной редакции Колвина, – но здесь они являются частью переписки двух друзей, чего раньше не было. Читать письмо гораздо более интересно, если оно сопровождается ответом: зеркало в доме на Де– Вер – Гарденз отражает гораздо больше, когда оно освещено ответной вспышкой с Самоа. Одну из причин этой дружбы мисс Адам Смит видит в том, что жизнь Стивенсона могла быть для Джеймса своеобразным источником вдохновения:
«Человек, постоянно живущий под угрозой смертельного кровоизлияния в мозг и тем не менее никогда не терявший вкуса к жизни; романист, который находил силы и здоровье для творчества, рискуя утратить их, преследуя другие цели; писатель, который должен был все время погонять свой талант, чтобы зарабатывать деньги, нужные ему для той полнокровной жизни, которая составляла основу его существования; человек, разрывающийся между жизнью и литературой, – такого рода судьбы можно встретить в романах и рассказах Джеймса».
Почему Джеймс хотел видеть своим другом Стивенсона, понятно. А вот понять мотивы Стивенсона в этой ситуации труднее. Писатель, как правило, не склонен превозносить чужой талант, а Стивенсон не мог не сознавать, что Джеймс – более талантливый художник, чем он. Однако в дискуссии о романе, с которой начинается этот сборник и их дружба, Стивенсон выиграл несколько очков у Джеймса в споре о том, может ли искусство «соперничать» с жизнью. Читатели «Лонгмэнз мэгэзин», без сомнения, предпочли остроумные построения и неожиданные метафоры Стивенсона серьезным рассуждениям его старшего коллеги. Стивенсон пишет: «Эти воображаемые воспроизведения действительности, пусть даже самой жестокой, доставляют нам несомненное наслаждение, в то время как сама действительность может приносить страдания и даже гибель»; «Изо всех сил пытаясь уловить характерную интонацию, особые, неровные ритмы действительности, мы тем самым сохраняем Литературе жизнь». От первого высказывания вздрагиваешь, как от удара камешков, брошенных в окно; второе незаметно, но неуклонно разливается, как море.
В то время книги Джеймса покупали все меньше и меньше, а Стивенсона – все больше и больше, но успех не приносил ему радости. «Раз я популярен, значит, я плохой писатель» – воспитанный в кальвинистском духе, он был далек от самолюбования или тщеславия. «Нашей дорогой публике нравятся небрежно сделанные произведения, немного расплывчатые, многословные, немного вялые и бессюжетные; а если возможно, они должны быть еще и скучными вдобавок». Он никогда не обольщался похвалами – даже похвалами Госса или Колвина, – так как твердо усвоил еще в детстве, что вечное блаженство всегда предназначено не тебе, а кому‑то другому. Будучи подростком, он проявлял неповиновение родителям, но никогда безоговорочно не считал себя правым, а отца виноватым. Поэтому, может быть, ему было легче, чем другому, менее щепетильному человеку на его месте, сохранить преданность своему более великому другу. Стивенсон всегда прислушивался к критике со стороны Джеймса. Он пытался защищать свою точку зрения, но никогда не обижался.
«Единственное, чего мне не хватает в этой книге, – это наглядности изображения. Мое зрительное чувство, зрительное воображение не мешало бы чуточку подкормить. Слуховое же воображение, наоборот, получает слишком много пищи, и шумные звуковые впечатления кажутся чрезмерными, особенно если принять во внимание обманутое ожидание наших глаз».
Так пишет Джеймс о романе «Катриона», и Стивенсон отвечает ему на это:
«Ваш отзыв о “Катрионе” очень помог мне в работе, особенно Ваше тонкое и правильное замечание о том, что зрительное чувство остается неудовлетворенным. Это действительно так, и если я не приложу усилий – и прежде всего не буду уверенным в их необходимости – в будущем, я боюсь, этот недостаток станет еще более заметным. Я слышу, как люди разговаривают, и я ощущаю их действия, и на этом, мне кажется, основано мое литературное творчество. Две мои основные цели можно определить так:
1– я. Борьба с прилагательными.
2– я. Война со «зрительным нервом» – если принять во внимание то, что зрительный нерв играет огромную роль в современной л итературе. Но в течение скольких веков литература обходилась без него?»
Эта книга должна понравиться всем, кто интересуется вопросами литературной техники Стивенсона, и, несомненно, поможет укрепить его несправедливо пошатнувшуюся репутацию в литературном мире. Кто осмелится относиться свысока к романисту, которому сам Генри Джеймс написал, посылая ему экземпляр своей «Трагической музы», что «он единственный представитель англосаксонской расы, способный почувствовать… как хорошо она написана»? Джеймс умел по – восточному льстить тем, кто был менее талантлив, чем он, но Стивенсона он хвалит с откровенностью и теплотой равного. «Он осветил собой целое полушарие, и часть его мира живет в воображении каждого, кто когда‑либо читал его».
Гранитная основа таланта
Репутация Стивенсона как писателя пострадала, может быть, больше всего из‑за того, что он рано умер. Ему было всего сорок четыре года, и он оставил после себя огромное количество произведений, которые можно назвать юношескими или ранними. Хотя большинство из них, безусловно, не лишено яркости и увлекательности, они производят лишь ложное впечатление зрелости, которое заставляет забыть о том, что Стивенсону, так же как и остальным людям, нужно было время для развития. И только в последние шесть лет жизни – которые он провел на Самоа – его нарядный, щегольской талант стал освобождаться от всего поверхностного и напускного, обнажая прочную гранитную основу. Как плодотворны оказались эти годы, когда были написаны «Проклятый ящик», «Владелец Баллантрэ», «Вечерние беседы на острове», «Отлив», «Уир Гермистон». Долго ли он мог держаться на этом уровне? Размышляя о его последнем, незаконченном романе, Генри Джеймс заключает со снисходительным пессимизмом:
«…причина того, почему он не закончил роман, кроется в самом тексте, который несет отпечаток смутного предчувствия автора, что ему не нужно было завершать его. Этот изящный фрагмент возвышается среди других незаконченных прозаических произведений Стивенсона как святыня незавершенного совершенства, которым отличаются развалившиеся от времени мраморные статуи».
К сожалению, репутация Стивенсона зависела от критиков, гораздо менее осторожных и тонких. Его ранние претенциозные путевые очерки; слишком личная переписка, в которой было много «вздора о правилах человеческого поведения» и жаргонных словечек, выглядевших на письме так же вульгарно, как если бы в устах пастора прозвучало неприличное слово; незрелые рассуждения о своем ремесле («Литература для взрослого человека – то же, что игра для ребенка»); ранние философские эссе на этические темы (помешенные в сборнике «Virginibus Pucrisque») – все это навязывалось публике в выходивших одно за другим изданиях его произведений. Календари до сих пор пестрят его юношескими изречениями. Его сравнительно небогатая событиями жизнь (она казалась полной приключений только степенным чиновничьим натурам вроде Колвина или Госса) была превращена в сагу; о неблагоразумии молодости предпочитали не упоминать – и в результате получился худой, бледный манекен в бархатной куртке, с усами, как у Ланга, то и дело преклоняющий колена в молитвах и изрекающий афоризмы типа: «Гораздо важней двигаться к намеченной цели, чем ее достичь» и т. д. и т. п. Неужели этим неутомимым поклонникам Стивенсона никогда не приходило в голову, что как искатель приключений, религиозный деятель, путешественник, друг и защитник «цветных» он меркнет рядом с другим шотландцем, носящим похожее, но более звучное имя: Ливингстон? Если он и останется в истории, то не как Туситала, или незадачливый любовник, едва не отошедший в мир иной в Монтеррее, или денди из Давоса, а как уставший, отчаявшийся писатель, каким он был последние восемь лет жизни, сосредоточенно и отрешенно работающий над произведениями, в которых он сам не разглядел своих шедевров.
Мисс Купер в краткой биографии Стивенсона традиционно пошла по проторенному пути, который, как замечает Джеймс, был проложен самим писателем. «Стивенсон никогда не заметал следов, – писал Джеймс. – Мы идем по ним, от года к году, от периода к периоду, так же завороженно, как следовали бы за его героем, преследуемым врагами». Как толкователь творчества писателя мисс Купер несравненно менее проницательна, чем мисс Джанет Адам Смит, которая написала, на мой взгляд, лучшую книгу о Стивенсоне в жанре краткой биографии. Нельзя согласиться с мисс Купер, когда она пренебрежительно отзывается о романе «Проклятый яшик» как о «tour de force» [127]127
Здесь:литературном фокусе (фр.).
[Закрыть], иногда оживляемом всплесками черного юмора, но с совершенно неправдоподобными характерами». Ее разбор романа «Владелец Баллантрэ» слишком примитивен даже для книги из популярной серии:
«Читатель понимает, что Генри несчастен, хотя и не в состоянии ему сочувствовать, так как Генри, нужно в этом сознаться, – порядочный зануда». О романе «Отлив» читатель узнает из книги мисс Купер только то, что это «мрачное повествование о каких‑то сомнительных личностях, действие которого происходит в южных морях».
Однако любознательный читатель сразу же обнаружит оставленный для него писателем след: Стивенсон как бы специально разбрасывает свои записки на расчищенном заранее пространстве, чтобы его преследователям было легче выследить его. Его обширная переписка создавалась не без задней мысли – он сам подал идею Колвину подготовить ее к публикации. Мисс Эмили Дикинсон необдуманно писала в одном из своих стихотворений: «Вид страдания прекрасен, так как это свойство самой жизни». Но ведь только в конце жизни человек узнает истинную цену страданиям. Сравните письма Стивенсона из Давоса («Вот лежит эта громадина, бедный Том Боулинг, и со слезами умиления вспоминает о прошлом» или «Теперь мне лучше. Мне кажется, что если я и не избавлюсь от волчонка, вцепившегося в мое плечо, то найду в себе силы с достоинством справиться с этой ношей») с письмами последнего года его жизни (у страдания, так же как у литературного творчества, есть юношеский и зрелый периоды):
«Горькая правда заключается в том, что я уже почти ничего не могу написать, и я прошу Вас не относиться слишком строго к “Сент – Иву”, когда он попадет к Вам… Сколько усилий потрачено на это неблагодарное полотно; но ничего не получается, а я должен как‑то существовать, и моя семья тоже. Если бы не мое здоровье, которое не позволило мне в молодости заняться каким‑нибудь честным, обычным ремеслом, я бы постоянно корил себя, что вовремя не подумал о том, как обеспечить свою старость… В моем творчестве было чуть – чуть вдохновения и немного стилистических уловок, давно забытых, но все это помножено на титанический труд. Пока что мне удавалось нравиться журналистам. Но я надуманная фигура, и давно это знаю».
За месяц до этого в письме к своему другу Бакстеру он признался в попытке превратить «безрассудное поведение» в религию и сравнил монотонность своей веры с новизной нарождающегося в Европе анархизма, сторонники которого «совершают подлые убийства, умирают как святые, оставляют после себя трогательные письма… Их поведение необъяснимо, но духовная жизнь привлекает своей насыщенностью». «Si vieillesse pouvait» [128]128
Если бы старость могла… (фр.)
[Закрыть], – процитировал он, а Колвин добавил многоточие. Он был на пороге романа «Уир», старая гладкая поверхность треснула, сквозь нее стал проглядывать гранит. Но именно там, где лопата натыкается на камень, и должен копать биограф.






