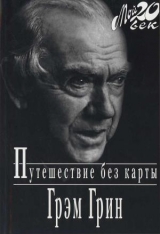
Текст книги "Путешествие без карты"
Автор книги: Грэм Грин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 32 страниц)
«Наш Спаситель велит нам возлюбить врагов своих; это часто бывает легче, чем не испытывать ненависти к тем, кого мы любим».
Будь Паскаль романистом, это был бы его метод и стиль.
Бремя детства
Есть писатели, столь различные между собой, как, например, Диккенс и Киплинг, которые так и не стряхнули с себя бремени своего детства. Диккенс никогда не забывал своего тяжелого существования на фабрике ваксы, так же как и Киплинг свою жизнь у бессердечной тети Розы на пыльной пригородной улице. Все пережитое ими впоследствии уходит своими корнями в эти несчастные месяцы или годы. Жизнь, обычно поворачивающаяся к нам своей жестокой стороной в то время, когда мы начинаем овладевать искусством самозащиты, настигла этих двух писателей врасплох в беззащитном раннем детстве. Реакция их не могла быть более различной: Диккенс научился состраданию, Киплинг – жестокости; Диккенс выработал стиль такой естественный и непринужденный, что мог, казалось, объять своим пониманием все человечество, – Киплинг создал великолепно сконструированный механизм разъединения. Иногда персонажи его бывают похожи на тарахтящие на конвейере спичечные коробки.
В детских годах Киплинга и Саки много общего, и по своей реакции на пережитое Саки ближе к Киплингу, чем к Диккенсу. Киплинг родился в Индии, Г. Н. Манроу (я сбрасываю бессмысленную маску псевдонима) – в Бирме. У таких детей не бывает настоящей семьи. Невзгоды, о которых пишут Киплинг и Манроу, испытало множество безвестных и безгласных детей, родившихся в семьях чиновников или офицеров колониальных войск: прибытие в кэбе к дому незнакомых до той поры родственников, распаковывание чемоданов, наскоро устроенное подобие детской, ужасный момент расставания с родителями и на протяжении четырех лет – период, в детском измерении равный поколению (в четыре года ребенок еще младенец, в восемь – мальчик), – отсутствие чьей бы то ни было любви. Киплинг описывает это страшное время в «Паршивой Овце», рассказе, который невыносимо читать, несмотря на его сентиментальность: молитвы тети Розы, побои, приколотая на спине бумага с надписью «лжец», прогрессирующая, никем не замечаемая потеря зрения и наконец – взрыв протеста.
«Если ты меня будешь заставлять это делать, – сказал Паршивая Овца очень спокойно, – я сожгу дотла этот дом и, наверно, убью тебя. Не знаю, сумею ли я убить тебя, ты такая костлявая, но я постараюсь». За этим святотатством не последовало никакого наказания, хотя Паршивая Овца был готов вцепиться в сморщенную шею тетушки Розы и не отпускать, пока ее у него не отобьют!
В последней фразе мы слышим нечто напоминающее голос Манроу, звучащий в одном из лучших его рассказов – «Sredni Vashtar». Ни его тетя Августа, ни тетя Шарлотта, у которых он жил после смерти матери возле Барнстепла, не отличались бесчеловечной жестокостью тети Розы, но Августа была вполне способна превратить жизнь ребенка в мучение. Сестра Манроу писала: «Это была примитивная натура, с неукротимым нравом, необузданная в своих симпатиях и антипатиях, властная, трусливая, без сколько‑нибудь заметных признаков интеллекта». Манроу самого не били, Августа предпочитала упражняться над его младшим братом, но мы можем ощутить всю меру его ненависти к ней в рассказе о Конрадине, маленьком мальчике, чьи мольбы об отмщении, обращенные к его ручному хорьку, не были напрасными. «“Кто же сообщит это ужасное известие бедному ребенку? – раздался чей‑то пронзительный голос. – Я ни за что не могла бы”. И пока они обсуждали это между собой, Конрадин приготовил себе еще один тост». Несчастье как нельзя лучше стимулирует память, и лучшие рассказы Манроу посвящены детству, его беспечному веселью, наряду с жестокостью и страданием.
Реакция Манроу на эти годы существенно отличается от реакции Киплинга. Его стиль, рожденный самозащитой, также подобен механизму, но какими искрами сыпал этот механизм в действии! Киплинг защищался мужественностью, искушенностью в житейских делах, воображаемыми приключениями солдат и создателей Британской империи. Хотя некоторую ностальгию по такой жизни можно найти и у Манроу в «Невыносимом Бессингтоне», но защищался он главным образом эпиграммами, которыми его произведения начинены, как пирог изюмом. Еще в молодости, пытаясь с помощью отца сделать карьеру в бирманской полиции, он в 1893 году сетовал в письме на свою сестру, не потрудившуюся посмотреть «Женщину, не стоящую внимания». Реджинальд и Кловис – это дети Оскара Уайльда: непрерывный поток эпиграмм и нелепостей ослепляет и очаровывает, но за ними скрывается ум менее снисходительный, более жесткий, чем у О. Уайльда. Кловис и Реджинальд не волшебные существа, они ближе к миру реальному, чем Эрнест Мальтраверс. Если Эрнест, подобно рубенсовскому купидону, парит среди неправдоподобно голубых облаков, сфера Кловиса и Реджинальда – это парк, файв – осколок в Кенсингтоне и вечера в Ковент – Гарден; можно сказать, что на них, как на суфражистках, отпечаток своего времени. Им не удается скрыть, несмотря на остроту и блеск, одиночество барнстеплских лет; они спешат причинить боль раньше, чем заденут их самих, и разящие остроумные реплики ранят, как трость тети Августы. Рассказы Манроу – это по преимуществу рассказы о сыгранных с кем‑то шутках. Жертвы этих шуток обычно слишком глупы, чтобы возбуждать сочувствие, все это люди средних лет, облеченные властью. То, что им приходится ненадолго оказаться в унизительном положении, вполне справедливо, поскольку в конечном счете свет всегда оказывается на их стороне. Манроу, как благородный разбойник, грабит только богатых; все его рассказы основаны на остром чувстве справедливости. Этим они отличаются от рассказов Киплинга в том же жанре – «Деревня, которая проголосовала за то, что земля плоская» и других, где шутки заходят слишком далеко. У Киплинга основное побуждение – это месть, а не справедливость (тетя Роза утвердилась в сознании своей жертвы и развратила его).
Возможно, я слишком подчеркиваю жестокость у Манроу. Иногда его рассказы напоминают только жизнерадостно – беззаботную панораму эдвардианской эпохи: молодые люди в канотье, ложа в опере, сандвичи с огурцами к чаю, поданному в тончайшем фарфоре, непринужденная, изящная болтовня.
«Не спеши быть первым в чем бы то ни было. Именно первому христианину достается самый жирный лев».
«Возьмите, например, Марион Малсибер. Она упорно считала, что может съехать на велосипеде под гору. В тот раз она попала в больницу, теперь она вступила в какую‑то религиозную общину. Утратив все, что у нее было, остаток она предоставила небесам».
«Ее туалеты изготовляются в Париже, но носит их она с сильным английским акцентом».
«Требуется немало мужества, чтобы демонстративно удалиться в середине второго акта, тогда как ваш экипаж не подадут раньше полуночи».
Грустно думать, что эта жизнерадостность и беззаботность не могла длиться бесконечно, но самая скверная и жестокая шутка пришлась на конец. Герой Манроу, остроумный циник Комус Бессингтон, нелепо умер от лихорадки в Западной Африке. Ранним утром 13 ноября 1916 года из мелкой воронки возле Бомона раздался голос Манроу: «Потуши ты эту проклятую сигарету». Кто бы мог предсказать, что это были последние слова Кловиса и Реджинальда.
«Болят суставы, головные боли…»
Печально, что малые нации стремятся всецело завладеть своими великими людьми, как ревнивая жена мужем. Вальтер Скотт, Стивенсон, Бернс, Ливингстон… Соотечественники относятся к ним как к своей собственности, их величие неприкосновенно, и ему не позволено расти или уменьшаться с течением времени. Они даже пошевельнуться не могут в своих могилах под бременем возведенных над ними памятников: успех сувенирного бизнеса, развернувшегося вокруг их имен, целиком зависит от безоговорочного подчинения мертвых живым. Целая армия музейных работников, технических секретарей и гидов, находящихся на государственной службе, хранит их память. (Шестьдесят пять тысяч человек ежегодно переступают порог мемориального музея Ливингстона в Блантайре с его цветной скульптурой и тематическими залами, которые знакомят нас с предками писателя, его детством, путешествиями.) Ливингстон– путешественник страдает от созданной вокруг него легенды не меньше, чем Ливингстон – писатель, так как путешественник тоже творческая личность. Подобно тому как тело Стивенсона, вознесенное на вершину холма на одном из островов Самоа, заставляет нас забыть о писателе, бьющемся над образом Гермистона, драма с миссионерской моралью – по крайней мере так представлена последняя экспедиция Ливингстона – заслоняет от нас терпение, монотонность и усталость, сопровождающие любое путешествие, если оно связано с географическими открытиями и устранением белых пятен на карте. Самое главное – отошло на задний план поражение Ливингстона: мы нигде не найдем фотографий или рисунков с изображением кровавой резни в Блантайре. (Доктор Макнайр не способствует выяснению истины, называя Ливингстона Исследователем, Путешественником, Миссионером – с большой буквы.
Я предпочитаю четкие и логичные географические заметки, изданные Рональдом Миллером.)
Достоинство этого сборника в его сухости и педантичности: читатель сам должен как следует потрудиться, чтобы наглядно представить себе описываемые события. Для Ливингстона красоты природы или драматизм ситуаций не были главными. Его интересовало сначала расположение миссионерских стоянок, потом открытие торговых путей, которое, по его мнению, могло способствовать исчезновению рабства. Открытие озер Ширва и Ньяса не было для него событием; это произошло случайно.
«Мы обнаружили озеро Ньяса незадолго до полудня 16 сентября 1859 года. Его южные очертания простираются до 14°25 южной широты и 35°30′ восточной долготы. В этом месте ширина долины – около 12 миль. По обеим сторонам озера возвышаются холмы».
Сюжет книги лежит на поверхности, но ее содержание глубже: «Истоки Нила важны для меня лишь как средство самоутверждения».
Совершенство художественного выражения не было целью Ливингстона: ему важно было сообщить факты, для восприятия которых достаточно беглого чтения. («Жаль, что важная информация о двух огромных горных хребтах осталась неизвестной христианскому миру».) Однако в молодости, когда он писал свои «Путевые записки миссионера и исследователя: Замбези и ее притоки», он считал нужным следовать викторианским образцам книг о путешествиях:
«Мы стали быстро подниматься вверх по реке. Этот великолепный поток часто достигает мили в ширину и украшен множеством островов от трех до пяти миль в длину. Пейзаж здесь во многом обязан своей красотой финиковым пальмам с их яркими светло – зелеными изящно вырезанными листьями и величественным, возвышающимся над всем и вся пальмирским пальмам, чьи листья, словно опахала, покачиваются на фоне безоблачного неба. Берега реки равномерно покрыты лесом, и большинство деревьев тянется к воде корнями, как баньян. За лесом местность становится скалистой и неровной, там живут слоны и другие крупные звери, кроме тех, которые не любят каменистой почвы».
Вся эта красивость оказалась ненужной, когда Ливингстон перестал заботиться о продаже своих книг на родине, хотя это и давало ему возможность заниматься своим делом. В последних его дневниках мы находим характерное для него суровое и правдивое описание событий. Сделанные исключительно для себя, эти описания дают совершенно новое представление о личности миссионера, которого привыкли изображать в островерхой консульской шапке, с Библией в руках, окруженным толпой туземцев, обращенных в истинную веру. В действительности же это был изнуренный, разочарованный человек (поскольку теперь он зависел от тех самых работорговцев, против которых боролся), во всем сомневающийся (даже в судоходности реки Замбези, которая до тех пор казалась ему бесспорной), кроме простой евангелической веры, свободной от сложных теологических догматов – есть только Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Апостольский символ веры был ему ближе, чем более поздние учения.
Даже неискушенный читатель сразу почувствует, насколько тяжелой была эта семилетняя экспедиция. Автор этих строк также испытал на себе, что значит четырехнедельное путешествие пешком по Африке, в течение которого один раз бастовали носильщики, встретился один «плохой» вождь, была одна ночь, проведенная в сильном жару, да еще в последние несколько дней иссякли запасы продовольствия. Но, увеличив продолжительность этого испытания в сотни раз, а лишения и невзгоды – во много сотен раз, еще раз поражаешься тому, как Ливингстон мог так долго продержаться вдали от цивилизации. Доктор Миллер великолепно описывает условия, в которых проходят все путешествия по Африке; дороги, которые чаще всего никуда не приводят, напоминают там паутину:
«Одной из особенностей африканского континента является замкнутая сеть пешеходных троп, которые есть повсюду. Это очень удобно для передвижения на небольшие расстояния, но сбивает с толку приезжего, который хочет пересечь страну из конца в конец. Он начинает всецело зависеть от проводников, которые могут намеренно или случайно повести его не той дорогой или просто парализовать его действия, отказываясь сопровождать его в пути… Ливингстона, как и многих других путешественников, выводили из себя дорого ему обходившиеся задержки в пути, вызванные тем, что вожди отказывались давать ему проводников. Плавая по рекам, он, конечно, уточнял карту с помощью секстанта, но этот прибор был неспособен показать, какая тропа от развилки ведет в поле, а какая – к ближайшей деревне; которая приводит к болоту, а которая – к переправе вброд».
Вот несколько записей, сделанных во время путешествия:
Рождество 1866 г.«Вся моя еда – это немного грубой овсяной каши, почти безвкусной, которая заставляет меня мечтать о лучшей пище».
Январь 1867 г.(заканчивался первый год великого путешествия). Сбежавшие носильщики украли «всю посуду, большой яшик с порохом, муку, купленную по высокой цене, которой должно было хватить до Чамбези, инструменты, два ружья и патронную сумку; но самой большой потерей была аптечка. Я чувствовал себя так, как будто бы мне вынесли смертный приговор, как бедному епископу Макензи».
Октябрь 1867 г.«Болят суставы; головные боли; нет аппетита; мучает жажда».
Декабрь 1867 г.«Я так устал от путешествий…»
Июль 1868 г.«Здесь мы сварили немного каши, и я прилег в стороне от костра, а гребцы и мои помощники – в середине, у огня. Вскоре я заснул, и мне снилось, что я снимаю роскошный номер в отеле Миварта».
5 июля 1872 г.(Стенли в это время уже не было.) «Устал! Устал!» Но впереди еще было десять месяцев пути.
Все эти последние месяцы семилетней экспедиции Ливингстон и его спутники провели на земле прерии, унылой и иссушенной. Те остатки почвы, которые иногда встречались, прилипали к ногам, как пластырь. Однажды ночью выпало шесть дюймов осадков. Каноэ погрузились в воду и застряли в иле; палатки стали гнить, одежду не удавалось высушить. Иногда читателю дневников может показаться, что Ливингстон забыл о цели своего путешествия, которая заключалась не в том, чтобы выяснить предел человеческой выносливости, а в том, чтобы дойти до реки Луалаба и спуститься вниз по течению в надежде, что она приведет его к Нилу и его истокам (но даже это было только лишь средством для того, чтобы сделать Африку доступной для европейцев и способствовать расцвету торговли и уничтожению рабства). Он находился теперь как бы на земле Чайльд – Роланда: «В этом царстве воды и муравейников бродил лев, и его рычание раздавалось днем и ночью». Как далеко он был теперь от изящно вырезанных пальмовых листьев, живописных рек, величественных пальмирских пальм. Как Стивенсон, мучающийся над романом «Уир Гермистон», Ливингстон достиг вершины к моменту смерти.
Как это ни странно, эти два шотландца во многом похожи. Сквозь литературный лоск «Молитв из Ваилимы» просвечивает наивность веры, сходная с той, которая была у Ливингстона. Не от шотландского ли воспитания исходит это умение сожалеть без раскаяния, прощать себя и признавать свои слабости, умение вверить себя Богу? «За прощение и предупреждение наших грехов, за сокрытие нашего позора мы благословляем и благодарим Тебя, Господи». Так говорит Стивенсон, и то же мы читаем у Ливингстона:
«Заканчивается 1866 год. Он не был таким плодотворным и успешным, как я хотел. В 1867 году я постараюсь достичь большего и стать лучше – более добрым и любящим. И пусть Всемогущий, которому я вверяю свою судьбу, исполнит мои желания и поможет мне. Да будут отпущены нам все грехи прошлого года».
В конце прошлого года оба испытали горечь поражения. Кто из двоих страдал больше? Стивенсон, который за два месяца до того писал: «Я надуманная фигура, и давно это знаю. Меня читают лишь журналисты, мои коллеги – писатели и дети», или Ливингстон, оказавшийся вовлеченным в работорговлю, которую он ненавидел: «У меня сердце разрывается при виде человеческой крови… Мне кажется, что Божья милость и воля оставили меня».
Их последнее желание было одинаковым. Трудно не вспомнить могилу Стивенсона на горе Веа и его слишком известные строки: «Он там, куда шел давно» [131]131
Перевод. А. Сергеева.
[Закрыть], когда мы читаем запись в дневнике Ливингстона от 25 июня 1868 года:
«В лесу мы наткнулись на могилу. Это был маленький круглый холмик, как будто его обитатель не лежал, а сидел в нем. Она была посыпана мукой, сверху лежало несколько крупных бусин. Узкая тропинка говорила о том, что эту могилу навещали. Я бы хотел быть похоронен в такой могиле. Лежать в тихом – тихом лесу, где никто не мог бы потревожить мой прах. Могилы на родине кажутся мне неуютными и тесными, особенно вырытые в холодной, сырой глине».
К последнему желанию Ливингстона, в отличие от Стивенсона, отнеслись с меньшим уважением, так как его набальзамированное тело было отправлено на родину, в «сырую глину» и «тесное пространство» в нефе Вестминстерского аббатства.
С тех пор как умер Ливингстон, прошло около ста лет, и теперь мы можем оценить всю глубину его поражения в Восточной Африке. Были открыты торговые пути и уничтожена работорговля, но основной урок, вынесенный из опыта его жизни, был совершенно забыт. Ливингстон писал об африканцах: «Добиться их нравственного возвышения можно с большим успехом, если наставник не будет прибегать к силе, вызывающей у них зависть или страх». В той же книге он написал: «Дикари заслуживают вежливого обращения так же, как и цивилизованные люди». Однако за то время, пока он находился в обществе Стенли, придерживающегося других взглядов, он не смог существенно повлиять на своего спутника. Будущее Восточной Африки принадлежало именно Стенли с его пулеметами и кожаными плетками, и именно эти методы вызвали недоверие и ненависть к белым, надолго воцарившиеся в Африке.
Смутно – сладенькая страна
Призрак – a revenant – не ожидает быть узнанным, навещая некогда знакомые ему места. Если он вызывает у вас чувство страха, это скорее его собственный страх, не ваш. Места настолько изменились с тех пор, как его не стало, что ему приходится с трудом отыскивать дорогу в джунглях новых домов и перестроенных комнат (ведь сталь и бетон размножаются, как тропическая растительность). Поскольку же сам он не изменился и воспоминания его остались прежними, призрак убежден, что он невидим. Вернувшись во Фритаун и Сьерра – Леоне прошлым Рождеством, я думал, что принадлежу какому– то странному прошлому, которое было только моим. Поэтому я был поражен, когда в первый мой вечер меня окликнули по имени, чья– то рука сжала мой локоть и чей‑то голос сказал: «Скоби, а кто такой Скоби?» и «Пуджехун, помнишь мы встретились в Пуджехуне? Я был тогда в департаменте общественных работ. Давай зайдем в “Сити”, выпьем».
Я приехал на работу в Сьерра – Леоне более четверти века назад и высадился во Фритауне после четырехмесячного плавания из Ливерпуля. У меня было ощущение полной нереальности. Как это произошло? Под звуки кухонного оркестра из вилок и сковородок я спустился с грузового судна компании «Элдер Демпстер» в моторный катер, где меня встретил министр сельского хозяйства, чьим гостеприимством мне предстояло временно воспользоваться, который явно ожидал чего‑то менее легкомысленного. Кирпичный англиканский собор возвышался над местом моей высадки, точно как это было в 1935 году, когда я впервые посетил Фритаун. Ничто не изменилось в захудалом, обветшалом, зачарованном городке с увитыми цветами балконами, жестяными крышами и похоронными конторами, но я не мог вообразить себе в свое первое посещение, что когда‑нибудь приеду сюда на работу и стану одним из этих усталых мужчин, пьющих на закате джин в баре отеля «Сити».
Ощущение полной нереальности всего происходящего усиливалось с каждым часом. Я должен был лететь в Лагос, где мне предстояло работать три месяца до возвращения во Фритаун, и счел за благо уведомить моего хозяина, что мы еще увидимся. «А что именно вы собираетесь здесь делать?» – спросил он. Я дал нарочито неопределенный ответ, поскольку никто еще не разъяснил мне, какого рода «прикрытие» будет у меня в этом мире, совсем непохожем на мир Джеймса Бонда. Все, что мне было известно, – это мой номер (не 007). Я обрадовался, когда в бар зашел сурово – сосредоточенного вида майор с большими усами и можно было изменить тему разговора. «Пройдемся?» – неожиданно предложил он. Идея была несколько странной в это время дня, но я согласился. Мы пошли по дороге в дымке горячего пыльного ветра.
– Жарковато здесь, не находите? – сказал он.
– Да.
– Влажность 95 процентов.
– В самом деле?
Он свернул в палисадник.
– Это пустой дом, – сказал он. – Хозяин в отпуске.
Я послушно за ним следовал. Он сел на большой камень и сказал:
– Есть для вас информация.
Я осторожно сел с ним рядом, помня услышанное в детстве предостережение, что от сиденья в жару на камне бывает геморрой.
– В прошлую пятницу была связь. Вы инспектор ОВТ. Понятно?
– Что такое ОВТ?
– Отдел внешней торговли, – сказал он резко. Неосведомленность в этом новом мире разведки считалась проявлением некомпетентности.
В то же время это известие принесло мне облегчение, и за завтраком у министра я осторожно навел разговор на мое будущее во Фритауне.
– На самом деле, вам‑то я могу сказать, хотя это официально еще и не объявлено, что я буду инспектором ОВТ.
– ОВТ?
– Отдел внешней торговли.
Он скептически посмотрел на меня и был совершенно прав, так как вернулся я уже совершенно в другом качестве. ОВТ, как я слишком поздно узнал в Лагосе, отказался создать прикрытие для лжеинспектора. Попытка посягнуть в этом плане на невинность Британского Совета также не увенчалась успехом. После этого мне угрожали по очереди званиями в ВМС и в ВВС, пока не обнаружилось, что, если меня не произведут в капитаны 3 ранга или в полковники, мне не положено ни отдельного кабинета, ни сейфа для кодов. Когда я вновь вернулся во Фритаун, то оказался каким‑то неопределенным образом прикомандированным к полиции, что было несколько трудно объяснить тем, кто ожидал встретить в моем лице инспектора ОВТ.
Вся моя жизнь во Фритауне отличалась такой же неопределенностью. Для нашего аппарата я не существовал, поскольку меня не было в списке сотрудников министерства колоний, где значились зарплата и статус каждого, а для местных жителей я был еще одним из труднодоступных правительственных чиновников. Я жил один в маленьком домике, пространство вокруг которого во время дождей превращалось в болото. Напротив был нигерийский пересыльный лагерь, привлекавший грифов, а позади – заросли кустарника, служившие общественной уборной и привлекавшие мух. По этому поводу у меня было одно успешное столкновение с администрацией. Когда я послал письмо министру колоний с требованием построить уборную для африканцев, он ответил, что с моей просьбой следует обратиться по соответствующим каналам через полицейского комиссара.
В ответ я процитировал слова Черчилля во время войны о «соответствующих каналах», и сарай был‑таки построен. Тогда я снова написал в министерство, что в анналах Фритауна мое имя, как имя Китса, будет начертано на воде. На некоторое время моя изоляция особенно усилилась, когда я поссорился со своим боссом в Лагосе, за 1200 миль, и он перестал высылать мне деньги на жизнь (или платить моим почти несуществующим агентам).
За период этого долгого молчания у меня было много времени снова задуматься, зачем я здесь. Наша жизнь формируется в детские годы, и когда недавно я начал писать о первых двадцати пяти годах моей жизни, мне было любопытно отыскать в них хоть какие‑то намеки на то, что могло привести человека средних лет в это влажное одиночество, вдали от семьи, друзей, от настоящей профессии.
Из пережитого родился мой первый успех – «Суть дела», но я начал писать эту книгу только четыре года спустя, после того как все нелепости уже стерлись у меня в памяти. Из соображений безопасности мне было запрещено инструкцией вести дневник, меня также обучили употреблению чернил для тайнописи, которыми я никогда не пользовался, или птичьего помета, если чернил не хватит (грифов там было множество, три или четыре обычно сидели у меня на крыше, но я не думаю, чтобы их помет имелся в виду).
Начало моей жизни в качестве агента 59200 было неблагоприятно. Я известил о своем благополучном прибытии, используя в качестве кода книгу (я выбрал роман Т. Ф. Поуиса, откуда я мог извлекать для собственного развлечения малопристойные фразы), и со следующим конвоем прибыл большой сейф с листочком инструкций и моими кодами. Кодовые списки были особенно интересны, поскольку в их неизбежно ограниченном словаре попадались самые неожиданные слова. Кому бы могло понадобиться слово «евнух», думал я, и не успокоился, пока не нашел возможности воспользоваться им сам в сообщении моему коллеге в Гамбии: «Как сказал главный евнух я не могу повтор не могу прибыть». (Странные развлечения находишь в одиночестве. Помню, как однажды я полчаса стоял на лестнице, ведущей в мою спальню, наблюдая за соитием двух мух.)
Сейф был совсем другое дело. Я совершенно неспособен читать любые инструкции технического порядка. Выбрав цифры, я набрал их, на мой взгляд, правильно, убрал мои вновь приобретенные коды, захлопнул сейф и попытался открыть его – тщетно. Вскоре я понял свою ошибку: я пропустил строчку в инструкции – и набор представлял теперь совершенно не известную мне цифру.
Телеграммы ждали декодирования и отправки. С трудом, при помощи Т. Ф. Поуиса, я солгал Лондону, что сейф был поврежден при транспортировке, пусть пришлют другой со следующим конвоем. Коды были спасены из вскрытого автогеном сейфа и помещены временно в резиденции губернатора.
Я с нетерпением ожидал вечеров и отправлялся вдоль заброшенного железнодорожного пути на склонах за Хилл – Стейшн, возвращаясь на закате, чтобы принять ванну, прежде чем появятся крысы (по ночам они раскачивались в спальне на шторах). Затем, свободный от телеграмм, я садился писать «Ведомство страха». Виски, джин и пиво строго нормировались, но некоторые дружески ко мне расположенные морские офицеры снабжали меня вином, поступавшим из Португальской Гвинеи, минуя таможню. В полнолуние голодные бродячие собаки не давали мне спать своим воем. Я поднимался, натягивал ботинки на ноги, прямо на пижамные брюки, и разряжал свою ярость, ругаясь и швыряя камни в узкий проулок за моим домом, где жила самая беднота. Мой бой говорил мне, что меня называли там «плохой человек». Поэтому, покидая Фритаун, как я думал навсегда, я послал несколько бутылок вина к свадьбе в одну из хижин, в надежде оставить о себе лучшее воспоминание.
В отеле «Сити», где началась «Суть дела», я бывал нечасто. Там можно было спастись от озабоченных протоколом сотрудников секретариата. Это был дом, родной для людей, кому ни на одном из поворотов их долгого жизненного пути не повстречался успех и которые уже не надеялись на эту встречу. Это не были бродяги, поскольку у них была работа, но работа эта была непрестижной. Это были неудачники, но они знали об Африке больше, чем те преуспевающие, кто ожидал перевода в колонию повиднее и старался как бы не подпортить свое личное дело. В баре отеля «Сити» собирались люди, которые состарились на своих постах без всякого продвижения, и все же они были неизмеримо моложе, чем молодые помощники министров. В них еще жила мечта, приведшая их в Африку: мечта не зависит от повышения по службе. Немногим более чем через полгода я был там как дома – я тоже начинал чувствовать себя неудачником.
Все мои блестящие идеи были самым решительным образом отвергнуты: спасение мнимыми коммунистическими агентами левого агитатора, находящегося под домашним арестом (я собирался поместить его, воображающего, что он работает на русских, в Конакри, которое находилось в ведении правительства Виши); открытие публичного дома в Бисау для посетителей из Сенегала. Португальские лайнеры прибывали и отбывали с контрабандой алмазов, и при самых тщательных обысках – от риса в мешках до косметики в каютах – не нашлось ни единого камня. В баре мне иногда случалось забыть о неотвязном вопросе, что я здесь делаю, потому что ответ был, вероятно, тот же, какой могли дать и мои собеседники: побег из школы? Повторяющийся отроческий сон? Прочитанная в детстве книга?
Вернувшись во Фритаун прошлым Рождеством, я нашел отель «Сити» совершенно неизменившимся. Какой‑то белый смотрел с балкона, откуда Уилсон наблюдал за идущим по улице Скоби, и он помахал мне рукой, словно только вчера я заходил туда в последний раз. Не было только сикха в тюрбане, который предсказывал будущее в общественном душе, за неимением другого уединенного места. В углу балкона местный житель наигрывал грустные рождественские калипсо, а проститутка в алом платье танцевала, чтобы привлечь к себе внимание (внутрь их не пускали). Даже добродушный грустный швейцарец – хозяин был все тот же, более чем тридцать лет он не покидал Фритаун. Он уцелел и в этом смысле преуспел, но, возможно, сама убогость такого преуспеяния и делала его захудалый бар «вторым домом».
На следующий день я пошел поискать мой старый дом. Четверть века назад органы здравоохранения признали его непригодным для жилья, так что его могло уже и не быть. Сначала мне так и показалось. На месте нигерийского пересыльного лагеря стояла новенькая итальянская авторемонтная мастерская, заросли, где была построена уборная, занимал теперь жилой квартал, и на улице, где завывали бродячие собаки, стояли отличные дома (один из них занимал генеральный секретарь Совета национальных реформ, правивший в то время в Сьерра – Леоне). Я не сразу узнал мой старый дом, ярко выкрашенный, с палисадником на месте болота. Маленький кабинет стал кухней, блеклую жилую комнату с казенной мебелью оживляли теперь портреты в абстрактном стиле молодой аборигенки. Я поднялся наверх, заглянул в спальню, где некогда раскачивались на шторах крысы теперешний владелец сказал, что крысы остались, – и остановился на лестнице, где я так долго наблюдал за мухами. Этот образ напомнил мне томительную скуку моего отрочества, юношу, играющего в русскую рулетку… Возможно, все это и привело меня в голую пустыню Брукфилда.






