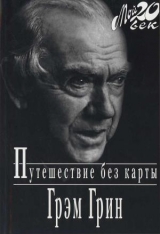
Текст книги "Путешествие без карты"
Автор книги: Грэм Грин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 32 страниц)
22 декабря
Снова похолодало, но около восьми мы повернули на юг, а после ленча часть судов конвоя повернула на юго – запад. Мы с тоской смотрели, как они скрылись за горизонтом.
Стрелок, он служил в почтовом ведомстве, дрожит в своем свитере; грустные карие глаза – один из двух военных моряков нашего экипажа. Жаловался на невозможность раздобыть чехлы для своих пулеметов, ржавеющих от соленой воды. В пароходстве «Элдер Демпстер», говорит он, полно молодых женщин, которые то и дело заваривают чай: «Похоже, что у них сколько угодно и чая, и сахара». Замечаю, что на судне все время что‑то привязывают, крепят веревками, балансируя в самых невероятных позах.
Покончил с «Родителями и детьми» Комптон – Бернетта, разделался с Конгривом в «Британских драматургах» [120]120
Не штормовое ли море и пронизывающие холодом вахты вынудили меня так резко отозваться о Конгриве? «У бедного, презираемого Крауна в “Сельском острослове” не менее прекрасные сцены, у Шедуэлла больше живости, а Уичерли гораздо более театрален, – Конгрив же, словно угодливый школьник, захватил все награды». – Прим. автора
[Закрыть], сыграл с поляком три партии в шахматы, одну из них выиграл.
23 декабря
Выпили вместе со старшим стюардом. Его охватывает страх по ночам. Все еще не отправился спать, лежит на своем диванчике. Глубинные бомбы и запасы взрывчатки находятся как раз под его каютой.
Легенда об иностранных судах в составе конвоя, которые специально зажигают огни, чтобы дать знать противнику. В этом случае командир конвоя назначает место сбора, и конвой рассеивается. Иностранное судно, подошедшее к месту сбора, оказывается в одиночестве: остальные суда конвоя сменили курс.
Первый раз за все время днем по – настоящему греет солнце и море синее. Играл в шахматы с поляком. Избежать этого невозможно. Стоит мне прилечь после обеда, он просовывает свою бритую монгольскую голову в дверь каюты с вопросом: «Сыграем?» За шахматами он неизменно напевает: «Хорошо, хорошо, это очень хорошо» – и то и дело пытается взять ход обратно. Я выиграл одну партию из четырех.
24 декабря
Все больше тепла и солнца. Идем в виду Азорских островов. Снова собираемся перед ленчем вместе со стюардом, интендантом и «Глазго». Стюард показывает, как проверить «французское письмецо». Мы их надуем, это будут воздушные шары. На палубе несем вахту в шезлонгах.
Вечер начался с полбутылки шампанского. Обед с боном, портвейном и бренди. Потом – вниз, к стюардам, помочь им с праздничными украшениями, а там и сам праздник до половины третьего ночи. Воздушные шары повесили над креслом капитана. Неф – стюард Дэниэл стоял на руках, заложив ноги за голову. Морская авиация спела «Парнишку Дэнни», «Когда в глазах ирландских смех», «На Уидикемской ярмарке» и подобное в том же роде. Тронутый второй стюард всем надоел со своим заученным номером: мы уже столько раз слышали эти стихи во славу тех, кто охраняет торговый флот, написанные его дочерью, которые он декламирует неизвестно по каким соображениям в стальной каске. Старший стюард напялил на себя суконную кепку и с пафосом прочитал стихи о фонарщике. Затем выступил кок в фязной белой фуфайке и фязном белом переднике, с изможденной, чахоточной, фанатичной физиономией, длинным носом, осфым как бритва, и фехдневной щетиной. Он спел превосходную меланхолическую балладу о том, как пошел ко дну «элдер – демпстерский пароход “Вестрис”».
25 декабря
Первый день Рождества начал в 11 часов утра с бутылки шампанского в качестве лекарства с похмелья. За ленчем – передача всеимперской радиослужбы и довольно мрачная речь короля. Обед с грандиозным меню. Закуски, суп, жареная мерлуза, консервированная спаржа, жареная индейка и чиполатас, плам – пудинг, грейпфрутовое мороженое. Как в мирное время. Тосты за короля, за Черчилля, за Рузвельта (для У.), за Сикорского (для поляка) и пр. Потом капитан, помощник и старший механик удалились в курительную. Застенчивый офицер – резервист пытался пропеть псалмы (единственное, что он знал), но атмосфера для этого была не очень‑то подходящей. Поиграли в фанты – загадки. В полночь, по традиции, спели «За счастье прежних дней» и разошлись – после чего я обосновался за шахматами с поляком. Тоска по дому меньше, чем можно было бы ожидать. Наверное, из‑за выпивки. Около пяти утра был разбужен взрывом: подумал было, что досталось какому‑то из судов конвоя, но это мог быть и порыв ветра при перемене курса.
26 декабря
Не о чем писать, одолевает сонливость. Даже конвой наш как‑то повыдохся – поблекший как никогда, и никаких разноцветных флажков.
27 декабря
Старший стюард совсем раскис. В прошлый раз его торпедировали на этом самом месте: в девяти днях пути от Фритауна. Они потеряли семь судов за три ночи, его судно было последним. Не следует упускать из виду наличие таких вещей, как морские проходы в Атлантике, но между Дакаром и Фритауном африканский континент образует выступ навстречу аналогичному бразильскому выступу, и эта часть океана – раздолье для вышедших на охоту подводных лодок. Разумеется, ни один моряк не сомневается в том, что эти подлодки пользуются базой в Дакаре – что бы ни говорили политики.
Все теплее и солнечнее. Читаю «Серого кардинала» Хаксли – с неожиданным удовольствием.
Вечером вот уже третье шлюпочное учение. После этого на палубе почти никого, хотя вечер прямо‑таки благоуханный. Не знаю, один ли я все время нахожусь в напряжении или то же испытывают и остальные.
28 декабря
День рождения дочери. Шампанское в ее честь перед ленчем и вечером две бутылки кларета. Затем – вечеринка в каюте старшего стюарда. Такое ощущение, будто избавляешься от воздействия наркоза; чувствую, что начинаю бояться одиночества, которое ожидает меня после окончания плавания. Начисто отказался от джина – от него такая тоска.
29 декабря
Жару и впрямь включили на полный ход. Весь день идем очень медленно – предположительно к месту сбора. Ночью – как повелось – снятся кошмары: снова во тьме, в ловушке.
30 декабря
Авария на флагманском корабле. С ним остается один из кораблей сопровождения. Говорят, что мы примерно на широте Дакара.
С полудня ужасно жарко. Читаю на палубе. «Зло под солнцем» Агаты Кристи и Рильке. Словно самый обычный, преисполненный лени день морского плавания мирного времени. Невозможно избавиться от ощущения, что сейчас мир и ты отдыхаешь, и тут же возникает мысль, что в любой момент может раздаться взрыв.
Собираемся перед ленчем и перед обедом в каюте стюарда. Обычные истории из жизни Западного побережья разрастаются, как растения с приходом тепла. Вспоминают случаи восьмилетней давности. О хирурге, который, вырезав из груди девушки – негритянки опухоль, бросает ее собравшимся в ожидании родственникам: «Вот вам эта подлюка».
Матросы – негры частично получают жалованье рисом – сколько‑то жестянок из‑под табака в день. Они настаивают, чтобы именно такая жестянка служила меркой, не догадываясь, что стоит слегка надавить большим пальцем на донышко, и порция риса всякий раз будет чуточку меньше.
Красный, страдающий от запоров мичман морской авиации, слоняющийся по палубе с мрачным, преисполненным серьезности видом, но при этом в белых перчатках. «Как‑то у меня это длилось 17 дней», – говорит он.
31 декабря
Вчера, кажется в 10 вечера, всеобщее изумление вызвал вид не то острова, не то судна, сверкающего огнями на горизонте. Свет в нашем следовании при полном затемнении – это почти из Жюля Верна. Явление оказалось испанским или португальским лайнером [121]121
До чего же этим португальским лайнерам предстояло портить мне жизнь – и жизнь Скоби – во Фритауне: бесконечные поиски коммерческих алмазов или же почты. Никаких алмазов никто никогда не находил, почта же каждый раз оказывалась вполне безобидной. Одно происшествие ненадолго нас взбудоражило: министр колоний вынужден был просить флот перехватить лайнер, который уже благополучно миновал заградительные боны и приближался к границе трехмильной зоны, из‑за того что на борту его находился некто заподозренный в шпионаже. Тот самый случай, когда в записной книжке этого подозрительного пассажира оказалось имя моего друга, французской переводчицы Денизы Клеруэн. (В дальнейшем ей предстояло быть арестованной в качестве британского агента и умереть в немецком концлагере.) – Прим. автора.
[Закрыть]– первые огни вдалеке, увиденные нами с тех пор, как мы расстались с землей.
Флагманский корабль нагнал нас вскоре после завтрака, и туг же появился первый признак земли, первый признак Западного побережья – не какая‑нибудь там морская птица, а «Сандерленд», гидросамолет противолодочной разведки. Так радостно было его увидеть – словно до этой минуты мы были совершенно затеряны в пустынном море.
В эту ночь снова приснился кошмарный сон. Мой друг проводит хлебным ножом по горлу и режется. Он оттягивает полуотрезанный лоскут, чтобы посмотреть, насколько сильно он порезался. Я отвожу его в больницу и вижу, как женщина в автомобиле сбивает на тротуаре мальчика в возрасте моего сына, а затем нечаянно на него наступает. Содранная кожа обнажает красное, кровоточащее яблоко щеки.
Конвой внезапно меняет курс, и на мгновение кажется, что нас бросили. Резкое чувство одиночества.
Вечер с выпивкой в канун Нового года. Кок устраивает джаз-банд со своими поварешками и кастрюлями. Дэниэл, стюард – негр, танцует в коридоре и обвивает ногами шею. Стюард падает в камбузе во время матча по борьбе и до крови разбивает голову. Рыба с жареной картошкой на ужин. Расходимся в полтретьего ночи.
1 января 1942 года
Поляк пылко обсуждает преимущество иметь трех жен. «Одна жена – она командует, три жены – я король».
2 января
Весь день сопровождает нас гидроплан. Конвой разделяется. Несколько судов с локомотивами на палубе продолжают путь до Кейптауна. Одиннадцать остаются с сопровождением.
Ночная жара возвращает нас к теме многоженства. Кто‑то спрашивает поляка: «Как же ты управишься со своими тремя женами в такую жару?»
– А, у вас на уме любовь по – европейски. Passion Orientale [122]122
Восточная страсть (фр.).
[Закрыть]– это совсем другое. Это трава, фонтан. Просторное ложе в саду.
Примерно часов в 11 вечера засекли подводную лодку в 60 милях от нас. Говорят, что четыре дня тому назад нас тоже какое‑то время преследовала подлодка.
3 января
Впереди другой крупный конвой из больших судов, корпуса их скрыты за горизонтом, – наверное, транспорты.
Ужасно жарко. Около 10 утра в жаркой мгле холмы за Фритауном. К полудню подошли к бонам. Широкий залив, полно судов. Странные, похожие на пузыри горы, желтые полоски берега, нелепый англиканский собор из латеритного [123]123
Рыхлая коричневатая глина, распространенная в тропиках.
[Закрыть]кирпича в норманнском стиле. Чувство необычного, поэзии и восторга охватывает тебя, когда возвращаешься сюда через столько лет, – форма, оживающая после долгого хаоса. Словно обрести наяву место, которое ты увидел во сне. Даже сладковатый, жаркий запах земли – что это: увядающая зелень и краснозем, бугенвиллии, дымок хижин в Крутауне или горящие участки буша, освобождаемые под посадки? – казался до странности родным и знакомым. Он всегда будет со мной, этот запах Африки, и Африка навсегда останется Африкой старого викторианского атласа – нетронутым, нехоженым материком в форме человеческого сердца.
Эссе и интервью
Мир Генри Джеймса
Техника письма Генри Джеймса так много и успешно исследовалась, особенно в работах Перси Лаббока, что я позволю себе не останавливаться на профессиональных достоинствах Джеймса как писателя, а попытаюсь проследить истоки поэтического видения этого художника. У всех писателей бывают моменты самовыражения, когда их основная тема получает четкое и ясное определение, когда их внутренний мир открывается даже самому невосприимчивому читателю. Так, основной мотив творчества Гарди выражен в его часто цитируемой строчке: «Глава бессмертных… закончил свою игру с Тэсс» [124]124
Перевод А. В. Кривцовой.
[Закрыть]– или в его предисловии к роману «Джуд Незаметный», в котором говорится о «тех муках и метаниях, насмешках и несчастьях, какие могут омрачить сильнейшие из чувств, ведомых человеку» [125]125
2 Перевод Н. Шерешевской.
[Закрыть]. Гораздо труднее найти такое самовыражение в произведениях Джеймса, который всегда заботился об объективности своего повествования, подобной той, которую мы находим в драме. И все же, я думаю, весьма показательно следующее высказывание из «Башни из слоновой кости»: «…богатство всегда связано с темными и жестокими делами». В этой фразе ключ ко всему творчеству Джеймса, в основе которого лежало ощущение зла, по своей силе равное религиозному чувству.
Конрад писал, что «искусство – это настойчивая попытка воздать по справедливости (в самом высшем смысле этого слова) окружающему миру». Ни одно определение в предисловиях самого Генри Джеймса не может лучше выразить суть того, к чему он стремился, если, конечно, слово «окружающий» не исключает его собственного видения этого мира. Даже если в некоторых случаях, например в «Святом источнике» или изысканной «Золотой чаше», мы чувствуем, что судья – Джеймс чересчур увлекается свидетельскими показаниями, что он мог бы вынести свой приговор на основе меньшего количества улик, мы тем не менее должны признать, что, разворачивая перед нами длинную цепь свидетельств морального разложения общества, он не позволяет упустить из виду основное обвинение. И поскольку он стремится воздать по справедливости не только добру, но и злу, его повествование приобретает симметричность и складывается в стройную систему.
Все романы Джеймса одинаковы по своей этической направленности. Разница между его первыми и последними работами только в степени той оценки окружающего мира, о которой говорит Конрад в своем определении искусства. В своих ранних произведениях он, пожалуй, еще не достигает высшей справедливости; путь от «Американца» к «Золотой чаше» можно охарактеризовать как отход от наивного и примитивного понимания истины, переход от очевидного изображения зла как убийства к злу in propria persona [126]126
Здесь: как таковому (лат.).
[Закрыть], разгуливающему по Бонд – стрит, образованному, тонкому, обаятельному, к злу, которое отличается от добра лишь по своему крайне эгоцентрическому отношению к жизни. Эти характеры поздних романов Джеймса – настоящие анархисты; они предвосхищают тот предвоенный период аморальности и стихийно возникавшего насилия, когда была сделана попытка нападения на обсерваторию в Гринвиче, захвачена Сидни – стрит. Они создали атмосферу, которая позволила Конраду в «Тайном агенте» показать зло уже без прикрас. Это Мертон Деншер, собиравшийся жениться ради денег на умирающей Милли Тил и для этого вступивший в заговор со своей любовницей, которая была лучшей подругой Милли; это принц Америго, изменивший своей жене с ее мачехой и подругой; это Хортон, обокравший своего друга Грея. Все они свидетельствуют о последней стадии нравственного падения человека, так как во всех этих случаях предателем оказывается лучший друг. Такое видение жизни не является плодом горького опыта писателя, оно не пришло к нему с годами, а было у него всегда. Оно не изменялось со времени написания «Американца». От образа мадам де Бельгард, которая убивает своего мужа и продает свою дочь – первого, весьма прямолинейного изображения порока в женщине, – Генри Джеймс переходит к более тонкому образу мадам Мерль в «Женском портрете», а затем – к Кейт Крой и Шарлотте Стант, этим непревзойденным воплощениям зла.
Это очень важный момент. Джеймса часто обвиняли в том, что его персонажи абстрактны, что ему удаются не характеры, а социальные типы, так как он, оторванный от родины, лишен глубоких национальных корней (как будто сам факт локализации чьего‑то таланта в Сассексе или Шропшире автоматически возвышает его над интернациональным талантом Джеймса). Но думать, что талант Джеймса интернационален, тоже заблуждение: он легко мог обойтись без географически точного места действия, так же как обходился без изображения в своих романах финансового мира Уоллстрита. Его истоки были не в Венеции, Париже или Лондоне, а в нем самом. Деншер и Принц, так же как рыжеволосый слуга Куинт и гувернантка, находящаяся с ним в любовной связи, – результат его собственного видения мира. Эти персонажи уже зрели в мозгу писателя, когда он создавал своего «Американца» в 1876 году; впоследствии, для того чтобы довести свои творения до безукоризненного совершенства, ему понадобилось техническое мастерство и мастерство другого рода, которое проистекает из умения быть «поверхностным» наблюдателем, из умения находить убедительные маски для личности самого автора.
Я употребляю слово «поверхностный» отнюдь не в отрицательном смысле. Я хочу сказать, что у Джеймса есть литературные опыты, такие как «Европейцы» или «Трагическая муза», в которых его художественный талант и фантазия не проявляются в полной мере, но которые могут служить образцом тонкого наблюдения и непосредственного объективного изображения действительности, еще никем не превзойденного. Он нигде больше не достигает такой наглядности в описаниях внешности героев, такого мастерства в подборе деталей. Конечно, мы знаем Шарлотту Стант лучше, чем мисс Бердси из «Бостонцев», но образ Шарлотты вырисовывается постепенно, на протяжении длинного романа, в то время как мисс Бердси мы видим сразу и целиком:
«Это была маленькая старушка с огромной головой. Рэнсому сразу же бросился в глаза широкий, красивый, выпуклый, чистый и ясный лоб, а под ним – добрые, близорукие, усталые глаза… От долгого филантропического существования черты ее лица не заострились, а стерлись… На ее большом лице была едва заметна слабая улыбка. Скорее даже намек на улыбку, ею она как бы вносила взнос или платила по счету, словно говоря, что могла бы улыбнуться и шире, если бы не была так занята, но ведь и без улыбки видно, какая она кроткая и доверчивая… У нее был такой вид, как будто она провела всю свою жизнь на трибунах, в зрительных залах, на собраниях, в фаланстерах, на спиритических сеансах; на ее поблекшем лице лежал отблеск тусклых ламп, освещавших эти сборища».
Ни у одного писателя ранние произведения не содержат такой блестящей и обширной галереи литературных портретов: от мисс Бердси до миссис Брукенхэм в «Трудном возрасте».
«Миссис Брукенхэм была все еще очаровательна в свои сорок лет, и на ее лице было выражение прекрасного отчаяния, которое более всего соответствовало описанию, данному ее сыном. Она излучала обаяние молодости, которое, казалось, никогда не иссякнет; ее голова, фигура, ее подвижность, ее то и дело вспыхивающие щеки, ее прекрасные наивные глаза, ее милый воркующий голосок – все это вместе таинственным образом производило магический эффект молодости. Примечательно, что она редко выглядела веселой – по крайней мере в кругу семьи; чаще всего она переживала новизну и роскошь скорби, ее волновала непонятная печаль, она развивала в себе утонченные проявления безразличия. Это целомудрие с оттенком трагизма было ее отличительной чертой, от которой все остальные качества только выигрывали…»
Роман «Трудный возраст» – веха, разделяющая два периода творчества Джеймса. Он свидетельствует о решении Джеймса развивать линию, намеченную в «Американце», а не в «Европейцах»: фантазия у него берет верх над жизненным опытом. К тому времени он еще не определил своего метода, но, несомненно, уже нашел свою тему. Наверное, можно пожалеть о том, что у так называемых поверхностных романов Джеймса было мало последователей (в английской литературе вообще мало произведений, отличающихся легкостью, прозрачностью и ироничностью стиля). Однако вполне понятно, почему он исключил многие из них из собрания сочинений, даже элегантный и по – кошачьи грациозный роман «Вашингтон – сквер», пожалуй, единственный из романов, в котором мужчина успешно разрабатывает женскую тему (его можно сравнить с романами Джейн Остин), оставив менее отшлифованного «Американца».
Он и не мог поступить иначе, так как был верен своей творческой фантазии. Джеймс писал о «бедном Флобере»: «Он остановился слишком рано. Он никак не решался открыть входную дверь, все время оставаясь снаружи, по – видимому ослепленный блеском окружающего. Там он и стоит до сих пор, неподвижный, как часовой, и стройный, как статуя. Но эта неподвижность и стройность обошлись ему слишком дорого. Он должен был унестись в этих сияющих объятиях, входная дверь должна была открыться. Ему следовало по крайней мере прислушаться к голосу своей души. Это вынесло бы его на глубину; а главное – это успокоило бы его нервы».
В своих ранних романах, кроме «Американца», Джеймс, безусловно, тоже «оставался снаружи». Они, несомненно, сыграли свою роль: его маски становились все более совершенными, он оттачивал свое остроумие. Но когда он перешел к основной теме – исследованию зла – в «Крыльях голубки», он уже перерос все это; теперь вместо физической жестокости убийства он показывал более страшную моральную жестокость, вместо мадам де Бельгард возникла Кейт Крой, тонкий психологический анализ характера Милли Тил сменил мелодраматическое изображение мадам де Сантре.
Для того чтобы суметь воздать по справедливости злу, нужно сохранять чистоту и невинность: нужно внутренне сознавать, что предательство совершается по отношению к чему‑то чистому и благородному. Если частица Питера Куинта – в вас самих, то и для ребенка, совращенного им, должно найтись место в вашей душе; если вы можете перевоплотиться в Освальда, то и Изабелла Арчер должна быть также близка вам. В романах Джеймса невинные существа, которых предают, почти всегда женщины: независимая и своенравная Изабелла Арчер, которая мужественно идет навстречу жизни, но становится жертвой Освальда; молодая девушка Нанда, которая, только начав выезжать в свет, сразу испытывает на себе его порочное влияние; Милли Тил, смертельно больная в расцвете жизни и от безвыходности своего положения покорно уступающая Мертону Деншеру и Кейт Крой (эти персонажи, пожалуй, самые одержимые и порочные из всех, не считая Куинта и гувернантки); Мэгги Вервер, славная, неискушенная молодая американка, встретившаяся с пороком в лице Принца и Шарлотты Стант; девочка Мэйзи, до которой нет дела взрослым, занятым своими романами. Эти женские персонажи – светлые пятна на общем темном фоне.
Образ мышления Джеймса, породивший все эти ситуации, никогда не менялся. При этом Джеймс обладал удивительной способностью заметать следы (по – видимому, у него были на это причины?). В блестящих предисловиях к своим книгам он рассказывает о происхождении сюжетов, об использованных методах изображения событий, о проблемах, с которыми он сталкивался: он похож на фокусника с засученными рукавами, который как будто от вас ничего не скрывает. Но я советую вам заглянуть глубже, чтобы за светскостью и непринужденностью разглядеть то, что лежит в основе его видения мира. Тут вам не помогут ни его предисловия, ни даже автобиография. Правда, из них мы можем узнать о той, которая служила для Джеймса образцом доброты и порядочности; он не позаботился уничтожить этот след, ведущий в его юность («позаботился», наверное, не то слово, так как это происходило бессознательно). Этим образцом была для Джеймса его двоюродная сестра Мери Темпл, мужественно переносящая неизлечимую болезнь и страстно жаждущая жить. Она и послужила, в частности, прототипом Милли Тил. Джеймс писал о ней:
«Я не знаю никого, кто бы в ее возрасте мог так отчетливо ощущать истинность и жизнеспособность людских характеров, прекрасно осознавая (часто не без ущерба для себя), что движет их поступками: сила или слабость… Жизнь заявляла на нее права, использовала ее, ставила в тупик в своем неуверенном движении по жизни, как бы на ощупь, ей приходилось сильно отклоняться то вправо, то влево… Она не боялась никаких поворотов судьбы, готовая встретить их с искренностью и любопытством. И я думаю: именно потому, что эта молодая девушка, только начинающая жить, оказывается в плену трагических обстоятельств, она может послужить основой образа мученицы и героини».
Мери Темпл, под какой бы маской она ни выступала в романах Джеймса, всегда была светлым пятном, но опять нужно заглянуть глубже, чтобы нащупать корни убежденного неверия Джеймса в человеческую природу, понять происхождение присущего ему ощущения зла. Мери Темпл была частью его жизненного опыта, а ощущение зла у него было, по – видимому, врожденным или унаследованным.
Как это ни странно, в книгах воспоминаний «Малыш и другие» и «Записки сына и брата» Генри Джеймс мало рассказывает о своей семье. Они написаны усложненным языком и стилем, красота которых напоминает красоту поздних картин Тернера. Эти книги также пронизаны воздухом и светом: нужно долго вглядываться в них, чтобы в сиянии красок различить размытые очертания предметов. Но о главных членах семьи – Генри Джеймсе – старшем и Уильяме Джеймсе – из этих книг вы не узнаете основного: того, что они были одержимы.
Когда мы видим нарисованную Джеймсом фигуру Питера Куинта с маленькими рыжими бакенбардами и белым порочным лицом или наблюдаем за Деншером и Кейт, терзающимися от обреченности на успех их дьявольского замысла, мы понимаем, что зло было неотъемлемой частью внешнего, окружающего Джеймса мира, однако ощущение этого зла (о котором он никогда не говорит в своих воспоминаниях) было внутри семьи. Оно было присуще не только Генри Джеймсу, но и его отцу, брату и сестре. Источник самых сокровенных «темных» фантазий Джеймса нужно искать в его интеллигентной семье, живущей то в Конкорде, то в Женеве, – в семье, где впечатлительные мальчики были предоставлены самим себе. Почти два года отец мучился от приступов «необъяснимого и унизительного страха» (это его собственные слова), ему казалось, что его преследует какое‑то исчадие ада, распространяющее на него свое «зловонное влияние». У сестры Генри Джеймса Алисы была мания самоубийства, а Уильям Джеймс страдал тем же недугом, что и отец.
«Однажды вечером, в сумерках, я зашел зачем‑то в гардеробную, как вдруг совершенно неожиданно, как будто материализовавшись из темноты, меня охватил ужасный страх перед моим собственным существованием. Одновременно у меня в памяти всплыл образ эпилептика, которого я как‑то видел в приюте. Это был черноволосый юноша с нездоровым, зеленоватым цветом кожи и всеми признаками безумия в лице, сидевший весь день напролет на жесткой скамье у стены, подтянув колени к подбородку. На нем не было ничего, кроме серой рубахи из грубой ткани, которая закрывала все тело… Мой страх и этот образ, возникнув одновременно, оказались тесно связанными цепью ассоциаций. В подсознании мелькнула мысль, что этот слабоумный – я. Я почувствовал, что ничто в мире не сможет предотвратить моей участи, если мой час пробьет, как он пробил для него. И от того, что я в любой момент могу стать таким, как он, меня охватил ужас, от которого я потерял опору и уверенность в себе и превратился в дрожащую от страха массу. После этого случая жизнь моя переменилась. Я просыпался по утрам с ранее мне незнакомым ощущением непрочности земного существования, от которого у меня холодело под ложечкой… Со временем это прошло, но еще много месяцев я не мог находиться один в темноте».
Этот идиот – эпилептик в воображении Уильяма, желание Алисы умереть, исчадие ада, страх к которому испытывал отец, образуют гораздо более значительный фон для романов Генри Джеймса, чем Гроувнер – хаус или поздняя Викторианская эпоха. Он действительно мог видеть моральную распущенность (характерную для его времени) в окружающем его обществе, но он бы не изобразил ее с такой силой, если бы она не нашла отклика в его творческом воображении. Его персонажи – материалисты, но даже поверхностного знакомства с романами Джеймса достаточно, чтобы убедиться в том, что их автор материалистом не был. На его воображении лежала тень преисподней. Когда он испытывал страх перед злом, его произведения получались менее убедительными. «Поворот винта» неверно изображается критиками как «простая и наивная», почти рождественская «сказка». Думается, она получилась такой потому, что здесь Джеймс дотронулся до запретного, но в ужасе отпрянул.
Юношеские годы писателя обычно представляют особый интерес для биографа: это исследование наивным юношей нового для себя мира; перспективы далекого будущего, открывающиеся в конце лавровой аллеи; голоса старших, напоминающие голоса мудрецов из арабских сказок; странные случайности, предопределяющие писательскую судьбу ребенка.
Вот, например, одиннадцатилетний Конрад, который готовит уроки в большом старом краковском доме, где умирает его отец, польский патриот – повстанец Коженевский:
«Там, в большой гостиной, с голыми, обшитыми деревом стенами, с высокими потолками и тяжелыми карнизами, я корпел над своими домашними заданиями, весь перепачканный чернилами. Стол, за которым я трудился, освещаемый пламенем двух свечей, был как маленький оазис света посреди пустыни тьмы. Он стоял прямо перед высокой белой дверью, постоянно закрытой; время от времени она приоткрывалась, в щель проскальзывала монахиня в белом чепце, проплывала через комнату и исчезала. Этих бесшумных сестер милосердия было две. Их голосов я почти не слышал. И действительно, что они могли сказать? Когда они обращались ко мне, их губы едва шевелились, они произносили слова отчетливым шепотом, как в храме. Хозяйство в доме вела пожилая экономка, чье присутствие было тогда необходимо. Она носила черное платье, на высокой груди выделялся крестик на цепочке. Она тоже разговаривала очень редко. И хотя ее губы были более подвижными, чем у монахинь, она никогда не позволяла своему голосу подняться выше умиротворяющего шепота. Воздух вокруг меня был пропитан благочестием, смирением и тишиной».
Стивенсон уже в три года был доведен до кальвинизма своей няней Камми: «По ночам я постоянно просыпался от кошмара; мне снился ад. Я вцеплялся в спинку кровати и сидел, подтянув колени к подбородку. Моя душа содрогалась, тело билось в конвульсиях».
Тринадцатилетний Джеймс «ошеломлен и подавлен» увиденными в галерее Аполлона фресками Лебрена и огромными мифологическими полотнами Делакруа:
«Я никогда не забуду того впечатления, которое на меня произвели эти картины: они наполняли огромные залы скорее многообразием звуков, дробящихся и повторяющихся, как эхо, чем отчетливыми зрительными образами. Разобраться в этом запутанном, насыщенном, разноцветном мире звуков и красок было трудно – он не поддавался рациональному восприятию. Видимо, поэтому у меня сложилось впечатление (а первое впечатление самое сильное), что всю эту великолепную мозаику нужно воспринимать целиком, а не пытаться различить в ней отдельные части. Я лишь зачарованно смотрел вверх, туда, где кусочки этой мозаики то неистовствовали, то замирали в бесконечном экстазе, кружились в нескончаемом хороводе, образовывали огромные симметричные фигуры на необъятных пространствах монументальных полотен. На их фоне реальный Париж казался чем‑то вроде уже слышанной истории, эффектным приемом, дерзкой неопределенностью, заполняющей пространство, но в то же время неизменно оставался увлекательным (иногда вполне ощутимым) источником жизненного опыта».
В таких воспоминаниях слышно, как «открывается дверь». В один из таких моментов «благочестия, смирения и тишины» в Конраде впервые зазвучала струна мрачного достоинства и скупого героизма; владелец Баллантрэ мог быть заживо похоронен еще в кошмарах маленького Стивенсона и только потом – на канадских просторах. И так же Джеймса – в знаменитой парижской галерее, где его, еще школьника, окружали богатства Пойнтона и цветущая мадам Вионе в образе обнаженной Венеры взирала на него с потолка, – впервые коснулся воздух славы, богатства и «дерзкой неопределенности», как святой дух нисходит на вас в Троицын день.






