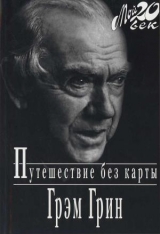
Текст книги "Путешествие без карты"
Автор книги: Грэм Грин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 32 страниц)
Жена ждала ребенка, на моем счету в банке было двадцать фунтов, и я вновь, как в то лето, когда окончил Оксфорд, стал подумывать о Востоке. Я написал письмо старому оксфордскому другу и спросил, не найдется ли для меня работа на английском отделении Бангкокского университета. Утвердительный ответ пришел чуть позже того, когда меня еще можно было спасти от писательской карьеры. Недолгий успех, который принес мне «Поезд», вернул меня в загон, как прирученную овцу. (Насколько он был недолгим, можно судить по тому, что, как я уже упоминал, начальный тираж моего первого романа в 1929 году был две с половиной тысячи экземпляров, а десятого романа, «Сила и слава», в 1940 году – три с половиной тысячи.)
Через двадцать лет я съездил к своему другу в Сиам, как он тогда назывался. Друг по – прежнему преподавал в университете, и мы выкурили несколько трубок опиума в маленькой комнате, которую он с помощью двух матрацев, статуи Будды и лакированного подноса превратил в fumerie [17]17
Курильню (фр.).
[Закрыть]. В Оксфорде он сочинял замечательные стихи, но потом бросил писать. В отличие от меня он принял идею неудачи, познал тихое счастье избавления от тщеславия и с иронией следил за теми своими современниками, которые достигли так называемого успеха.
Я доказывал ему, что писательский успех недолог, что успех – это грядущая неудача. К тому же он не бывает окончательным. Писатель не может, как бизнесмен, довольствоваться большими заработками, хотя иной раз он и хвастает ими, как нувориш. «Премьера “Новой Магдалины” прошла с невероятным успехом. Мне пришлось выходить на сцену дважды: в середине и в конце. Актеры играли изумительно, и на втором представлении публика так же неистовствовала, как и на первом. Это триумф. Феррари переводит ее на итальянский, в Париже ее хотят ставить сразу два театра, предлагают контракт с Веной». Где теперь «Новая Магдалина» и кто помнит ее автора?
У писателя то же оправдание, что и у хвастуна. Он знает, насколько призрачен его успех, и криком пытается задушить страх.
В его книгах есть недостатки, видимые ему одному. Злые критики пропускают их, они бьют по тому очевидному, что можно исправить. Но писатель, как опытный строитель, знает, в какой балке завелась гниль. И как редко у него хватает храбрости разобрать построенный дом и начать все заново!
Запах опиума слаще запаха успеха. В тот долгий вечер мы, передавая друг другу трубку, были счастливы. Вспыхивали язычки пламени, по толстому, самодовольному лицу Будды двигались тени, и, весело вспоминая прошлое, мы искали причины наших несхожих неудач, не испытывая ни сожаления, ни стыда. Разве сам Будда не был неудачником? Голодные, больные, увечные собаки лежали вокруг его храма, а мимо них гордо шествовали бритоголовые, в желтых одеждах жрецы.
– Еще трубку? Помнишь то ужасное стихотворение, которое ты написал в Оксфорде – об отбивной?
Конечно, помню, я тогда был влюблен.
– За это многое можно простить, – сказал он, – в том возрасте.
Дороги беззакония
Печатается с сокращениями
Глава 1 Граница
Через рекуГраница – это больше, чем таможня, чиновник, проверяющий ваш паспорт, солдат с ружьем. Там, по другую сторону границы, вас ожидает новый мир, и с жизнью сразу что‑то происходит, как только вам проштемпелюют паспорт и вы, ошеломленный и безгласный, оказываетесь среди менял. Тот, кто отправился на поиски красот природы, воображает себе дивные леса и сказочные горы; романтик думает, что женщины в чужом краю красивей и сговорчивей, чем дома; несчастный верит в новый ад, а тот, кто путешествует в надежде встретить смерть, ждет, что она его настигнет на чужбине. Здесь, на границе, все как будто начинается сначала, она сродни чистосердечной исповеди – счастливый, краткий миг душевного покоя между двумя грехопадениями. О смерти тех, кто умер на границе, обычно говорят «счастливая кончина».
Лавки менял составляют в Ларедо целую улицу, сбегающую вдоль холма к мосту, принадлежащему двум странам; по другую его сторону, в Мексике, они карабкаются вверх на холм точно такой же улицей, только немного более грязной. Что побуждает путешественника остановиться перед тем или иным менялой? Одни и те же цены были выведены мелом на всех лавчонках, спускавшихся к небыстрым бурым водам реки: «1 доллар – 3 песо 50 сентаво». Турист, должно быть, выбирает по лицу, но тут и лица были одинаковы – лица метисов.
Я думал, что подсяду здесь в попутную машину, что в Мексику течет поток автомобилей с американскими туристами, но их тут не было совсем. Казалось, жизнь давала себя знать лишь в виде громоздившейся у волнореза кучи пустых жестянок и истоптанных ботинок, из‑за чего вы сами ощущали себя чем‑то вроде наносной породы. В Сан – Антонио меня уверили, что в Ларедо легко найти машину и перебраться на другую сторону; таможенный чиновник, чья будка находилась рядом с въездом на мост, сказал, что это правда, он знает совершенно точно, что из Сан – Антонио поедет мексиканец «на роскошной немецкой машине», и он, конечно, подвезет меня до Мехико за два – три доллара. И потому я ждал и ждал, а мексиканец все не появлялся, не думаю, что он вообще существовал на свете, хотя не знаю, кому я здесь был нужен, – ведь это мое прозябание не приносило денег никому из местных.
Каждые полчаса я спускался к реке и глядел на Мексику. Казалось, там все было так же, как и здесь: лавки менял, взбегавшие на холм под жарким солнцем, кучка людей, собравшихся у въезда на мост, намытые водой наносы у другого волнолома. Наверное, эти люди говорили: «Из Монтеррея в Нью – Йорк едет американец в роскошной немецкой машине, он и подбросит вас за два – три доллара», а кто‑то наподобие меня стоял в Рио – Гранде, смотрел на лавки с нашей стороны и думал: «Там, за мостом, лежат Соединенные Штаты» – и поджидал несуществующего путешественика. С таким же чувством человек глядит на собственное отражение в зеркале.
Я говорил себе, что за мостом находятся великие надгробия истории: Чичен – Итца, Митла, Паленке – все то, чем Мексика притягивает археологов; яркие пледы, шляпы – сомбреро, серебро из Таско, манящие туристов; реликвии Кортеса и конкистадоров, которые так интересны для историков; фрески Ороско и Риверы ждут искусствоведов, а бизнесменов привлекают нефтяные скважины Тампико, серебряные рудники Пачука, кофейные плантации Чьяпас, банановые заросли Табаско. Все говорят, что в Мексике за доллар можно купить много всякой всячины.
Я вернулся на площадь и купил газету, но в этот день мне не везло ни в чем: весь номер отдан был на откуп старшеклассникам, которых пригласили быть редакторами и корреспондентами, они заполнили колонки городскими пересудами и толками, подслушанными в школьных коридорах. Вы полагаете, что это были нетерпеливые, настроенные радикально юноши и девушки? О нет, нимало. Банальные суждения старших – нередко плод открытий младших. Женева… демократия… народный фронт… угроза фашизма. Все это можно было узнать и в Альберт – Холле, а новостей о Мексике здесь было несравненно меньше, чем в нью – йоркских изданиях. Там говорилось о сражении на границе возле Браунсвилла, какой‑то человек, которого все называли генерал Родригес, собрал вокруг себя испытывавших недовольство фермеров, чьи земли отошли к индейцам вследствие аграрной реформы, и организовал фашистский отряд «золоторубашечников». Нью – йоркские газеты отправили туда своих корреспондентов, один из них в такси проехал от Браунсвилла до Матамороса и обратно и сообщил, что не видал сражений, но наблюдал волнения. Он написал, что как‑то раз заметил за стеклом суровое и жесткое лицо – дело было в пустыне, – за беспорядками следил какой‑то незнакомец. В Нью – Йорке мне сказали, что у Родригеса стоит на границе с Техасом сорок тысяч хорошо обученных повстанцев и, если я не увижу Родригеса, я не увижу ничего.
Вы быстро привыкаете к тому, что в Мексике вас всюду ждут разочарования. Так, в городе, который показался вам прекрасным в сумерки, при свете дня видна разруха, дорога неожиданно кончается, погонщик мулов так и не приходит, великий человек ведет себя непостижимо молчаливо при знакомстве, и вас так утомляет долгая дорога, что, наконец добравшись до прославленных руин, вы не способны ими любоваться. Так было и с Родригесом – до встречи дело не дошло.
Предыдущую ночь я провел в Сан – Антонио. Это Техас, но Техас, который отчасти Мексика, отчасти – Уилл Роджерс. Когда я ехал в поезде из Нового Орлеана, мой попутчик – техасец все время говорил голосом Уилла Роджерса: тягучий говорок коммивояжера и благодушная расчетливость провинциала. Всю ночь он сыпал поговорками, исполненными ложной доброты и плоской мудрости – той пошлой философии, которую охотно поставляет «Метро – голдуин». Ему вторил метис в яркой рубашке в крапинку с непроницаемым лицом, не обращавший ни малейшего внимания на собеседника и отвечавший ему невпопад, почти не отрываясь от карманной фляги.
Коричневые, выпуклые пустоши тянулись по обеим сторонам вагона, на горизонте вспыхивала нефть, словно огонь на жертвеннике пирамиды, а рядом Старый Свет и Новый Свет вели беседу. Общение – то единственное, что неизменно предлагает вам дорога. В пути так много утомительного, что людям нужно выговориться, они и выговариваются в поезде, у пламени костра, на пароходе, дождливым днем под пальмами гостиничного дворика. Необходимо как‑то убить время, а это можно сделать только с помощью себе подобных. Словно герои Чехова, они теряют всяческую сдержанность – порой вы можете услышать самые интимные признания. И возникает впечатление, что в мире обитают только чудаки и представители диковинных профессий, чья удивительная глупость сочетается с немыслимым терпением, как видно, для того, чтоб соблюдалось равновесие.
БиографияПока техасец разглагольствовал на весь вагон, сосед мой по скамье глядел не отрываясь на дорогу. Его болезненное, тонкое лицо хранило выражение непреходящей грусти. В нем было что‑то от познавшего религиозные сомнения викторианца, что‑то от Клафа, но без бакенбард, и руки у него были натруженные, а не холеные, праздные руки писателя или богослова. Он рассказал мне, что проехал восемь тысяч миль, сделал огромный круг по всем Соединенным Штатам, теперь ему остался маленький кружок, чтобы доехать до дому, который расположен милях в ста от Сан – Франциско. Это его первый отпуск за три года, но он без сожаления вернется на работу.
Он говорил мягко, с трудом подыскивая нужные слова, печально глядя на техасскую равнину. Должно быть, он почти ни с кем не говорил последние три года. Он жил один, работал тоже один и возвращается теперь, чтобы пробыть еще три года в одиночестве. Я полюбопытствовал, что это за работа, из‑за которой он живет отшельником вблизи от Сан – Франциско. «Да понимаете, – ответил он, – я не могу уйти ни днем, ни ночью, а батраку нельзя довериться. Птицы невероятно чуткие, если поблизости чужой, они так нервничают, что заболевают».
Оказалось, что он разводит индюшек, живет один на птицеферме среди одиннадцати сотен птиц. Они пасутся на лугу, а он живет в автоприцепе и спит, когда позволят птицы: приходится гоняться целый день, пока они угомонятся на закате. А под подушку он кладет ружье; собаки предупреждают его лаем, если подкрадывается вор или одичавший пес. Порой он подымается раза четыре за ночь, не зная, какая встреча предстоит ему во тьме, кто его ждет: вооруженный хобо или собака, притаившаяся под кустом. На первом, даже на втором году жизни на ферме он спал довольно плохо, но ничего, быть может, за три года он накопит денег и откроет собственное дело, которое позволит ему жить в свое удовольствие, видеться с людьми, обзавестись семьей – какая девушка захочет жить в прицепе, среди тысячи индюшек?
– Что же это за дело?
Он оторвал свой грустный, отрешенный взор от сумрачной равнины и горящей нефти:
– Буду разводить кур, это надежней.
Сан – АнтониоВ дневное время Сан – Антонио гораздо больше мексиканский, чем американский город, но все же это Мексика не настоящая (тут слишком чисто), а с глянцевитой видовой открытки. В местном соборе под непрерывный стрекот вентиляторов, висевших над фигурами святых, чей нежный цвет и гипсовые жесты должны были запечатлеть возвышенность и хрупкость чувств, священник по – испански читал проповедь. Собравшаяся паства походила на картинки, которые встречаются в альбомах раннего викторианства: черное кружево мантилий, живые, узкие, заостренные лица словно на иллюстрациях из «Книги красоты» леди Блессингтон. Река Сан – Антонио, украшенная маленькими водопадами и зарослями папоротников, хитро петляла через город, точно виньетка на открытке, пришедшей в Валентинов день, был ли ее изгиб похож на контур сердца? Ни дать, ни взять страничка из домашнего альбома:
Но я в камелии ценю не сладкий аромат,
А непорочный белый цвет, что радует мой взгляд.
От вида Сан – Антонио при свете солнца являлось ощущение, что внешний мир сюда чудесным образом не вхож. Под чарами изысканности первородный грех утрачивал свой грозный смысл. Где, думал я, остановившись на мосту, повисшем через маленькую, дрессированную речку, здесь хоть малейший след «чудовищных страданий населения», которые повсюду видел Ньюмен? Вы попадали в башню из слоновой кости – так это выглядело днем. Сюда не доходили красота и ужас человеческого бытия. Но это чувство было преходящим, ибо у башни из слоновой кости имелась собственная бездна – ужасный эгоизм оторванности от всего на свете.
«Католическое действие»Вам стоило раскрыть газету, и чувство изоляции немедля исчезало; с этой же целью можно было прокатиться на автобусе к жалким лачугам мексиканского Вест – Сайда, где селятся рабочие, вручную очищающие скорлупу с орехов пеканов за несколько центов в день. Даже в Мексике я не встречал нигде такую жуткую нужду. Там всю – ду, за исключением крупных городов, уровень жизни страшно низкий, но здесь он, этот низкий уровень, соседствует с американской роскошью, и хижины Вест – Сайда глядят карикатурой по сравнению с отелем «Плаза», чья реюшая желтая громада уходит крышей в небеса. В Сан – Антонио размещается сто сорок семь пекановых артелей, стыдливо вынесенных на задворки города, и в урожайный год там очищают до двадцати одного миллиона фунтов орехов – это уже целая индустрия. Не так давно расценки были снижены на один цент с фунта, а это означает, что лудилыщик может заработать от тридцати центов до – самое большее – одного доллара пятидесяти центов вдень. Под руководством мексиканского священника отца Лопеса рабочие организовали забастовку, правда, позднее отец Лопес устранился, и руководство взяли на себя коммунисты.
То было первым встретившимся мне случаем работы «Католического действия», реальной попыткой старого, полуслепого, пылкого архиепископа претворить в жизнь папские энциклики, бичующие капитализм с не меньшей силой, чем и коммунизм. Но уже много лет епископы и паства отстают от Ватикана и папа ощущает нечто вроде пассивного сопротивления со стороны церкви. Он как– то сам упомянул католиков – предпринимателей, не допустивших чтения в храмах энциклики «Quadrogesimo anno». Испания, должно быть, пробудила общественное сознание, но трудно ожидать, что тотчас же появится отлаженная техника борьбы. В мероприятии, которое проводило «Католическое действие» в Сан – Антонио, было что‑то жалкое. Отца Лопеса обвели вокруг пальца, и в настоящую минуту церковь пыталась привести к согласию рабочих и хозяев на тех сомнительных условиях, что представители рабочих будут допущены к учетным книгам, и, если не найдут там оснований для снижения расценок, оно будет отменено. Для этой цели в Мексиканском парке – унылом, вытоптанном пустыре с открытыми эстрадными площадками – ракушками, скамейками и двумя качелями – была проведена означенная встреча. Оркестр девушек – католичек исполнил несколько спокойных, радостных мелодий, потом с собравшимися говорил архиепископ, а после него – отец Лопес. Их слушателями были двести рабочих – мексиканцев и еще несколько американок, в которых ощущалась озабоченность завзятых посетительниц трущоб. Микрофон хрипел, так что нельзя было понять ни слова, жара стояла страшная, и девушки – американки казались бледными, сконфуженными, слабыми подле уверенных, чувственных, темнолицых метисов, инстинктом постигавших всю красоту и ужас плоти.
Все делалось, конечно, с лучшими намерениями, но выглядело удручающе. Невольно приходило в голову сравнение с ораторами из Гайд – парка, выступавшими на осененных красными знаменами трибунах перед толпой, которая им отвечала пением «Интернационала». Было понятно, что для католицизма настало время вновь освоить технику революционных действий, неведомую здешним бледным музыкантшам. И сбившиеся в кучки, озабоченные состоятельные дамы, которых отделяло от рабочих не только узкое, грязное пространство пола, но и неодолимая духовная пропасть, были, нимало в том не сомневаюсь, вполне славными женщинами, но слишком уж радевшими о том, чтобы архиепископу оказан был почтительный прием и чтобы он не утомился; любопытно, что бы они сказали в ответ на слова апостола Иакова, которые приводит Пий XI в одной из своих последних энциклик: «Послушайте вы, богатые: плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящих (на вас). Богатство ваше сгнило, и одежды ваши изъедены молью. Золото ваше и серебро изоржавело, и ржавчина их будет свидетельством против вас и съест плоть вашу, как огонь…» Это голос революции, а не туманные слова о том, что можно разрешить рабочим заглянуть в бухгалтерские книги (как может доверять гроссбухам мексиканец, который существует на тридцать пять центов в день?).
ПаноптикумВечером я пошел в паноптикум, помещавшийся в маленьком балаганчике неподалеку от Вест – Сайда. Америка, уверенно расположившаяся возле «Плазы», переходя в миниатюрные подобия Бродвея и становясь огнями небоскреба, тускло мерцающими на фоне ровного южного неба, здесь тихо выдыхается и приближается к «передовым отрядам» города: дощатым хибарам, примитивным зрелищам, борделям улицы Матаморос, где по ночам случаются налеты, описываемые отделами хроники в воскресных выпусках местных газет; в подобный город, как подсказывает мне воображение, в бы – лые времена спешили крепкие мужчины с мешками золота, чтоб насладиться быстрыми и грубыми забавами.
Но для того чтоб насладиться зрелищем уродств, вам не понадобится золото, вы можете их лицезреть в немыслимом количестве за десять центов в крошечном и душном балаганчике. Я оказался там в единственном числе, сюда, по – моему, давным – давно никто не заходил – уродцы, разумеется, не могут конкурировать с улицей Матаморос, пыль запустения лежала на усохших экспонатах. Там были сросшиеся овцы – сиамские близнецы, их восемь ног торчали, словно щупальца у осьминога; телята о так называемых человечьих головах, очень напоминавших лица слабоумных, собаки – перевертыши, закатывавшие стекляшки глаз назад, как будто для того, чтобы увидеть ноги, которые росли у них откуда‑то из позвоночника; «младенец – лягушонок, родившийся от сельской жительницы штата Оклахома».
Но украшением коллекции были тела двух мертвых гангстеров: Хвата – Каплана и его оруженосца Джима из Оклахомы, чьи мумии были помещены в открытых гробах. Джим был в черном, порыжелом костюме, пуговица его ширинки болталась на ниточке, между полами незастегнутого пиджака видна была коричневая впадина реберной дуги; а бывший главарь лежал нагишом, только в паху чернела узкая повязка. Хозяин ее сдвинул, открыв сухие, пыльные, заросшие чресла, и показал два шрама на животе – разрезы, через которые таксидермист извлек все то, что подлежало тлению, затем вложил туда два пальца (чудовищно спародировав апостола Фому) и заставил меня поступить так же: «прикосновение к телу преступника приносит счастье». Он сунул палец в отверстие от пули, разорвавшей мозг, потрогал пыльные, сухие волосы. Я спросил, откуда у него тела. «Из Лиги по предотвращению преступлений», – сказал он, не скрывая раздражения, и, чтобы поскорей уйти от этой темы, подвел меня к висевшей в углу занавеске. Если я уплачу еще десять центов, то смогу полюбоваться образчиками абортов. «Очень поучительно», – прибавил он, а со стены ко мне взывал плакат: «Не сдрейфишь?» Но я не стал испытывать себя и дальше, с меня довольно было и младенца – лягушонка.
Напрасно было говорить себе, что все это, должно быть, лишь искусные подделки (хвостатого мужчину, например, доставили от Барнума), это ничуть не утешало: ведь как ни рассуждай, их создал человек, чтобы удовлетворить свою ужасную потребность в безобразном.
Я вышел на воздух; залитые огнями улицы Америки иссякли где‑то в темноте; за пустырем, меж тускло освещенными тавернами, пощипывая струны гитары и осторожно пробираясь по ухабистой земле предместья, шли мексиканские рабочие. Я зашел в варьете, танцующие походили на гарцевавших на равнине партизанских лошадей, одна из выступавших так сильно топала во время пения, что распятие из накладного золота взлетало вокруг шеи. Всюду висели киноафиши: «На следующей неделе будет демонстрироваться фильм “Quien es la etema martir?”» [18]18
«Кто вечная мученица?» (исп.)
[Закрыть]:






