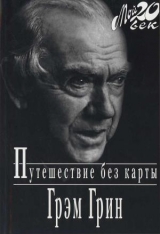
Текст книги "Путешествие без карты"
Автор книги: Грэм Грин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 32 страниц)
Филдингистерн
Так писал Драйден, глядя назад с порога нового столетия на хаос надежд и разочарований, революции, контрреволюции и снова революции.
Время было бурное, но поэту в 1700 году казалось, что оно мало что дало: то, что уничтожил Кромвель, Карл создал заново; то, что мог бы создать Иаков, разрушил Вильгельм. Но литература может процветать в период политических потрясений, если потрясения эти достаточно глубоки и вызывают полное одобрение или отрицание. Приходит на память, что писал Троцкий о первом заседании Совета после Октябрьских дней семнадцатого года: «В их числе были совершенно темные солдаты, как будто в шоке после восстания, еще с трудом владевшие речью. Но именно они нашли слова, каких не мог найти ни один оратор. Это был один из самых волнующих эпизодов революции, впервые ощущавшей свою власть, поднятые ею бесчисленные массы, колоссальность задач, гордость успехом, радостное замирание сердца при мысли о завтра, которое должно было быть более прекрасным, чем сегодня». Слова эти вполне могут быть отнесены к семнадцатому веку, но не к восемнадцатому, когда в 1707 году родился Филдинг и шестью годами позже Стерн.
Беньян, Фокс, квакеры, левеллеры были той самой темной массой солдат, у кого нашлись слова, которых не нашел ни один оратор государственной церкви, и нет сомнения, что некоторые поэты, приветствовавшие возвращение Карла II, были преисполнены неподдельной благодарности за завтрашний день, который должен был быть еще более прекрасным. Фигура великого Драйдена как бы заполняет собой весь конец семнадцатого века. Подобно исключительно тонкому метеорологическому инструменту, он был чувствителен ко всякому ветру: он отразил в своем творчестве триумф Кромвеля, надежды Реставрации, католицизм Иакова, окончательное разочарование. С его смертью в 1700 году новый век, более спокойный, более рациональный, странным образом опустел. Политика приобрела вновь важность для творческого сознания только с появлением романтиков в конце восемнадцатого века, а официальная религия – только у Ньюмена и Хопкинса. Все, что осталось, было только личной чувствительностью и поверхностной панорамой общественной жизни, от грабителя с большой дороги и должника в тюрьме до похотливого лорда в Воксхолле и добродетельной героини, склонившейся над превосходными скучными трудами епископа Бернета.
Литературу и жизнь нельзя разделять. Если то или иное столетие представляется в творческом, поэтическом смысле пустым, справедливо заключить: такова была сама жизнь, без напряжения, без накала страстей. Я употребляю слово «поэзия» в самом широком смысле, в каком поэтом был Генри Джеймс, а Дефо не был. Когда Филдинг в 1742 году опубликовал свой первый роман, «Джозеф Эндрюс», Свифт был на пороге смерти, так же как и Поуп, Кауперу было десять лет, а Блейк еще не родился. Драматическая поэзия, оказавшаяся после смерти Драйдена в слабых руках Аддисона и Роу, фактически прекратила свое существование.
Но литература – это одна из основных потребностей человеческой натуры, и кто‑то в этом опустевшем мире должен был опять приняться за творчество. В такое время не приходится ожидать великих произведений: когда спадает возбуждение, старые формы наглядно предстают как старые, и все, что могут сделать лучшие умы, – это создать новые формы, в которых в конце концов и обосновывается поэтическое воображение. Что‑то должно было занять место драматической поэзии в восемнадцатом веке (не будет преувеличением объяснить обилие переводов Гомера и Вергилия именно поэтическим голодом). С елизаветинских времен Филдинг был первым, кто внес поэтическое воображение в прозу. То, что он начал с пародий на Ричардсона, может свидетельствовать о понимании им неспособности «Памелы», эпистолярного романа, удовлетворить потребность своего времени.
В семнадцатом веке различие между прозой и поэзией было простым. Можно сказать, что проза была по преимуществу порнографической, в том смысле, что представляла собой более или менее легкомысленное рассмотрение сексуальных отношений (такое обобщение справедливо во всех без исключения случаях, идет ли речь о пьесах Уичерли, комедиях в прозе Драйдена, романах Афры Бен или плутовском романе Ричарда Хеда и Фрэнсиса Керкмана), тогда как поэзия ассоциируется прежде всего с героической драмой; это различие особенно явно выступает в пьесах, подобных «Модному браку», содержащему элементы как поэзии, так и прозы – героическое и порнографическое. В литературе эпохи Реставрации нигде, кроме разве великой комедии Каули, не найти образцов прозы, использованной таким образом, как ее использовали Уэбстер и другие драматурги эпохи Иакова I как средства, равного поэзии по достоинству и глубине, т. е., в сущности, как самой поэзии, отличающейся только ритмом, присущим обычной речи. Романы Дефо восходят именно к традиционному идеалу прозы: «Молль Флендерс» – это «Английский мошенник», только в более краткой и выразительной форме. Создать литературную форму, способную привлечь поэтическое воображение, пришлось на долю Филдинга, не отличавшегося, кстати, поэтическим складом ума. Он откровенно заявлял об этом: «Я бы любил и почитал Гомера больше, если бы он написал подлинную историю своего времени смиренной прозой». «Том Джонс» оказался не только архетипом плутовского романа. Генри Джеймс и Джойс обязаны ему в такой же мере, как и Диккенс.
В настоящее время, когда романы Генри Джеймса созданы по– этом – метафизиком, а романы Лоуренса и Конрада – романтиками, мы можем легче постичь революционную природу «Тома Джонса» и «Эмилии». У появившегося позже Стерна (первые тома «Тристрама Шенди» вышли в свет пять лет спустя после смерти Филдинга) эта революционность более очевидна просто потому, что он, в сущности, остается революционным и по сей день. Даже в наши дни он совершенно великолепно продолжает опрокидывать все наши представления о том, что должна представлять собой форма романа; прижились как раз его наименее ценные качества. Его чувствительность легла в основу целой школы бейджей, бэнкрофтов и блоуэров (я не помню, кто это писал: «Господи, если я не столь согрешил против Тебя, даруй мне великое благо опустить иногда серебряную монету, только не больше шиллинга, в холодную влажную руку опустившейся жены баронета»; но своей чувствительностью он обязан автору «Сентиментального путешествия»), в то время как его эксцентричность унаследовали эссеисты, особенно Лэм. Форме же его никто не пытался подражать; какой в этом был бы толк? Подражание могло бы только вызвать в памяти оригинал. «Тристрам Шенди» – очаровательная, бесплотная странность, последнее слово литературного эгоизма. Даже тот факт, что Стерн был иногда поэтом, менее важен для практикующих его искусство, чем тот, что Филдинг иногда – пытался стать им.
Окружающий мир нанес Стерну, лукавому, беспокойному, неудачно женатому священнику, сыну пожилого прапорщика, не имевшего ни средств, ни влияния для того, чтобы продвинуться по службе, так много унижений, что он вынужден был создать между этим миром и собой линию защиты из сентиментальности и мелких непристойностей (он восхищался Рабле, но как робко и «проказливо» отражает его глава «О носах» автора «Героических деяний Гаргантюаи Пантагрюэля»), По нашу сторону этой линии ему нечего было нам предложить, кроме своей гениальной способности выражать личные чувства лукавого, беспокойного, неудачно женатого человека. Нас возмущает тщеславие этого гения, требующего признания потомства для своей книги, нимало не беспокоясь о ее достоинствах: «Чем отличается моя книга от деяний Моисея или “Сказки бочки”, чтобы и ей не плыть с ними в сточной канаве времени?» Этот сентиментальный, сторонящийся всего и всех человек ближе всего соприкасается с обычной жизнью в порнографическом кружке Холла – Стивенсона, а со страстью – в его письмах к Элизе, надежно отделенной от него Индийским океаном и разницей в возрасте. Мы чувствуем, что он не может рассказать нам ничего ни о ком, кроме как о самом себе, и его личность так приглажена и идеализирована, что собственная жена не узнала бы его.
Сравните жизненную ситуацию в его время и положение Филдинга: Филдинга – повесы, Филдинга – помещика, Филдинга – драматурга и, наконец, Филдинга – судьи в Вестминстере, который, как никто другой, знал жизнь изгоев общества, от воров и головорезов до оскудевших дворян и офицеров на половинном жалованье в суде для должников. Взгляните на тщательное построение «Тома Джонса»: вступление, позволяющее автору выразить свою точку зрения, а персонажам – идти своим путем, свободным, в отличие от персонажей Дефо, от несвойственного им морализирования; введение пародии таким же образом и с той же самой целью, как это делает Джойс в «Улиссе»; бесчисленные ответвления сюжета, где история Тома Джонса занимает свое место в общей оркестровке, придающие книге масштабность самой жизни; перемещения назад и вперед во времени, когда персонажи, как у Конрада, встречаются и повествуют друг другу о событиях прошлого, – художественный прием, требующий от всякого романиста особого мастерства, которому мы обязаны мгновениями проникновения в «бездну, именуемую прошлым». Сравните все это тщательно выполненное построение со школьничеством Стерна: пустые, темные, пестрые страницы и многоточия «Тристрама Шенди». Мы не можем не испытывать благодарности, думая о том, сколько труда вложил Филдинг в свои книги, о значении его новаторских приемов, и в то же время мы сознаем, что Стерн, ничего подобного не достигший, может все же доставить нам большее удовольствие тем, что мы называем его особым даром – его мастерством, проявившимся в создании автопортрета (даже дядюшка Тоби есть не что иное, как еще один пример его колоссального эготизма: это единственный созданный им персонаж из внешнего мира, но и здесь мы прежде всего ощущаем, как любуется автор своей тонкой проницательностью).
Как человек Стерн совершенно невыносим; даже эмоции, изображаемые им с таким изумительным мастерством, – это дешевые эмоции. Драйден мертв; великое время миновало; кавалеры и круглоголовые стали вигами и тори; Камберленд разбил последние надежды Стюартов при Каллодене; целое столетие не в состоянии породить заслуживающую уважения страсть. Так должен чувствовать всякий, кто воспринимает переход от эссе Бэкона и его подлинного последователя Каули к эссе Лэма как упадок человеческого достоинства. Это был именно упадок, выражающийся в переходе от творений типа «Месть – это необузданная справедливость» или «Это был день похорон человека, который заставил называть себя протектором» к подобным образчикам: «Ухо у меня отсутствует – не пойми меня превратно, читатель, заключив, что я лишен природой одного из этих идентичных наружных приложений или висячих украшений!..» – или позднейшему маленькому эссе на тему «О раннем вставании по утрам» или «Потеря запонки». Со времени Стерна в нашу литературу проникли личные эмоции, личная чувствительность и эксцентричность. Невозможно не чувствовать легкого отвращения к человеку, по крайней мере номинально служителю церкви, который в «Сентиментальном путешествии» находит удовлетворение в своих собственных переживаниях по поводу сумасшедшей из Мулена: «Я уверен, что у меня есть душа; никогда все те книги, какими материалисты докучают миру, не убедят меня в обратном».
Немного досадно сознавать, что тщеславие такого человека оправданно. Как бы он, а точнее, его претенциозность нас ни раздражала, читать его легче, чем Филдинга, за счет чрезвычайно музыкального стиля, напоминающего разговор, который ведет заика в своем воображении: нет необходимости бороться с препятствиями, чинимыми языком и зубами, все слоги мягки, один ум кротко беседует с другим с бесконечной изысканностью тона.
«Предметом этого повествования станут различные несчастья, постигшие одну весьма достойную пару по вступлении их в брачный союз. Бедствия, которые им пришлось преодолеть, были столь велики, а события, повлекшие их за собой, столь невероятны, что объяснить их можно не только крайней злобой, но и крайней изобретательностью, какими суеверие наделяет судьбу».
Так Филдинг начинает свой самый зрелый, если не самый великий роман. Писателя в этой книге должен особенно привлечь ловкий прием, посредством которого на протяжении половины романа Филдинг рассказывает историю Бута и Эмилии, ни разу не нарушая единство места действия, не выходя за стены тюрьмы, где заключен Бут. Это такой же замечательный прием, как и нарочитая путаница в «Тристраме Шенди». Но если читатель скажет: «Я читаю для развлечения» и стиль Филдинга чересчур тяжел по сравнению с дерзко – самоуверенным началом у Стерна: «Хотел бы я, чтобы мой отец или моя мать или оба они, если на то пошло, задумались бы, как велит им обоим долг, над тем, на что они идут, когда зачинали меня», у нас не найдется, что ему ответить.
Да, за Стерном следует признать множество ценных качеств. Но чего у него не было и чем обладал Филдинг, что было в такой же мере ново для романа, как и легкость и чувствительность Стерна, – это серьезное отношение к морали. Филдинг не был поэтом (в отличие от Стерна, который был, хотя и небольшим), но это качество дало ему возможность создать форму, впоследствии удовлетворявшую требованиям крупных поэтов, чего не могло сделать бесхитростное повествование Дефо. Восхищаясь Томом Джонсом как первым портретом «цельного человека» (определение, которому в литературе позднего периода соответствует один только Блум), мы воздаем должное этой серьезности Филдинга, его способности отличать безнравственность от порока. Он был невысокого мнения о человеческой природе: некоторая чувственность Тома Джонса, неисправимые пристрастия Бута, его собственная реакция на насмешки лодочников в Розерхите над его умирающим телом, изуродованным водянкой («Это была наглядная картина той жестокости и бесчеловечности в человеческой природе, которую я часто с тревогой наблюдал и которая наводит на очень неприятные и грустные мысли»), свидетельствуют об этом с не меньшей убедительностью, чем совершенно невероятные образцы добродетели, честность мистера Оллверти или героизм терпеливой Эмилии. Ему на опыте были знакомы немало Бутов и Томов Джонсов (некто с таким именем и в самом деле предстал перед ним однажды в качестве подсудимого). Но примеры добродетели он находил в своем воображении. Нельзя поэтому согласиться с Сейнтсбери, необоснованно и странно заметившим по поводу героинь Филдинга: «Во всей литературе нет более трогательного изображения женской доброты и терпения, чем это, героическое и бессмертное».
Отнести эти неумеренные похвалы к Филдингу нелепо, так же как сравнивать содержанку мисс Мэтьюз в «Эмилии», как это делал Добсон, с персонажем Бальзака. Его время не дало ему возможности достичь здесь многого. Свои героические образы он черпает из Драйдена – без особого успеха (связь между Эмилией и таким персонажем, как Альмейда, совершенно очевидна). Но чем мы действительно ему обязаны, это тем, что он воссоединил в своих романах два направления в литературе эпохи Реставрации, связав на своем собственном, более низком уровне легкомысленную прозу драматургов с героической драмой поэтов.
Именно на низком, нерелигиозном уровне. Его добродетели – это природные добродетели, его отчаяние – это естественное отчаяние, переносимое с таким же мужеством, как и у Драйдена, но без участия сверхъестественного.
Так встречает смерть Драйден, так же это делает и Филдинг, последний, быть может, в более привлекательной форме, с чисто природным достоинством. Для Филдинга смерть означает еще и последний тяжелый шаг в выполнении общественного долга, предпринятый им в последние дни жизни, чтобы добиться пенсии от правительства для жены и детей: «Хотя я отрицаю всякую претензию на спартанский или римский патриотизм, из любви к обществу всегда готовый на любую жертву для общественного блага, я торжественно заявляю, что такова моя любовь к моей семье».
Он ненавидел беззаконие и действительно умер в изгнании. В его книгах есть нравственные столкновения, но в них совершенно отсутствуют сверхъестественные начала добра и зла. Элиот писал, что «с исчезновением идеи первородного греха, с исчезновением идеи напряженной моральной борьбы люди, предстающие перед нами в поэзии и прозе, становятся все менее и менее реальными». Именно этой напряженности и не хватает Филдингу. Зло – это неизменно только сексуальная проблема; борьба сводится к тому, сумеет ли «благородный лорд» или полковник Джеймс изнасиловать или соблазнить Эмилию. И в этой борьбе, показанной с такой же изобретательностью, какую проявляет дядюшка Тоби с его фортификациями, персонажи действительно все больше утрачивают реальность. Можно ли принять это всерьез, когда миссис Хартфри удается пять раз избежать насилия на протяжении двадцати страниц? Единственный положительный здесь момент – это более достойное изображение всего происходящего по сравнению с «Сентиментальным путешествием», где Стерн присваивает себе роль Памелы, Эмилии и миссис Хартфри, вынуждая нас трепетать за его собственную добродетель («Постель была в полутора ярдах от того места, где мы стояли. Руки ее оставались по – прежнему в моих, и как это случилось, я не знаю, но я не обращался к ней, не привлекал ее к себе, да я и не думал о постели…»). Но моральная сторона жизни у Филдинга напоминает игру, цель участников которой – пройти в кратчайший срок определенное расстояние на бумаге, и успех продвижения зависит от того, на какую ступень попадет игрок по числу выпавших ему очков. Если фишка у игрока попадет на Маскарад или Билет в Воксхолл, ему приходится опуститься очень низко.
Было бы неблагодарностью закончить на такой придирчиво – критической ноте. Плутовские романы существовали до Филдинга – со времен Нэша и до Дефо, – но плутовское начало не было возведено в ранг искусства, не получило той формы, той организации, какая отделяет искусство от простого реалистического описания, каким бы живым оно ни было. Филдинг поднял жизнь из обычной ее сферы и аранжировал, на радость всем любителям симметрии. Он может позволить себе предоставить Стерну изящную игру с эмоциями, забавные маленькие непристойности: человек, создавший Партриджа, определенно приходится сродни создателю Фальстафа. «Смерть – вот самое вероятное, что может постичь человека, идущего в бой, – заметил Джонс. – Быть может, мы оба падем в этом бою, что тогда?» «Что тогда? – отвечал Партридж. – Ну, тогда нам придет конец, ведь так? Когда меня не будет, для меня все кончится. Что мне в том, кто победит, если меня убьют. Мне‑то от этого толку не будет. Что колокольный звон и фейерверки тому, у кого шесть футов над головой? Конец бедному Партриджу».
Филдинг пытался внести в роман поэзию, хотя сам он не был поэтом, а только человеком справедливым, великодушным и мужественным, и созданные им традиции романа позволили этому жанру в более темпераментный век стать поэтическим искусством, заполнить пробел, образовавшийся в литературе со смертью Драйдена в конце XVII столетия. Он был лучшим продуктом своего времени, послереволюционного периода, когда политика впервые перестала представлять серьезные проблемы, а религия возбуждала только самые неглубокие чувства. Его материалом были бедные офицеры, разбойники с большой дороги, должники, аристократы, не нашедшие себе лучшего занятия, кроме любовных приключений, священники вроде пастора Адамса, наделенного качествами в такой же мере языческими, как и христианскими. Как говорит Элиот, «писатель, когда он пишет, остается самим собой, и ущерб, нанесенный всей жизнью, не может быть возмещен в момент творчества». Нам не приходится жаловаться; скорее нам следует изумляться тому, чего достиг в такое время столь прозаический ум.
Франсуа Мориак
После смерти Генри Джеймса над английским романом разразилась катастрофа. Еще задолго до этого момента можно уже вообразить себе спокойную, внушительную, довольно благодушную фигуру писателя, созерцающего, подобно единственному уцелевшему из потерпевших кораблекрушение, со спасательного плота море с плавающими в нем обломками. Он даже увековечил свои впечатления в статье, опубликованной в «Таймс Литерэри Саплмент», – свою надежду на таких молодых романистов, как Комптон Маккензи и Д. Е Лоуренс. Впрочем, была ли это действительно надежда, а не просто проявление его неизменной, чисто восточной вежливости? Мы, кому довелось жить после катастрофы, сознаем бесплодность таких надежд.
Со смертью Г. Джеймса английский роман утратил религиозное начало, а с ним и сознание важности человеческого поступка. Литература как бы утратила одно из своих измерений: персонажи таких выдающихся писателей, как Вирджиния Вулф и Э. М. Форстер, блуждали по тонкому, как бумага, миру наподобие картонных фигурок. Даже у наиболее материалистичного из наших великих романистов, Троллопа, мы ощущаем присутствие иного мира, на фоне которого поступки персонажей приобретают особую рельефность. Нескладный священник, пробирающийся по грязи в своих черных ботинках, не знающий, куда девать зонтик, жалующийся на скудость своего дохода, предлагающий, запинаясь, руку и сердце, вполне реален, в противоположность мистеру Рэмзи у Вирджинии Вулф, потому что мы знаем, что он существует не только для женщины, которой он делает предложение, но и для Бога. Его незначительность в нашем мире соизмерима только с его колоссальной значимостью в мире ином.
Писатели, ощутившие, быть может не отдавая себе в этом отчета, всю сложность создавшегося положения, нашли выход в субъективном романе. Им словно бы казалось, что, «разрабатывая» не тронутые доселе пласты личности, они сумеют извлечь на поверхность секрет «значимости». Но в этих поисках они утратили еще одно измерение. Мир зримый прекратил для них существование так же окончательно, как и мир духовный. Проходя по Риджент – стрит, миссис Деллоуэй замечает блеск витрин, плавный бег автомобилей, разговоры прохожих, но до читателя все это доносится только через восприятие миссис Деллоуэй. Риджент – стрит стала очаровательным, причудливым, довольно сентиментальным стихотворением в прозе: дуновение воздуха, струя аромата, сверкание стекла. Но, протестуем мы, ведь Риджент – стрит тоже имеет право на существование, она более реальна, чем миссис Деллоуэй; и мы с ностальгическим чувством оглядываемся на лавчонки, бедные дворики, затихающие по воскресеньям улицы Диккенса. Персонажи Диккенса имеют непреходящее значение; и дома, где они любили, и задворки, где они обрекали себя на погибель, приобрели это значение благодаря их присутствию. Они получили право существовать такими, какими они были, и если слегка и искажались, то только самим их непосредственным наблюдателем, а не воображаемым персонажем с еще большего расстояния.
Поэтому значение Мориака для английского читателя прежде всего в его принадлежности к числу великих традиционных романистов. Для него зримый мир не переставал существовать, в его персонажах ощущается значительность, основательность людей, в ком живет душа, которая может спастись или пропасть. Он утверждает основное и традиционное право романиста комментировать события, выражать свои взгляды. Мы так устали от догматически «чистого» романа, традиции, основанной Флобером и доведенной до совершенства в причудливых извивах романов Генри Джеймса. Такой роман напоминает детскую игру, где ребенку предлагается найти путь в центр изображенного на рисунке лабиринта. Но в «чистом» романе читатель начинает с центра и должен найти путь к выходу. Он водит карандашом по дорожкам, которые должны вывести его к границам лабиринта, в мир за его пределами, где можно найти моральные суждения и поступки сверхъестественной важности (даже написание романа может считаться важным действием, выражающим намерение более значительное, чем супружеская измена героя или убийство в главе 3). Но печатные дорожки бегут, извиваются, скользят, возвращают его к началу, и при пристальном рассмотрении читатель обнаруживает, что создатель лабиринта закрыл печатной строкой единственный выход.
Я не отрицаю высоких достоинств Флобера и Генри Джеймса. Роман переставал быть эстетической формой, а они вновь обратили к ней сознание художника. Это уже писатели более позднего периода, слепо восприняв догму техники, превратили роман в тусклую, безжизненную форму. Исключив автора, можно зайти слишком далеко. Ведь и автор, бедняга, имеет право на существование. Это право и отстаивает Мориак. Правда, флоберовская форма еще не вполне им утрачена в «Фарисейке», как это имеет место в «Поцелуе прокаженному»; рассказчик, вымышленное «я», играет свою роль в романе. Пуристы могут приписать все имеющиеся в романе комментарии этому «я», но это лишь поверхностное впечатление – подлинное «я» автора доминирует над воображаемым. Процитирую два отрывка:
«– И потом, такой красивый, ты не находишь?
Нет, мне он не казался красивым. Что такое красота для ребенка? Несомненно, что и к силе, и к могуществу он особенно чувствителен. Но этот вопрос, должно быть, поразил меня, поскольку теперь, по прошествии целой жизни, я часто вспоминаю это место в аллее, где Мишель задала мне тот вопрос о Жане. Мог бы я лучше определить теперь то, что я называю красотой? Мог бы сказать, по какому признаку я распознаю ее, идет ли речь о лице, о горизонте, о небесах, о красках, о речи, о песне? По тому трепету плоти, затрагивающему, однако, и душу, по той отчаянной радости, по тому бесконечному созерцанию, которого не может заменить ни одно объятие…»
«В тот день я впервые увидел в открытую моего старинного врага – одиночество, с которым я теперь прекрасно уживаюсь. Мы знаем друг друга. Оно нанесло мне все возможные удары, и уже не остается больше места, куда можно было бы нанести новый. Я думаю, что не избежал ни одной из его ловушек. Теперь оно прекратило меня терзать. Бок о бок мы пошевеливали в камине угли зимними вечерами, когда звук падения сосновой шишки или рыдание ноктюрна так же трогают мое сердце, как и человеческий голос».
В таких отрывках ощущается, как в шекспировских пьесах, внезапное нарастание напряжения, на душу нисходит тишина. Это нечто более значительное, чем Лир, король, или Отелло, генерал, нечто не ограниченное и не обусловленное сюжетом. «Я» вымышленное умолкает, говорит подлинное «я».
Рассматривать сюжеты Мориака особого желания не возникает. Кто может описать ход событий в «То, что было утрачено» полгода спустя после прочтения? Запоминаются простые сюжетные линии в «Поцелуе прокаженному», но чем проще события романа, тем легче они исчезают из памяти. Остаются только персонажи, кого мы узнали настолько близко, что события, происходившие в период их жизни, описываемый автором, забываются, а они нет. (В первых строках «Фарисейки» во всей полноте предстает перед нами ужасный граф де Мирбель: «“Подойди, мальчик!” Я повернулся, думая, что он обращается к одному из моих товарищей. Но нет, это ко мне обращался, улыбаясь, старый зуав. Шрам на верхней губе делал его улыбку ужасающей». Персонажи Мориака в физическом смысле воплощены чрезвычайно полно (в этом он близок к Диккенсу), но их отдельные поступки менее важны, чем та сила, будь это Бог или дьявол, что ими движет. Мориак достигает высокого драматизма в своих сильных сценах, как, например, когда Жан де Мирбель, чья душа в такой опасности (вроде несчастного терзаемого Большого Мольна), является молчаливым свидетелем у деревенской гостиницы пошлого адюльтера своей обожаемой матери. Но в сюжете странным образом не хватает «сцеплений», событий, которые должны были бы обеспечить естественный и убедительный переход от одной сцены к другой. Если попытаться пересказать сюжеты его романов, они замелькают, как кадры старого немого фильма. Но кому придет в голову пересказывать сюжеты? Сотрите всю цепь событий, но персонажи у вас все равно останутся. Отнимите у миссис Деллоуэй способность самовыражения – и не останется не только романа, но и самой миссис Деллоуэй; отнимите сюжет у Диккенса – и персонажи, которые так живо существовали от одного события до другого, исчезнут, растворятся. Но если бы графиня де Мирбель не изменила мужу, если бы опекун Жана, зловещий зуав, не поднял на него руку, если бы мальчик не оказался на попечении неумелого, благонамеренного, почти святого аббата Калу, персонажи продолжали бы существовать точно так же. Наше спасение или проклятие в наших мыслях, не в наших делах.
В романах Мориака события служат не для того, чтобы изменять персонажи (и в самом деле, как мало меняют нас обстоятельства: в этом смысле «Лорд Джим» Конрада романтичен и неправдоподобен). Они служат их раскрытию, осуществляемому постепенно, с неподражаемой тонкостью. Его моральная и религиозная проницательность есть прямая противоположность очевидному. У Мориака редко можно найти необоснованное предположение или шаблонный персонаж. Взять, например, бедного благочестивого причетника месье Пюибаро. Это тип, который мы называем «святоша», но Мориак показывает, как на самом деле святоша может обрести подлинную святость. В самой фарисейке под покровом разрушительного эгоизма и притворной жалости автором с сочувствием раскрывается религиозная сущность. Лицемерие приводит к искренности. Лицемерка не может всю жизнь сохранять иммунитет к проповедуемым ею взглядам. У Мориака есть ирония, но нет сатиры.
Я сознаю, что разбросал слишком много имен и сравнений в этом коротком и поверхностном очерке, но одно имя, величайшее, нельзя не упомянуть, говоря о Мориаке: это Паскаль. Современный романист, Мориак оставляет за собой свободу комментировать и делает это – от имени ли своих персонажей или своего собственного – исключительно в манере Паскаля.
«Люди не изменяются. Эта истина в моем возрасте бесспорна. Но они часто возвращаются к склонностям, с которыми они всю жизнь боролись до изнеможения. Это не значит, что они уступают самому худшему, что в них есть: Бог есть то благое искушение, какому в конце концов поддаются люди».
«Есть существа, которые расставляют сети и могут долго голодать, пока в них не попадется жертва. Терпение порока беспредельно».
«Не должно пытаться войти в жизнь других вопреки их воле. Запомни это, малыш. Нельзя распахивать дверь ни в жизнь других, ни в жизнь вечную, которая ведома только Богу. Нельзя оборачиваться в сторону неведомого нам города, города, в котором были прокляты другие, если не хочешь быть превращенным в соляной столп…»






