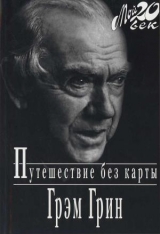
Текст книги "Путешествие без карты"
Автор книги: Грэм Грин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 32 страниц)
На этом рассказ заканчивался. Я спросил:
– А вождь Нимли в конце концов пришел?
– Конечно, нет, – сказал полковник Дэвис. – Он только вызвал молнию. Но в моем лагере было много людей из племени бузи, а все они члены Общества молнии; они разложили свои талисманы, и молния никому не причинила вреда.
На веранде снова показался повар полковника и сказал, что обед стынет. Дэвис на него накричал – он не умел ладить со слугами.
Мы перешли на мою веранду, полковник принялся за виски и рассказал нам во всех подробностях историю своего первого брака: он женился на трезвеннице, но хитростью излечил ее от этого порока. Повар время от времени выскакивал на веранду, как чертик из табакерки, напоминая о еде, но Дэвис упрямо не трогался с места, чтобы показать, кто здесь хозяин.
Назавтра вечером он снова зашел ко мне выпить и почти прикончил мое виски. Ночь была пронизывающе холодная, собиралась гроза; явно надвигалась пора дождей. Просидев часа два, полковник расчувствовался: откинувшись на спинку стула, он смотрел на меня с грустью человека непонятого; трудно было представить себе, что он мог даже присутствовать при каких‑нибудь зверствах.
– Как‑то раз я плыл на большом пароходе, – сказал полковник, – и после обеда капитан пригласил меня подняться к нему на мостик. Он обронил замечание, которого я не могу забыть. Показывая мне проходившее мимо судно, он сказал, что ему вспоминаются три книги, которые стоят внизу в библиотеке. Одна из них – «Корабли проходят ночью мимо». Догадайтесь, как называются две другие?
Мы с братом не могли догадаться.
– Капитан показал на палубу, где гуляли пассажиры. «Смотрите, Дэвис, вот “Люди, которых мы встречаем”. Но еще важнее, – продолжал он, обращаясь ко мне, – “Друзья, которых мы любим”».
Я подлил ему виски.
– Какая прекрасная мысль! – сказал он, скромно отвернувшись.
Наутро я проснулся с сильным насморком, несмотря на то что ночью надел поверх пижамы свитер и укрылся двумя одеялами. За завтраком мне подали письмо от квартирмейстера:
«Дорогой друг, мистер Грин. С добрым утром. Я хочу обратиться к Вам с просьбой, которую, надеюсь, Вы сможете выполнить. Если у Вас есть коньяк, пошлите мне немножко, или чего‑нибудь еще, если коньяк у вас вышел. Буду Вам очень благодарен. Мне сегодня утром, понимаете ли, ужасно холодно, надеюсь, вы оба здоровы. Горячо желаю Вам хорошего самочувствия.
Ваш друг Вордсворт ,квартирмейстер.
Сегодня вечером приведу к Вам и к Вашему двоюродному брату в гости моих сестер. Они очень хотят с Вами подружиться».
Я послал ему стаканчик виски и попросил кокосовый орех и немножко пальмового масла, оно требовалось повару вместо сала. Вскоре мне принесли кокосовый орех, бутылку пальмового масла и записочку, которая гласила:
«Дорогой друг. Большущее спасибо за Ваше любезное угощение, я Вам очень за него признателен. Буду неизменно считать Вас своим другом…»
Кругом стояла тишина: было воскресенье, и тяжеловесный покой патриархальной Англии разлился над Тапи – Та. Даже деревенские пляски и те были запрещены. Заключенных погнали мыться, связав их попарно веревками, а из патефона, стоявшего в домике, где остановились два окружных комиссара, по всему раскаленному пустому двору разносились звуки духовных песнопений: «Внимай, глашатаи Небес поют», «Я ближе, Господь мой, к Тебе». Но потом их сменила танцевальная музыка и развязные американские песенки. Я вышел размять ноги, мне нездоровилось и было тоскливо; Берег казался мне по – прежнему недосягаемо далеким. Какое безумие слоняться здесь, в самом сердце Либерии, когда все, что мне дорого и знакомо, находится в Европе. Жизнь стала похожа на дурной сон. Я не мог вспомнить, зачем меня сюда занесло. Мне хотелось бежать отсюда не теряя ни минуты, но не было сил, да и слова доктора Харли, предостерегавшего от ходьбы пешком по Западной Африке, меня пугали. Мне надо было отдохнуть несколько дней, и не только мне, но и моим людям. Марк устал до полусмерти, и даже Амеду и Ламина совсем издергались. Я старался утешить себя мыслью о том, что до Гран – Басы всего шесть дней пути, и, если верить полковнику Дэвису, нам придется торчать в этом убогом порту не больше недели, дожидаясь прихода судна.
Когда я принимал ванну, готовясь проспать самую жаркую часть дня, появился квартирмейстер. Он хотел купить бутылку виски для своего брата, и брат дал на это пять шиллингов. Я сказал, что виски у меня не осталось, или, вернее, осталось в обрез только – только дотянуть до Берега. Но когда мои часы показывали половину третьего и я едва успел заснуть, он явился снова с запиской от окружного комиссара, приглашавшего меня к двум часам обедать. И хотя я уже плотно поел, я все же пошел, захватив с собой полбутылки сильно разбавленного виски.
Общество мне напомнило одно из тех странных, грубоватых семейных сборищ, которые любил описывать Сэмюел Батлер. Казалось, время вернулось вспять лет на шестьдесят и я попал на один из воскресных званых обедов времен королевы Виктории. Единственное, чего недоставало за столом, – это хозяйки дома: она помогала подавать еду. На хозяйском месте сидел папаша – желтолицый Вордсворт с густыми бакенбардами, одетый в тяжелый темный воскресный костюм; его живот украшала золотая цепочка от часов с золотой печаткой. На стенах висели выцветшие семейные фотографии викторианской поры (баки, турнюры и зонтики) в дешевых четырехугольных рамках. Все, кроме меня и полковника Дэвиса, сидевшего на противоположном конце стола и резавшего гуся, были одеты по – праздничному – и тощий старый негр, болтавшийся в своем пиджаке, как сухой орех в скорлупе (он был членом выездной судебной комиссии), и черный комиссар из Гран – Басы, и еще один комиссар, робевший перед полковником Дэвисом; он‑то, как я подозреваю, и заводил пластинки с духовными псалмами. А комиссар из Гран – Басы явно предпочитал скабрезные песенки.
Беседа не клеилась, говорили о погоде, о нечистой силе и тайных обществах, передавали местные сплетни. Полковник Дэвис непоколебимо верил в силу Общества молнии. Он бывал в поселках, где члены этого общества показывали чудеса в его честь. Они говорили, что в такой‑то час ударит молния, и точно: в назначенный час в безоблачном небе вдоль всей цепи холмов на целые мили вокруг начинали сверкать молнии. Судья Пейдж дополнил этот рассказ, перечислив несколько своих судебных приговоров преступникам, вызывавшим на землю молнии, но тут полковник Дэвис пожелал перевести разговор на великосветскую тему – он заговорил о еде. Он путешествовал по Европе с президентом Кингом и отлично помнил, как они ели икру.
Полковник Дэвис объяснял недоумевающим черным:
– Икра – это черные яички маленьких рыбок. – Он обратился ко мне: – Теперь вы в Англии, конечно, уже не получаете русских папирос?
Я сказал, что точно не знаю, но, кажется, видел их в табачных лавках.
– Ненастоящие, – заявил полковник Дэвис. – Те – вещь редкая. Года два назад их в Монровии подавали как отдельное блюдо на званых обедах.
– Когда же его подавали? – спросил я.
– После рыбы, перед салатом, – ответил полковник, а комиссар из Гран – Басы, перегнувшись через стол, ловил каждое слово о роскошной жизни столичной знати. – В зале воцарялся полумрак, – тут полковник сделал выразительную паузу, – и каждому гостю подавали по одной папиросе.
Судья утвердительно кивнул: он и сам был из Монровии.
Помню, я сказал полковнику Дэвису, как меня удивляет, что я не вижу здесь ни единого москита. Да, он тоже не видел ни одного москита с прошлых дождей; он немножко страдает от палящей жары, но, ей – богу же, Либерия – самое здоровое место в Африке.
У него была явная склонность к преувеличениям. Он, например, заявил, что в Либерии никогда не было желтой лихорадки; управляющий английским банком, который умер от нее в Монровии (его смерть была одной из причин, по которым Западноафриканский банк закрыл свое отделение в Либерии), завез эту заразу из Лагоса. Причина всех остальных смертных случаев – это прививки. В Либерии реже болеют малярией, продолжал он, чем в каком‑либо другом месте на Западном Берегу. «Вы ведь и сами заметили, – сказал полковник, – что здесь нет москитов». Но судьба сыграла с Дэвисом злую шутку: когда наступил вечер и мы его ждали, чтобы выпить вместе по стаканчику виски, квартирмейстер сообщил нам, что полковник слег в тяжелом приступе лихорадки.
И поэтому в наш последний вечер в Тапи – Та нас развлекал квартирмейстер; он сидел напротив с мечтательным видом, и его большие блестящие тюленьи глаза настойчиво молили нас о дружбе. По его словам, он сразу же почувствовал ко мне симпатию, когда встретил нас на тропинке возле Ганты; он тогда же понял, что мы будем друзьями. Он будет писать мне, а я должен писать ему. В Тапи – Та очень скучно, он привык к столичной жизни; в Монровии весело, там танцуют и сидят в кафе на пляже. Когда мы туда попадем, сезон уже кончится, но все равно там будет весело, столько всяких развлечений, танцы при лунном свете… Его странные сияющие глаза романтика смотрели на меня не отрываясь. Сердце его было переполнено любовью, дружбой, танцами и лунным светом.
– Вы пришли из страны племени бузи, – продолжал он. – У них там замечательные талисманы. Есть даже превосходное средство от венерических болезней. Надо обвязать веревку вокруг пояса. Я‑то, правда, никогда этого не пробовал. – И он добавил очень грустно: – Вас, белых, наверно, никогда не мучают венерические болезни.
Он долго печалился по поводу нашего отъезда. Жаль, что он не может пойти с нами, но он навсегда останется мне другом. Он очень хочет получать от меня письма. Ночью, когда я выходил в лес, он поймал меня у ворот.
– Надеюсь, – сказал он, – вы не будете на меня в претензии за непрошеное вмешательство, но позади дома полковника есть хорошая уборная с деревянным сиденьем. Для вас это куда удобнее, чем ходить в чащу.
Однако я помнил, что он еще не испробовал превосходного средства племени бузи, и твердыми шагами пошел в лес. На следу – ющее утро он встал чуть свет, чтобы нас проводить, и последнее мое впечатление от Тапи – Та – его влажное, романтическое рукопожатие на сером от пыли пустынном дворе резиденции.
Глава четвертая. Последний этапЯ никак не предполагал, что Гран – Баса когда‑нибудь станет для меня идеальным местом отдыха. Но сейчас она казалась мне землей обетованной. Ведь там я встречу хотя бы еще одного белого; перед глазами у меня раскинется море вместо леса; может быть, там найдется и пиво. Пока я снова не пустился в путь, я не отдавал себе отчета в том, как я измучен дорогой. На меня уже не действовали лошадиные дозы английской соли; раньше я принимал по ложечке утром и вечером с горячим чаем, но сейчас я с тем же успехом мог бы глотать сахар. Я чувствовал себя усталым, изнуренным, еше не сделав ни шагу, а у меня не было даже гамака, в который я мог бы забраться. В Ганте нам сказали, что мы дойдем от Тапи – Та до Гран – Басы за шесть дней, но в Тапи – Та объяснили, что путешествие отнимет у нас не меньше недели, а вернее – и все десять дней. Я уже больше не мог исчислять время такими большими сроками, даже четыре дня казались мне вечностью. Пока нельзя будет сказать «завтра», я не поверю, что мы и в самом деле приближаемся к Берегу. Голова моя так же устала, как и тело. На мне лежала вся ответственность за путешествие, выбор дороги, забота о людях, а мысли отказывались повиноваться. Я попросту не мог представить себе, что мы когда‑нибудь доберемся до Гран – Басы, что я когда‑то вел совсем иную жизнь, чем теперь.
Мне было трудно дойти до нашего следующего привала – Зиеншу. От Тапи – Та до этого поселка было почти девять часов ходьбы, все время вниз, в сырую, душную жару, а первые несколько миль нужно было пробираться по затопленным местам, по пояс в воде. Проводник, которого дал нам комиссар из Гран – Басы, наказав ему доставить нас до дверей лавки компании П. З. на Берегу, оказался никуда не годным с самого начала. Этот парень в рваном синем мундире, с ружьем за плечами, которое не выстрелило бы даже в том случае, если бы у его владельца были патроны, нес все свои пожитки в жестяном ведерке и отстал от нас в первой же деревне. Его звали Томми, и в нем была своя нагловатая мальчишеская прелесть. Дорогу он знал, но отнюдь не желал идти с той скоростью, с какой шли мы. По утрам он начинал переход довольно быстро, но уже через полчаса отбегал в сторонку, в лес, и догонял нас не раньше, чем мы делали полуденный привал. К этому времени он уже был немножко пьян. Благодаря тому что на нем был мундир, он мог ограбить любую деревню по дороге, разжившись там пальмовым вином, фруктами и овощами.
Я ничего не помню о переходе до Зиеншу и очень немного – о днях, которые за этим последовали. Я так обессилел, что не мог записать в дневнике больше нескольких строк; надеюсь, мне никогда не придется так уставать. У меня сохранилось смутное воспоминание о чаще, которой нет конца, о редких холмах, поднимающихся над лесом; взобравшись на такой холм, мы видим со всех сторон покатые громады лесов, тянущиеся до самого моря. У Зиеншу сбегал по косогору ручей, и в нем плавали какие‑то удивительно английские утки. Помню, я захотел присесть, но тут же был вынужден вступить в переговоры с вождем поселка относительно пищи для носильщиков; уселся снова, но сразу же встал опять, чтобы дать трехпенсовую монетку повару, покупавшему курицу; опять попытался сесть, но был поднят для того, чтобы перевязать болячку одному из носильщиков. Больше я не мог этого вынести: проглотив две столовые ложки английской соли с чашкой крепкого чая (сгущенное молоко кончилось у нас уже давно), я предоставил вести все остальные дела двоюродному брату. У меня поднялась температура. Растворив двадцать граммов хинина в стаканчике виски, я выпил, разделся, завернулся в одеяло под москитной сеткой и пытался заснуть.
Началась гроза. Это была уже третья гроза за последние дни; если мы хотели добраться до побережья, нельзя было мешкать. Я лежал в темноте, и меня обуревал страх, какого я не испытывал еще никогда в жизни. Крыс тут, правда, не было, но, когда я выполз из‑под одеяла, чтобы вытереть пот, я поймал у себя между пальцами на ноге тропическую блоху. Пот с меня лил ручьем, как во время гриппа. Рядом с кроватью на перевернутом ящике тускло горел фонарь; подле него стояли бутылки из‑под виски с теплой фильтрованной водой. Я вспоминал Ван Гога, которого сжигала лихорадка в Болахуне. Он говорил, что после приступа надо вылежать хотя бы неделю – малярия не опасна, если лежишь столько, сколько надо; но я не мог примириться с мыслью, что пробуду здесь целую неделю, что пройдет еще семь дней, прежде чем я попаду в Гран – Басу. Есть у меня малярия или нет, завтра я должен встать и двинуться дальше; и это меня пугало.
Жар не дал мне спать, но к утру я пропотел, и температура упала. Теперь она была гораздо ниже нормальной, зато я избавился хотя бы на время от самого худшего испытания, какое мне пришлось изведать за время нашего похода. Ночью я сделал очень интересное открытие – я обнаружил в себе страстное желание жить.
Считается, что от Зиеншу до Баса – Тауна – первого поселения на территории племени баса – семь часов ходу. Я сомневался, смогу ли сделать этот переход совсем без помощи гамака, и потому нанял еще двух носильщиков, а мои люди вырубили новый шест, взамен того, который я бросил в дороге. Я был очень слаб, но людей не хватало, и нести меня всю дорогу было некому, поэтому я провел первые два часа на ногах, десять минут отдохнул в гамаке, а потом пошел снова. Я не любил, чтобы меня носили. Гамак, рассчитанный на двух носильщиков, непомерно тяжел, а наши люди и так устали от долгого пути. Лежа в гамаке, слышишь, как веревки со скрежетом трутся о шест, и видишь, как напрягается под тяжестью спина носильщика. Люди становятся слишком похожи на вьючный скот, а я не мог на это смотреть спокойно.
В деревнях, которые мы проходили, было безлюдно, мы встретили всего нескольких женщин. Где‑то в чаще убили слона – думаю, что отравленными дротиками, которыми охотники в здешних местах стреляют из старинных самострелов, – и все мужчины собрались туда, чтобы его освежевать. К великому нашему удивлению, мы дошли до Баса – Тауна меньше чем за четыре часа. Я был этому рад, однако Берег, как нам казалось, был от нас теперь еще дальше, чем прежде. Мы вышли из Тапи – Та два дня назад, а молодой чернокожий помощник комиссара, которого мы здесь встретили, заверил нас, будто отсюда до Гран – Басы еще семь дней пути. Он был единственным мужчиной в этой деревне, состоявшей из квадратных приземистых хижин; все остальные отправились за слоном, и я немножко побаивался, не позволят ли себе чего‑нибудь мои носильщики в поселке, где остались одни женщины.
Но долго раздумывать об этом я не мог. Наскоро пообедав, я лег в постель и укутался одеялами – приступ лихорадки повторился, и я обливался потом. Хижины были такие низкие, что в них нельзя было выпрямиться во весь рост, а вместо крыс тут бегало множество больших пауков. У меня едва хватило сил, чтобы уныло записать в дневнике: «Последняя банка сухарей, последняя банка масла, последний кусок хлеба». Трудно поверить, как мы стали ценить эти лакомства: нам с двоюродным братом досталось по десяти сухарей, мы их поделили, не вынимая из банки, и каждый установил, сколько ему разрешается съесть в день; масло уже прогоркло, и его пришлось отдать повару.
Мне бросился в глаза первый признак того, что мы приближаемся к цивилизации, которая наступает на эту глушь с побережья. Молодая девушка вертелась возле нас весь день, зазывно, как заправская проститутка, покачивая бедрами. Обнаженная до пояса, она сознавала свою наготу, понимала, что белый человек глядит на женскую грудь не так, как ее соплеменники. Несомненно, она уже встречала белых. Были и другие признаки: стало меньше еды и подорожал рис. Ближе к Гран – Басе цены будут еще выше, сообщил помощник комиссара. Он советовал мне купить здесь корзины две риса и сэкономить таким образом по шести пенсов на каждой корзине. Местная математика – наука несовершенная, и Ламина никак не мог понять, почему я отказался от такой выгодной сделки и не сберег шиллинг, хотя мне для этого пришлось бы нанять двух лишних людей, которые несли бы этот рис.
В тот день мы сделали последний короткий переход на пути к Берегу. Никто уже больше не говорил «слишком далеко»: носильщикам не терпелось, как и мне, поскорее выбраться из зарослей и увидеть море, а что касается моих бедных слуг, они вконец измучились. Нервы у них были натянуты до предела, и как‑то вечером Амеду и старшина носильщиков подрались в моем присутствии из‑за тарелки мясных обрезков. Мы вышли из Баса – Тауна двадцать седьмого февраля, а начали свое путешествие третьего февраля. Через восемь часов мы достигли Гьона, но до Гран – Басы от этого не стало сколько‑нибудь ближе. По слухам, нам по – прежнему оставалась еще неделя пути. Мне все так же не верилось, что мы когда‑нибудь туда дойдем. После Баса – Тауна лихорадка меня больше не донимала, но температура оставалась гораздо ниже нормальной.
Мы с братом никогда еще не чувствовали такого упадка сил, как в эти два дня. Нам приходилось все время следить за собой, чтобы не поругаться. Мы виделись не больше чем час или два перед сном, но и в это время трудно было избежать столкновений по вопросам, на которые мы смотрели по – разному. А число таких вопросов все увеличивалось, и они касались чуть не всего на свете. Сперва мы успешно избегали разговоров о политике, и этого было достаточно, но теперь мы могли поссориться из‑за того, что плохо заварен чай. Оставался единственный выход – молчать, но один из нас всегда мог принять молчание другого за нежелание разговаривать. Мои нервы были в худшем состоянии, и надо отдать должное брату – только благодаря ему наше взаимное раздражение не вылилось в открытую ссору.
Гьон оказался безлюдным, негостеприимным поселком; квадратные хижины из красновато – коричневой глины были кое‑как побелены снаружи. По какой‑то странной ассоциации они мне напомнили меченые дома в чумном Лондоне времен Стюартов, и мой усталый мозг неизвестно почему внушил мне, что эта деревня – очаг заразы. Полное истощение довело меня до того, что разум уже не мог отделить вымысла от реальности. Деревня опустела лишь потому, что все мужчины были заняты на полевых работах, кроме советника вождя, который не желал нам ничем помочь, но по сей день мне трудно уверить себя, что поселок не был опустошен каким‑нибудь мором.
Нам пришлось просидеть на ящиках больше трех часов, пока не вернулись мужчины и мы не нашли себе приют. Для слуг же мы не нашли ничего; им пришлось ночевать в открытой кухне возле очага; спали они мало, боясь диких зверей, особенно слонов и леопардов. Мы шли по стране леопардов; на всех дорогах, которые вели в Тапи – Та, были установлены ловушки – деревянные клетки с опускной дверью и противовесом из связки раковин; в клетку сажали живого козленка.
Виски оставалось так мало, что мы уже не могли пить по вечерам; из последней полбутылки мы наливали по ложечке в чай. Пока мы ужинали, носильщики устроили нечто вроде судилища, в котором Амеду изображал судью. Они уселись перед ним в два ряда, и свидетели с жестами и пафосом опытных ораторов поочередно давали показания. В восемь часов, когда я пошел спать, суд еще продолжался, и Марк рассказал на следующий день, что разбирательство окончилось только около двенадцати.
Я так и не узнал толком, в чем было дело. Рано утром Колиева, который сначала вместе с Бабу был моим любимым носильщиком, подошел ко мне в кухне, где я ждал завтрака, раздумывая, выдержу ли еще один длинный переход (ботинки мои износились, подошвы стерлись так, что стали тоньше папиросной бумаги, а потом просто исчезли; у меня оставалась только пара спортивных туфель на белом каучуке). Я не мог понять, что он мне говорит; остальные носильщики сгрудились вокруг, было ясно, что все это должно изображать заседание кассационного суда. Амеду принялся мне что– то объяснять, но я не уверен, что правильно его понял.
Один из носильщиков по имени Буккаи забыл на дневном привале какую‑то свою вещь. Ее взял Фадаи – худой, изможденный парень с красивыми глазами, страдавший венерической болезнью; он называл себя английским подданным, потому что родился в Сьерра – Леоне. Когда Буккаи обвинил Фадаи в воровстве и пригрозил ему, что пожалуется, Фадаи был готов тут же вернуть украденное (если не ошибаюсь, это были иголка и нитки), но Колиева увел его к ручью за деревней и стал вымогать у него деньги, обещая выступить свидетелем в его пользу. Состоялся суд, но Колиева смолчал, и тогда Фадаи рассказал все начистоту. Обвиняемым стал Колиева, ибо лжесвидетельство, с точки зрения негров, куда больший грех, чем воровство. Его признали виновным, и Амеду присудил его к штрафу в четыре шиллинга – это очень большая сумма, равная жалованью почти за десять дней. Так как я не был уверен, что понял суть дела, но знал, что на Амеду можно положиться, и видел, что приговор встретил всеобщее одобрение, я изрек: «Согласен» – и, боясь, как бы Колиева не стал оспаривать мое решение, произнес глупейшую формулу, которая всегда спасает власть имущих: «Прекратить разговоры!» Сначала Колиева заявил, что не пойдет дальше, и требовал расчета, но мысль о том, что ему придется проделать долгий путь в одиночку, среди чужих племен, его смирила.






