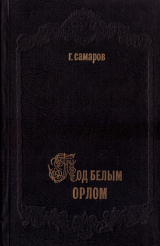
Текст книги "Под белым орлом"
Автор книги: Грегор Самаров
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 41 страниц)
Король прежде всего сердечно и вместе с тем с почтением, подобающим духовному званию, приветствовал своего брата, архиепископа плоцкого, а затем обратился к графу Станиславу Феликсу, низко поклонившемуся ему, и сказал ему с любезнейшей улыбкой:
– Я знал, что застану вас здесь, граф Потоцкий, потому что я слышал топот коней вашей свиты и клики восторга, которыми вас встречают всюду, где вы только показываетесь.
– Моя свита, ваше величество, – произнёс граф Потоцкий, – состоит из дворян, преданных моему дому, а народ приветствует меня потому, это знает меня как верного слугу вашего величества и отечества.
– Так же, как и я вас знаю за такового, – сказал король, ласково наклоняя голову. – И я счастлив, что народ это понимает. Но, может быть, где-нибудь на это косо посмотрят и начнут опасаться вас.
– Лучше, если боятся, чем презирают, – воскликнул Потоцкий, гордо подняв голову.
Лёгкий шёпот одобрения послышался среди стоявших кругом дворян, а король лишь со вздохом опустил голову.
Будь на его месте Людовик XIV, он за такой ответ даже самого гордого из своих придворных упрятал бы в Бастилию или поразил бы его зловещим словом немилости, которое действовало как моральный смертный приговор. Но окружённый пышностью величия Станислав Август должен был молчать пред произволом своих дворян и стал обходить присутствующих; он каждому сказал несколько приветливых слов и умел самым ласковым образом хотя бы в кратком разговоре коснуться предмета, приятного для собеседника.
Когда он окончил обход, при котором его сопровождал граф Ржевусский, то к нему обратился архиепископ плоцкий:
– Ваше величество! Вы, без сомнения, знаете, что русская императрица, ваша высокая союзница, встретится в Могилёве с императором Иосифом.
Станислав Август взглянул на брата с удивлением, почти неудовольствием; в его выразительных глазах читался немой грустный вопрос, почему он именно здесь, в присутствии стольких свидетелей, коснулся этого мучительного вопроса.
– Я это знаю, – сказал он коротко, как бы желая скорее отклонить разговор.
Но архиепископ продолжал:
– Граф Потоцкий также намерен отправиться в Могилёв; быть может, было бы хорошо, если бы вы, ваше величество, приветствовали дружески расположенных к вам монархов на границе вашего государства?
На мгновение румянец вспыхнул на благородном лице короля, а затем он сказал:
– Такое путешествие надо тщательно обдумать, и я не в состоянии так скоро принять решение.
Он быстро наклонил голову для поклона и удалился во внутренние покои.
Всё общество с напряжённым вниманием следило за разговором, казавшимся безразличным, однако же касавшимся вопроса, на котором в данный момент сосредоточивался всеобщий интерес. Всюду говорили шёпотом. Граф Потоцкий обменялся с обер-маршалом несколькими равнодушными словами, как будто весь вопрос ничуть не касался его.
Вдруг из комнаты короля вышел паж и пригласил к его величеству архиепископа плоцкого и графа Потоцкого. Оба тотчас последовали приглашению и вошли в покой, находившийся непосредственно около зала для аудиенций. Эта комната была посвящена королём памяти его предшественников на польском престоле и украшена прекрасно исполненными Баккиарелли портретами всех польских королей, начиная с Болеслава.
Станислав Август сидел в кресле за круглым столом, посреди комнаты, в которой он имел обыкновение проводить совещания. Со стен глядели гордые лица целого ряда польских королей на этого государя, которому было суждено закончить их ряд и который, несмотря на окружавший его внешний блеск величия, был одинаково бессилен как извне, так и внутри государства.
Пригласив обоих вошедших сесть около него, король, обращаясь к брату-архиепископу, заговорил почти робко:
– Ты конечно понимаешь, что я не мог продолжать этот разговор в присутствии многих свидетелей, но здесь я хотел бы попросить графа Потоцкого высказать своё мнение, находит ли он умным и целесообразным, чтобы и я также отправился в Могилёв приветствовать обоих монархов.
– А вы, ваше величество, получили на это приглашение? – спросил Потоцкий.
Король отрицательно покачал головой.
– Ну, тогда, – продолжал граф, – вам и не следует ехать туда и подвергаться там приёму, который, может быть, будет оскорбителен для вас и за который вы не были бы в состоянии отмстить в данный момент.
– Кто же осмелится встретить польского короля не так, как того требует его достоинство? – воскликнул архиепископ. – Каждый польский дворянин восстал бы, чтобы отплатить за такую обиду.
– Вы не должны забывать, ваше преосвященство, – спокойно и учтиво сказал Потоцкий, – что римский император занимает первое место между европейскими государями и что императрица Екатерина, как представительница восточно-римской империи, корону которой она приняла, равноправна ему. Оба государя достаточно сильны, чтобы поддержать своё первенство, король же польский хотя и без сомнения – более старший монарх, чем русские цари, но – увы! – как вы, ваше величество, так и вся наша Речь Посполитая бессильны в данный момент удержать подобающее положение. Обида, которую вы, ваше величество, будете принуждены молча перенести, конечно возмутит чувства поляков, но я боюсь, как бы это возмущение не обратилось против вашего величества и не сделало вашего положения в стране ещё более тяжёлым. Мне кажется разумнее и достойнее уклониться от подобной обиды.
Станислав Август несколько раз наклонял голову как бы в знак одобрения доводов Потоцкого.
Архиепископ воскликнул:
– Однако надо опасаться, да я почти и уверен, что в Могилёве нашими обоими соседями будут строиться враждебные по отношению Польши планы.
– А если бы и так, – сказал Потоцкий, – то присутствие вашего величества нисколько не изменило бы положения.
– Но всё же, – воскликнул архиепископ, – король никогда не встречался с императрицей с того момента, когда оба они вступили на престолы. Его появление пробудило бы старую дружбу и личные воспоминания одержали бы победу над враждебной политикой.
Станислав Август только вздохнул, а граф Потоцкий возразил:
– И этого я не думаю. Есть воспоминания, которые постепенно, медленно бледнеют, и позднее свидание совершенно изглаживает их из памяти.
– Вы правы, граф, – сказал король. – Поверь мне, брат, что он прав, и я уверен, что моя поездка в Могилёв была бы только унижением, и притом совершенно бесполезным унижением.
Архиепископ покачал головою, видимо не совсем убеждённый, однако он не настаивал дальше; он знал своего брата, знал его пассивное смирение, которое стало почти его второю натурою и которое трудно было бы побороть, так как он находил поддержку в доводах и авторитете графа Потоцкого. Однако он счёл нужным заметить:
– Но если вы, ваше величество, не поедете в Могилёв, если вас не пригласили туда, то умно ли и подобает ли знатному польскому дворянину, особенно занимающему такое высокое положение, как граф Станислав Феликс Потоцкий, ехать туда, чтобы приветствовать чуждых властителей?
Король вопросительно посмотрел на Потоцкого, а тот, покручивая свои усы, надменно сказал:
– Всякий совет и мнение высокопреосвященного архиепископа относительно блага и спасения моей души будут для меня чрезвычайно важны и послужат руководством для меня, но в отношении моего долга к вам, ваше величество, и к моему отечеству, равно как в отношении моих взглядов на политику я считаю себя в праве всецело руководствоваться своим собственным мнением. А оно заключается в том, что если на границе Польши встречаются два иноземных государя, которых можно заподозрить во враждебных планах против нашего отечества, то необходимо поручить верному слуге короля и отечества лично следить за ними, придав этому надзору наружный вид вежливости, даже, если хотите, некоторой робкой лести пред соседними державами. Чем дольше мы будем прятаться под этою маскою, тем яснее мы увидим то, что там будет происходить, а кто ясно видит планы своих врагов, тот уже наполовину одержал победу. Несмотря на все уверения в дружбе, император Иосиф всё-таки отправляется в Могилёве с некоторым недоверием к Екатерине; мне кажется, что не трудно будет доказать ему, что сильная, самостоятельная Польша была бы ему более выгодной союзницей, чем ненасытная Россия, которая, если только осуществятся её завоевательные планы, прервёт жизненные артерии Австрии в устье Дуная. Я считаю себя довольно дипломатичным и патриотичным для того, чтобы действовать в этом духе и узнать, какие планы будут создаваться в Могилёве, и чтобы постараться разрушить их, если они окажутся враждебными. А потому я убеждён, что вы, ваше величество, одобрите решённый мною план путешествия в Могилёв, где я постараюсь исполнить возложенную на меня задачу, даже, может быть, рискуя показаться страшным льстецом пред русской властью, от которой мы в данный момент всё-таки никак не можем увернуться и которой мы в состоянии противопоставить только ум и хитрость.
– Я думаю, что граф прав, – сказал король, вздохнув как бы с облегчением и, по-видимому, очень довольный тем, что можно покончить прения по поводу такого трудного и мучительного вопроса.
– Граф прав, – сказал архиепископ, опустив мрачный взор, – если...
Он остановился. Король быстро прервал его, сказав:
– Итак, я очень рад вашему решению ехать в Могилёв, граф Потоцкий. Мне будет приятно, если вы найдёте многочисленную свиту, и я поручаю вам передать их величествам императору и императрице мой привет на границе моего государства.
– Благодарю вас, ваше величество, за милостивое одобрение моих доводов и намерений, – произнёс граф, поднимаясь по примеру короля, низко поклонился и, пятясь к двери, вышел из комнаты.
– Не правда ли, брат, он прав? – спросил король неуверенным и почти робким голосом.
– Он прав, – ответил архиепископ, – если он таков, как говорит и хочет казаться, то есть если он – верный слуга и друг короля или, по крайней мере, своего отечества. Но, если, как я опасаюсь, он не таков, если он только ради удовлетворения собственного честолюбия заискивает пред Россией и идёт по тёмному пути заговора, тогда, может быть, он тоже прав, но ты поступаешь неправильно, давая ему полную свободу действий.
– Но что могу я сделать, чтобы предотвратить это? – со вздохом спросил король. – Разве наша страна не наводнена русскими войсками, разве я не бессилен пред этими упрямыми шляхтичами?
– Существует только одна сила, – серьёзно сказал архиепископ, – которая могла бы освободить тебя от русского насилия и от давления шляхты, в безумном ослеплении идущей неверными шагами навстречу уже надвигающейся гибели; это – сила народа, мой брат! Освободи крестьян, как это начал граф Замойский в своих имениях, и у тебя будет такое войско, которое будет в силах противостоять как русским, так и твоим заносчивым вассалам. Я был в Париже, я видел двор и народ; там уже шевелится дух свободы, и рано или поздно он могущественно расправит свои крылья и, может быть, разрушит трон, если королевская власть не сумеет соединиться с ним. Разреши здесь этот вопрос в пользу короны, сделайся королём крестьян вместо того, чтобы быть рабом шляхты.
Король опять вздохнул; концы его белых, тонких пальцев дрожали как бы от нервного возбуждения, когда он сказал:
– Это – великие, широкие замыслы, об этом я ещё подумаю. Обещаю тебе, что поговорю с Замойским, но на это надо время. Оставь мне сегодня моё весёлое утро! Будем вместе читать новые оды, которые мне только что прислал Каэтан Вежьерский. Поэзия освобождает от тяжёлых уз, налагаемых на нас службой.
Он взял своего брата под руку и повёл его в свой кабинет.
Последний представлял собою большую четырёхугольную комнату с очень широким окном, занавеси которого были далеко раздвинуты, чтобы дать доступ яркому свету. Комната походила скорее на жилище учёного, нежели короля. Круглые вертящиеся этажерки для книг стояли между удобными креслами, расположенными вокруг большого круглого стола, так что легко можно было достать любую книгу с этажерки. Мягкий ковёр покрывал пол и заглушал шум шагов. На потолке была нарисована чудная картина, изображавшая Аполлона, плывущего на волне и окружённого музами. Аполлон протягивал руку, и прямо из неё ниспускались тоненькие золочёные цепи, поддерживающие люстру с многочисленными свечами. Когда вечером эти свечи горели над столом, то казалось, что сам бог солнца и поэзии проливал свет в учёную комнату короля.
Здесь два раза в неделю король собирал своих литературных друзей, с которыми работал над тем, чтобы очистить и украсить польский язык и наравне с собственными произведениями сделать доступными польской литературе творения иностранных учёных.
Стены были украшены портретами участников этого кружка. Посредине выделялось одухотворённое лицо графа Игнатия Красицкого, впоследствии архиепископа гнезненского, которого называли королём поэтов того времени и который, будучи епископом в Эрмеланде, был желанным гостем при дворе Фридриха Великого. Рядом висели портреты камергера Трембацкого, воодушевлённого национального певца Урсина Немцевича; переводчика Мильтона Дмоховского, историка Суковецкого, Черноцкого, Ходаковского и многих других.
Когда Станислав Август вошёл в эту комнату, он облегчённо вздохнул; здесь он чувствовал себя освобождённым от мук своего призрачного владычества, здесь он сознавал себя настоящим королём, так как тут он господствовал в кругу благороднейших умов своей страны, которым он поставил условием никогда не говорить ни слова о политике в этом святилище Аполлона и муз.
Как бы обессиленный, он бросился в кресло, взял со стола раскрытую книгу и своим мягким, звучным голосом принялся читать прелестную, сочинённую по французскому образцу, оду своего особого друга Каэтана Вежьерского.
Его брат опустил голову на грудь, и трудно было сказать, слушает ли он или предаётся своим собственным размышлениям. И действительно, он мог прийти к серьёзным и печальным мыслям, слушая, как этот король в золотой темнице своего безвластия со счастливой улыбкой читал лёгкие благозвучные стихи, не тревожась тем, что на границе государства два могущественных повелителя готовились к встрече, что все патриоты облеклись в траур, что честолюбцы заискивали у чужеземных угнетателей и что вообще взоры всех были обращены в другую сторону, ожидая исполнения своих желаний и надежд только не от этого короля, рука которого была слишком слаба для меча и умела лишь бряцать струнами поэтической лиры.
Шумные крики радости, нёсшиеся с улицы, нарушили тишину, царившую в комнате.
Это было приветствие народа, собравшегося на дворцовый площади, при виде графа Феликса Потоцкого, который в это время садился на лошадь пред главным входом дворца.
На одно мгновение король встрепенулся, его брови мрачно сдвинулись, но затем он спокойно с улыбкой продолжал своё чтение, причём архиепископ, тяжело вздохнув, ещё ниже опустил свою голову.
Казалось, словно несчастный король хотел забыть о том, что изменить он не имел ни власти, ни мужества, ни воли.
VII
На берегах Днепра, в прекрасной плодородной местности, расположен красивый, богатый город Могилёв, который в то время уже насчитывал почти тридцать тысяч жителей и своими многочисленными церквями, древним замком и зданием городской думы, относящимся ещё к семнадцатому столетию, производил весьма величественное и в то же время почтенное впечатление.
Могилёв уже в течение нескольких веков был предметом спора между Россией и Польшей; он был неоднократно завоёвываем, затем разграблен шведами; сожжён Петром Великим и тем не менее, благодаря богатой торговле и трудолюбию своих жителей, после всех нанесённых ему ударов, каждый раз снова восстановлял прежнее благосостояние.
Именно в силу этих частых нападений Могилёв утратил мрачный характер, свойственный многим древним городам, так как, за исключением замка и нескольких церквей, уцелевших от погромов, там всюду встречались уютные, просторные, красивые дома с культивированными садами, свидетельствовавшими как о вкусе, так и о состоятельности жителей.
Могилёв служил очевидным доказательством религиозной веротерпимости, которую императрица Екатерина, в противоположность прежним и последующим правителям России, проявляла всегда и всюду, хотя лично самым строгим образом придерживалась догматов православной церкви.
Могилёв был резиденцией православного и католического архиепископов. Кроме двадцати православных церквей в нём имелось несколько римско-католических, и между ними великолепный Кармелитский собор; здесь существовали также протестантская церковь, несколько синагог и много еврейских молелен, так как большая часть торговли, и в особенности мелочного торга, находилась в руках переселившихся из Польши евреев, нашедших здесь защиту и свободу.
Около конца мая месяца тысяча семьсот восьмидесятого года в обычно спокойном, оживлявшемся только торговлей городе вдруг проявилось необычайное праздничное оживление. Всюду работали мастера, украшая фигурами и различными надписями фронтоны общественных и частных домов; улицы, бывшие в то время большею частью немощёными, были выравнены и покрыты крупным песком, привезённым с берегов Днепра. Словом, прилагались все усилия, чтобы привести в блестящий праздничный вид и без того красивый город, так как всемогущая самодержица всероссийская назначила на тридцатое мая своё прибытие в Могилёв, где со всей пышностью, подобающей царственной хозяйке и августейшему гостю, должна была состояться встреча государыни с римско-германским императором Иосифом II. Жители древнего города старались превзойти один другого, чтобы сделаться достойными такого отличия, одни – с затаённым недовольством в сердце, другие – с действительной радостной готовностью, так как на самом деле русское войско внесло мир и порядок в местность, подвергавшуюся прежде частым нападениям, и оживлением торговли много способствовало обогащению жителей.
Но особенно лихорадочная деятельность проявлялась в Янчинском дворце, расположенном вблизи города, среди обширного парка с великолепными прудами. В этом дворце должны были остановиться их императорские величества, и помещения обоих были убраны с той расточительной роскошью, которую императрица Екатерина Вторая умела соединять с самым тонким вкусом, превосходя в этом отношении даже Версальский двор.
Длинный ряд повозок доставил из Петербурга всевозможные драгоценные ткани, дорогие картины, статуи, вазы, обои и ковры. Как бы по мановению волшебного жезла все помещения дворца приняли такой блестящий вид, какой был только мыслим при слиянии восточной расточительности с утончённым европейским изяществом. В то же время появились царские садовники и со сказочной быстротой совершенно изменили облик старого парка: были прорублены просеки и проложены новые дорожки, устроены гроты, всюду цвели растения различных стран, позолоченные лодки с пёстрыми вымпелами стояли у наскоро сооружённых пристаней, совершенно готовые для прогулки по озеру; фонтаны высоко били в воздух своими водяными струями, а вековые деревья парка могли бы удивлённо качать своими старыми верхушками при виде всего того, что так мгновенно совершалось у их подножия. Конюшни были расширены быстро сооружёнными пристройками, куда были приведены сотни чистокровных лошадей. Тяжеловесные придворные кареты и лёгкие красивые фаэтоны наполняли собой сараи, и весь царский конюшенный штат был установлен здесь с такой точностью, как в Петербурге или Царском Селе. Государыня любила всюду чувствовать себя, как у себя дома; всюду, где бы она ни появлялась, её должен был окружать весь блеск её двора, без всяких недостатков и недочётов; всюду народ должен был удивляться могуществу самодержицы, для которой не существовало невозможного и которая, вступив ногой даже на пустынную землю, превращала эту пустыню в цветущие сады.
С каждым днём увеличивался служащий персонал во дворце. Можно было думать, что здесь царская резиденция находилась уже в течение долгих лет, – до такой степени всё было предусмотрено; государыня требовала, чтобы при её появлении всё было готово; она должна была чувствовать себя везде как дома, и не допускалось ни малейшего отступления от привычек двора.
Постепенно и город наполнялся многочисленными посетителями. В замке, в монастырях, у епископов были приготовлены квартиры для высокопоставленных особ русского двора, сопровождавших государыню, а в городских домах, где только представлялась возможность, устраивались помещения для польских дворян, в большом количестве заявивших о своём приезде; для слуг и лошадей последних были построены бараки на полянке близ города, так как в домах решительно не было больше места.
Уже прибыл фельдцейхмейстер граф Станислав Феликс Потоцкий со свитой, состоявшей из более чем ста шляхтичей и слуг, и выбрал себе помещение у одного из именитых купцов в городе; потом приехал маршал литовский Иосиф Сосновский с почти не менее многочисленной свитой, и ежедневно, почти ежечасно прибывали всё новые представители польского дворянства, так как императрица выразила желание видеть их собравшимися в возможно большом количестве в день её приезда; это желание сделалось известным, и никто не хотел своим отсутствием заслужить немилость могущественной самодержицы, власть которой была почти так же неограничена в Польше, как и в России.
Пока в городе всё поспешнее велись приготовления к блестящему приёму императрицы и её двора, поздним вечером по дороге от Варшавы до Могилёва ехал одинокий всадник. Он переправился через Березину и находился на дороге, пролегавшей по лесистой возвышенности к юго-западу от Могилёва.
На нём были тёмно-серый дорожный костюм французского покроя и высокие верховые сапоги, а его слегка напудренные волосы покрывала маленькая шляпа.
Несмотря на это простое мещанское платье, вся его фигура заставляла угадывать в нём военного как по выправке, так и по манере управлять своей сильной литовской лошадью, а в особенности по выражению его прекрасного, немного бледного лица с красивыми усами и большими тёмными, светившимися внутренним огнём глазами, которые смотрели то смело и твёрдо, то мягко и печально.
Он доехал до маленькой реки Друеца. Пред мостом, ведшим через неё, пролегала другая дорога по направлению к югу; в этом месте она соединялась с восточной дорогой и, продолжаясь по ту сторону моста, вела к Могилёву.
Всадник на одно мгновение остановил свою лошадь и огляделся кругом, как бы желая ознакомиться с местностью, но затем не поехал через мост к Могилёву, а свернул на широкую дорогу к югу, предварительно убедившись, что пистолеты в порядке, так как надвигалась ночь и на пустынной дороге могла явиться необходимость в спешном употреблении оружия. Он дал шпоры своему коню и быстрой рысью направился к югу, пока не доехал до крутого поворота, от которого шла узкая тропинка в чащу леса.
Всадник поехал по этой тропинке, часто нагибаясь под нависшими ветвями, и въехал в самую густую часть леса. Сделав едва пятьдесят шагов, он выехал на круглую полянку, на которой стоял простой деревянный дом с хозяйственным садиком; среди ночного мрака сквозь узкое окно маленького домика светилось колеблющееся пламя очага. Вблизи этого жилья находилось небольшое строение, предназначенное, вероятно, для домашних животных и склада хозяйственной утвари. Всё своей чистотой производило приятное впечатление. Простая деревенская скамья и столь стояли возле двери, и всё незатейливое хозяйство, окружённое лесной тишиной, носило отпечаток почти военной строгости и аккуратности.
Всадник соскочил со своей лошади, перекинул поводья через руку, а затем осторожно подошёл к окну. Взглянув через маленькое тусклое окно, он увидел в белой, окрашенной комнате старика, сидевшего на деревянном табурете возле очага; над огнём стоял треножник с котелком для варки пищи.
На старике был кафтан, отороченный барашком и опоясанный широким кожаным кушаком; на ногах были грубые сапоги, а на голове круглая меховая шапка; его пожилое лицо носило выражение твёрдости, отваги и мужества; под густыми седыми бровями сверкали чёрные глаза; его густая, спускавшаяся на грудь борода была так же седа, как и волосы, выбивавшиеся из-под шапки. Он облокотился о стену и в раздумье смотрел на колеблющийся огонь.
Охотничье ружьё, несколько пистолетов и старая сабля, на вычищенном, ярко блестевшем клинке которой отражалось дрожащее пламя, висели на стенах; большой дубовый стол, несколько стульев и резное распятие составляли всю остальную обстановку этого одинокого жилища.
– Это – он, – сказал всадник, – я не ошибся; его борода стала немного белее, морщины на лбу глубже, но лицо всё ещё то же самое и, вероятно, сердце осталось тем же, как и раньше: верным, как золото, верным до последнего вздоха. Здесь мне нечего бояться измены.
Он отошёл от окна и сильными ударами постучал в дверь.
Через несколько мгновений задвижка изнутри была отодвинута. Сквозь щель полуоткрытой двери просунулось дуло пистолета, и суровый, угрожающий голос старика спросил:
– Кто там стучит? Кому я понадобился в такой поздний час, когда лес погружается в сон и бодрствуют только хищники?
– Такого приёма я не ожидал, – сказал всадник. – Неужели храбрый Мечислав Бошвин не узнает более своего начальника?
– Моего начальника? – спросил старик сквозь дверную щель, причём его острые глаза испытующим образом оглядывали лошадь, так как всадника, отступившего в сторону пред дулом пистолета, он не мог видеть. – У меня нет начальника. Я – лесничий, на службе у его высокопреосвященства, и мои начальники – священники, которые не бродят здесь по ночам и не носят пистолетов, вложенных в сёдла. Поэтому уходите прочь или честно назовите своё имя и оставьте всякие шутки со старым Мечиславом Бошвином, так как, клянусь Богом, это могло бы очень дурно окончиться для вас!
– Моё имя, – ответил всадник, – Тадеуш Костюшко, и я спрашиваю ещё раз: неужели Мечислав Бошвин более не узнает своего командира?
За дверью послышался своеобразный, полувопросительный, полурадостный и в то же время ворчливосомневающийся и угрожающий звук, затем дверь быстро раскрылась, старик выбежал из дома, повернул всадника в сторону, откуда падали на деревья последние отблески заката, и, приставив к груди незнакомца пистолет, острым взором посмотрел ему в лицо.
– Тадеуш Костюшко? – воскликнул он. – Этого быть не может! И всё же, всё же это лицо, эти глаза, этот голос! – продолжал он дрожащим голосом. – Да, да, это – правда, здесь нет обмана; это – действительно благородный пан Тадеуш Костюшко, мой дорогой, любимый начальник, которого я уже не надеялся видеть на этом свете. О, мой вельможный пан, будьте желанным гостем в бедном домике вашего преданнейшего слуги. Вы приносите в моё жилище благословение Божье и Его святых.
Он бросился на колени, целовал одежду молодого человека и своими грубыми руками с нежностью водил по его сапогам.
– Не надо, не надо этого, мой старый Мечислав! – сказал Костюшко, отступая на шаг назад. – Встань, это хорошо для рабов, но солдат – свободный человек пред своим офицером, а кто был так верен и мужествен, как ты, тот заслуживает быть моим другом. – Он поднял старика, сердечно пожал его руку, а затем спросил: – могу я остановиться у тебя?
– Остановиться у меня? – воскликнул старик, причём обильные слёзы потекли по его седой бороде. – Как вы можете спрашивать об этом, ясновельможный пан? Всё, что я имею, принадлежит вам, но в своей бедной хижине я ничего не могу предложить вам, что было бы достойно вас, – добавил он, качая головой, – ничего, кроме куска дичины да немного зелени из моего огорода, сухого хлеба, сыра из молока моих коз, а затем медвежью шкуру вместо постели.
– Это – просто роскошь для такого солдата, как я, мой милый Мечислав, – ответил Костюшко. – Немного сена для моей лошади, вероятно, также найдётся в твоём хозяйстве?
– У меня есть великолепное сено, – воскликнул старик, – да кроме того найдётся и овёс в моём амбаре для подкрепления сил вашего коня; случается, что паны, охотясь здесь, нуждаются в корме для своих усталых животных; а это заставляет меня держать запасы. И я рад, что они пригодились для моего дорогого командира. Войдите, пан, в мою хижину и отдохните; я поставлю вашу лошадь в стойло и сейчас же вернусь к вам, чтобы заняться вашим ужином, насколько позволяет моя бедность.
Он заботливо повёл лошадь в конюшню.
Костюшко вошёл в дом старика и уселся пред огнём.
– Славный Мечислав! – сказал он, задумчиво глядя на огонь. – Я знал, что могу положиться на него. В уединении леса и в хижине бедняков должны ютиться верность и правда, когда весь мир охвачен фальшью и предательством. Да, – сказал он затем со вздохом, – к чему все порывы, размышления и молитвы за несчастное, втоптанное в грязь отечество, когда нет мужей, в груди которых жила бы доблесть, рука которых имела бы силу действовать и сражаться? Я готов к борьбе, даже к смерти, если понадобится, но Бог не открывает поля сражения, и я имею право жить для своего счастья, для своей любви.
Его прекрасные глаза приняли задумчиво-мечтательное выражение; он сидел молча, и его взоры следили за колебаниями горевшего пламени в очаге.
Старик вернулся и сказал:
– Готово! Для вашей лошади сделано всё, теперь я позабочусь о вас. – Затем, приподняв крышку со стоявшего на треножнике котелка, из которого распространился крепкий, душистый пар, он воскликнул: – суп готов; это – настоящий борщ, при виде которого у каждого настоящего поляка должны течь слюнки, а ведь вы не слишком избалованы едой при дворах высоких особ; он вам непременно понравится и даст новую силу вашему утомлённому телу.
Он принёс две глиняные тарелки и оловянные ложки, положил их пред ароматным борщом, а затем поставил на стол каменную кружку с двумя оловянными кубками, которые наполнил душистой можжевеловой водкой. Потом, склонившись пред распятием, он прочёл краткую молитву и воскликнул:
– Теперь приступим, ясновельможный пан, и да будет на вас благословение Божье! Сегодня – лучший день моей жизни; ведь мне выпало на долю счастье принимать моего дорогого начальника в доме, пожалованном мне на старости лет его преосвященством архиепископом.
Костюшко последовал приглашению, и тот прекрасный аппетит, с которым он съел две тарелки борща, служил лучшим признанием кулинарного искусства старого лесничего.
Последний поднял свой кубок и, робко оглядываясь кругом и понижая голос, сказал:
– А теперь, ясновельможный пан, позвольте чокнуться с вами и выпить первый кубок, как это было в обычае с древности, за славу и процветание Польши и всех её сынов.








