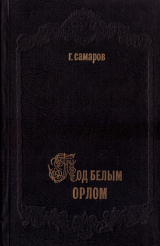
Текст книги "Под белым орлом"
Автор книги: Грегор Самаров
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 41 страниц)
После этого, скрестив руки, он стал спокойно глядеть навстречу Сосновскому.
Тот подскакал на своём покрытом пеною коне и, обращаясь к дочери, крикнул:
– Ах, ты, негодное дитя! Ты могла настолько забыть честь своего имени! Теперь ты почувствуешь мою власть!.. А ты, подлый изменник, – крикнул он Костюшке, – ты смел из праха своего ничтожества поднять взор к моей дочери? Ну, ты поплатишься за свою дерзость!.. Похититель подлежит власти закона, вор драгоценностей моей дочери, – прибавил он с громким насмешливым хохотом, – не избежит своей кары. Великая государыня справедлива, и тебя ожидают рудники Сибири!
Костюшко побледнел, как полотно; его глаза зажглись страшным гневом, но громадной силой воли он сдержал его проявление.
– Вы не в полном рассудке, граф Сосновский, – произнёс он, – а потому я не будут взвешивать ваши слова. Вы ведь знаете, что императрица не имеет никакой власти над свободным польским дворянином, кровь которого подобна вашей. Обдумайте то, что вы говорите и делаете!.. Ваша дочь последовала за мной по доброй воле... Подумайте, не лучше ли будет для вашей дочери и для чести вашего имени, если вы всё-таки сделаете то, о чём впоследствии, ей Богу, не пожалеете, и я клянусь быть вам хорошим сыном и всю свою жизнь положить на то, чтобы приобрести вашу любовь.
– Будь чёртовым сыном, негодяй! – крикнул Сосновский. – Впрочем, к чему слова? Схватите его и отведите обратно в Могилёв; императрица сама произнесёт свой приговор по поводу этого наглого похищения, совершенного в её высочайшем присутствии!
Казачий офицер, находившийся в отряде, сопровождавшем Сосновского, не двигался с места; казаки тоже молча стояли кругом. Эти сыны степей, казалось, сочувствовали преследуемым, и не один сострадательный взгляд упал на смертельно бледную красивую девушку и на рыцарски гордого мужчину. Но затем офицер, начальствовавший над отрядом, сопровождавшим Сосновского, подъехал к нему и сказал:
– Адъютант нашей всемилостивейшей императрицы предоставил меня в распоряжение вашего превосходительства, а потому я прошу вас дать мне решительный приказ арестовать этого господина, я же лично не беру на себя ответственность!
– Я беру на себя всякую ответственность, – воскликнул Сосновский, – я, маршал литовский, приказываю вам арестовать этого дерзкого похитителя девушки и вора драгоценностей и представить его в Могилёв на суд государыни императрицы. Не медлите! Малейшее неповиновение повлечёт за собою строгое наказание!
Вне себя от бешенства он бросился на Костюшко и схватил его за руку, но тот с быстротою молнии вырвал из седла свой второй пистолет и направил дуло оружия на грудь Сосновского.
– Остановись, Тадеуш! – крикнула Людовика, – ради Бога, остановись!.. Ведь это – мой отец!
Костюшко опустил руку с оружием, и в ту же минуту, по знаку офицера, несколько казаков подскакали к нему сзади; в одно мгновение они вырвали саблю Костюшки из её ножен и пистолет из его рук.
– Отлично! – с насмешкой крикнул Сосновский, – разбойник и негодяй пойман. Теперь обратно в Могилёв! За каждый час, на который мы раньше прибудем, обещаю вам каждому по червонцу! Но смотрите, чтобы он не сбежал!.. вы ответите пред императрицей за его голову!
В этот момент офицер обратился к Костюшке:
– Надеюсь, вы засвидетельствуете, что я действовал только по распоряжению графа Сосновского; это был долг моей службы, согласно повелению государыни императрицы.
Костюшко молча кивнул головой.
Печальное шествие двинулось лёгкою рысью по дороге к Могилёву, после того как несколько казаков было командировано, чтобы позаботиться о раненых и доставить их до ближайшей станции.
Впереди ехал отряд казаков, окружавший Людовику, которая сидела на своём коне в тупом равнодушии и неподвижно глядела вперёд сухими, без слёз глазами. За ними следовал Костюшко со своей охраной. Он был бледен, мрачен и иногда с укором поднимал взор к небу, как бы спрашивая, почему Бог покинул двух людей, единственная вина которых заключалась в их любви. Сосновский следовал сзади, наблюдая за шествием. На его бледном, вялом лице играли зловещие чувства мести и непримиримой ненависти.
Весь поезд приблизился к тому месту, где беглецы недавно отдыхали. Это местечко под буками было по-прежнему тихо и мирно и по-прежнему золотились солнечные лучи сквозь зелёную листву.
Людовика взглянула туда, и поток слёз брызнул из её глаз. На мгновение она, рыдая, опустила голову на грудь, а потом остановила коня.
Весь поезд тоже остановился.
– Что случилось? – крикнул Сосновский подскакивая. – Вперёд, вперёд!
– Остановись, отец! – воскликнула Людовика, – остановись и выслушай меня! Взываю к тебе ради чести твоего имени, прежде чем ты поедешь дальше! Здесь, – продолжала она, возвышая голос, – пред лицом Неба и всех этих людей я признаюсь, что я принадлежу Тадеушу Костюшке теперь и навсегда неразлучно, как только может принадлежать на земле женщина мужчине. Слушай это, отец мой, слушайте это вы, люди, носящие оружие в руке и верное сердце в груди! А теперь подумай, отец; неужели после этого признания, которое я буду повторять везде, ты в состоянии насильно принудить меня к исполнению твоего плана? Нет, нет! Лучше путём примирения спаси сердце своей дочери и честь своего имени!
– Людовика! – в ужасе воскликнул Костюшко, – что ты делаешь? какое обвинение произносишь ты против меня и против себя?
– Ах, негодная! – прорычал Сосновский, поднимая с угрозою кулак, – ты смеешь говорить о чести моего имени! Вперёд! – приказал он, – это – напрасная трата слов.
Но в этот момент из леса послышался топот лошадей, и, когда поезд снова двинулся в путь, пред ним показался граф Игнатий Потоцкий на покрытом пеною коне; рядом с ним ехали Колонтай и Заиончек. Несколько слуг следовали сзади. Все были вооружены с ног до головы.
Сосновский выехал вперёд. Игнатий Потоцкий остановил своего коня непосредственно пред ним.
– Друзья! – прошептал Костюшко, – о, Боже, что привело их сюда? Спасение они не могут принести. Неужели предательство шло от них? – сказал он совсем тихо, с тяжёлым вздохом опуская голову на грудь.
– А, вот и сам граф Сосновский! – проговорил Потоцкий, прикасаясь к шляпе, с угрозою в глазах и с насмешливой холодной улыбкой на устах. – Под каким странным конвоем встречаю я вас! казаки, ваша благородная дочь и мой друг Костюшко, по-видимому, пленник? Вероятно, вы тоже принадлежите к пленным, иначе какую же роль играете вы в этом странном шествии?
– Кто дал вам право задавать такие вопросы, граф Потоцкий? – возразил Сосновский, высокомерно задирая голову и бросая на графа мрачный, угрожающий взгляд, – Идите своею дорогою и не вмешивайтесь в мои дела!
– Когда спрашивает Потоцкий, – ответил граф, – то никто в целой Польше не посмеет не ответить ему, не исключая и вас, граф Сосновский! Итак, я повторяю мой вопрос: куда ведёте вы свою дочь и моего друга Костюшко? Мне кажется, вы играете здесь роль тюремщика, что, на мой взгляд, должен вам сказать, недостойно польского генерала.
– Ах, так? – вспыхивая от бешенства, крикнул Сосновский и, обращаясь к офицеру, произнёс, – скажите этому любопытному господину, что государыня императрица повелела вам во всём повиноваться мне и отвести мою опозоренную дочь и этого похитителя девушек в Могилёв на её суд.
Офицер наклонением головы подтвердил слова Сосновского.
– Польского дворянина на суд в Могилёв? – спросил Потоцкий, – это невозможно! И даже если её величество августейшая императрица Екатерина Алексеевна лично будет судить, – продолжал он, приподнимая на момент свою шляпу, – то и тогда она не имеет права произнести приговор над польским дворянином, которого судить может лишь сеймовая комиссия в Варшаве.
– Вы слышите, сударь? Слышите? – воскликнул Сосновский, – ведь это – бунт!
– Вы ошибаетесь, – возразил Потоцкий, – я очень хорошо знаю, что её величество императрица уважает право и никогда не совершит несправедливого деяния.
– Извините, граф, – сказал офицер, – я об этом не могу судить; мне известно лишь данное приказание, а оно состоит в том, что я должен исполнять распоряжения графа Сосновского. Он приказал мне отвести этого господина и эту даму в Могилёв, а о дальнейшем я ничего не знаю. Императрица будет судить, и я уверен, что она рассудит правильно.
– И я в этом уверен, – ответил Потоцкий, вежливо кланяясь офицеру. – Так, значит, это по вашему приказанию, граф Сосновский, вашу собственную дочь и свободного польского дворянина гонят по большой дороге казаки! Так послушайте, что я вам скажу: во имя её величества государыни императрицы, стоящей на страже справедливости в своей империи, и во имя Речи Посполитой, подданным которой вы состоите, я требую от вас немедленной отмены этого вашего распоряжения и, – прибавил он более мягко, – как ваш соотечественник, как сын одного с вами отечества, я прошу вас не противодействовать счастью вашей дочери. Она уже доказала вам, как сильна её любовь к благородному сыну её отечества; не разрывайте же связи со своим единственным детищем! Вы приобретёте сына, лучше которого нельзя найти на земле, а я буду вашим другом на жизнь и смерть.
Сосновский, саркастически рассмеявшись, возразил:
– Здесь не место, граф Потоцкий, разыгрывать мелодраму. Вы слышали, что я действую от имени императрицы и что солдаты находятся в моём распоряжении. Очистите мне путь или вы будете отвечать за свои поступки пред государыней!
Потоцкий на мгновение задумался.
– Оставь его, мой друг, – произнёс Костюшко, – не хлопочи обо мне и оставайся на свободе, чтобы у моей Людовики был хоть один друг на земле.
Он посмотрел кругом, как бы соразмеряя силы.
Рядом с ним стояли его друг и трое слуг, а казаков было больше чуть не в десять раз; поэтому всякая борьба явилась бы только ненужным пролитием крови.
Потоцкий повернулся к офицеру и совершенно спокойно сказал:
– Так вы, сударь, действуете по приказанию графа Сосновского и захватили в плен этого господина по его распоряжению?
– Так точно, – ответил офицер.
– Послушайте, граф Сосновский, – продолжал Потоцкий, – я не хочу вмешиваться и нарушать ваши отцовские права, а также не хочу переходить границы закона моего отечества; ведите свою дочь! Бог рассудит вас и, я надеюсь, позаботится о её счастье. Но я требую от вас, чтобы вы немедленно дали свободу дворянину Костюшко.
– Вперёд! – воскликнул Сосновский, – вперёд, довольно слов!
Однако в мгновение ока Потоцкий очутился рядом с ним и схватил его за руку. Колонтай и Заиончек, следившие за каждым движением графа, схватили поводья лошади Сосновского, и, прежде чем последний успел сообразить, что происходит, Потоцкий выхватил из его седла пистолет и приставил дуло к его виску.
При полной тишине послышался звук взводимого курка. Сосновский поднял руку по направлению к офицеру, раскрыл рот и хотел позвать, но Потоцкий заговорил раньше его:
– Если вы издадите хоть один звук или сделаете хоть одно движение, клянусь Богом и Пресвятою Девою, а также честью моего имени, вы немедленно превратитесь в труп.
– Пощадите! – крикнула Людовика, – он – мой отец... убейте лучше меня!
Казаки неподвижно смотрели на своего офицера, с нерешительным и испуганным видом сидевшего на лошади, так как выражение лица Потоцкого не оставляло сомнения, что он сдержит свою клятву.
– Слушайте меня внимательно, граф Сосновский! – продолжал Потоцкий, прижимая к его виску дуло пистолета. – Прикажите немедленно отпустить Костюшко; если же вы этого не сделаете, то будете предателем своего отечества и бунтовщиком против законов нашего государства! Ваша жизнь в моих руках; я сосчитаю до трёх, и если вы в это время не дадите приказа отпустить пленника, то предстанете пред Вечным Судьёю. Не пытайтесь помешать мне! – обратился он к офицеру, – первое ваше движение явится смертным приговором графа.
Глубокое молчание царило кругом, слышны были только храп лошадей, дыхание людей и шуршание ветра в листве.
– Раз! – сказал Потоцкий.
Людовика закрыла лицо руками и зарыдала.
– Два!
Лицо Сосновского приняло земляной оттенок, черты лица страшно исказились; он закрыл глаза; его губы дрожали, а грудь колыхалась от прерывистого дыхания.
Губы Потоцкого раскрылись, чтобы произнести слово «три».
В это время Сосновский медленно заговорил:
– Отпустите пленника на свободу!
– Слушайтесь приказа! – сказал офицер, обращаясь к солдатам.
– Слушаем, – отвечали все.
Офицер подал знак. Солдаты отошли от Костюшки. Ему подали его саблю и пистолеты.
Потоцкий всё ещё держал дуло оружия у виска Сосновского.
– Чёрт возьми – проворчал Сосновский, – отпустите же меня!., ведь я исполнил ваше желание.
– Нет ещё, – сказал Потоцкий, – приказ может быть взят и обратно, и так как мы уже раз начали беседу таким не совсем приятным способом, то нужно довести её до конца. Простись, друг мой! – сказал он Костюшке. – Ты вряд ли достиг бы со своей Людовикой границы, так как ваш побег стал известен. Ожидай в безопасном месте, что пошлёт тебе Господь в будущем, о твоей судьбе позабочусь я, и если что-нибудь против тебя будет предпринято, то я объявлю Сосновского нарушителем данного слова, и всё польское дворянство отречётся от него. Простись, друг, и клянусь тебе честью и Богом, что твою Людовику не станут принуждать ни к чему, пока моя грудь дышит, а рука держит саблю. Я буду всегда подле неё и буду защищать её, может быть, лучше, чем ты.
Костюшко приблизился к Людовике и протянул ей руку.
– Прощай, моя возлюбленная! – сказал он, – может быть, Небо не защитило нас потому, что мы действовали против его велений, так как ведь Господь повелевает повиноваться даже жестоким родителям. Если нам суждено быть разлучёнными на земле, то мы свидимся впоследствии пред престолом Всевышнего, Который охотно прощает вину любви. Не будем однако отчаиваться и сохраним в своих сердцах земную надежду! Мой друг сдержит свою клятву и защитит тебя.
Он прижал руку Людовики к своим губам. Она же обняла его за шею руками, поцеловала в губы и воскликнула:
– Я твоя, мой дорогой, в этом и будущем свете!
Они долго стояли обнявшись, затем Костюшко отвернулся и молча протянул руку своему другу.
Потоцкий подал ему левую, не выпуская из правой пистолета.
– Бог с вами! – сказал растроганный казацкий офицер. – Я сделал то, что был должен сделать.
Костюшко протянул и ему свою руку, сказав при этом:
– Я знаю долг солдата; вы были орудием судьбы. До свиданья! – громко воскликнул он, прощаясь мановением руки и пуская лошадь галопом по дороге.
Потоцкий подождал, пока он не скрылся за ближайшим поворотом дороги, и лишь тогда отнял пистолет от головы Сосновского.
– Это было нападение, – сказал последний, – преступное принуждение, за которое вы ответите, граф Потоцкий!
– Я всегда готов отвечать за свои действия, – ответил Потоцкий. – Но берегитесь нарушить своё слово, так как пистолетная пуля найдёт свою цель и отсюда.
– Я не мог бы, – сказал казацкий офицер, прежде чем успел ответить Сосновский, – исполнить новый приказ его превосходительства; моей службой нельзя играть, как игрушкой.
Сосновский бросил на офицера угрожающий взгляд и сказал:
– Может быть, даже к лучшему, что этот дерзкий похититель избежит теперь наказания; я постараюсь, чтобы ему навсегда были закрыты границы Польши.
– Да, пока такие люди, как вы, будут управлять нашим отечеством, – возразил ему Потоцкий. – До свиданья, графиня Людовика! – продолжал он, протягивая руку плачущей девушке, – я буду наблюдать за вами и буду знать, где вы и что с вами. Положитесь на меня, как сделал это мой друг! Идём, друзья мои, – воскликнул он, – графу Сосновскому было бы не особенно приятно совершать обратный путь в нашем обществе.
Он поклонился офицеру и удалился крупным галопом, сопровождаемый Колонтаем и Заиончеком, в то время как Сосновский и казаки последовали за ним мелкою рысью.
XIV
Императрица Екатерина Алексеевна, по обыкновению, встала рано. Она узнала, что император Иосиф уже около часа как вышел, соблюдая строгое инкогнито, чтобы осмотреть большие кожевни в городе, который являлся центром распространённой торговли, захватывавшей даже Австрию.
Государыня была довольна возможностью остаться на некоторое время одной, освобождённой от того стеснения, которое накладывали на неё обязанности гостеприимства, а также и тем, что она могла начать день обычным порядком.
В великолепном расположении духа она сидела в своём кабинете, куда через открытые двери вливался светлый весенний воздух парка, и завтракала, как всегда, кофе и простым белым хлебом.
При ней находились графиня Брюс, её первая придворная дама, и её адъютант, Римский-Корсаков, на лице которого отражалось хорошее расположение духа его повелительницы.
Императрица, как всегда, когда она находилась в обществе своих наиболее преданных лиц, проявляла почти детскую весёлость, сбросив с себя личину повелительницы, мысли которой одинаково обнимали и далёкие окраины её государства, и политику европейских дворов и которая всегда стояла на страже охранения своего имущества и влияния на недовольные партии и на интриги чужеземных кабинетов.
На столе рядом с золотым кофейным прибором лежал пакет, содержавший в себе сообщения её послов и тайных агентов изо всех европейских столиц, которые дважды в день привозились ей из Петербурга курьерами. Некоторые из этих сообщений были исписаны на полях замечаниями, сделанными рукою Потёмкина, которому эти сообщения доставлялись раньше императрицы, а затем вместе с её распоряжениями передавались им же князю Безбородко для исполнения.
Хотя Екатерина Алексеевна и вполне доверяла князю Потёмкину, отдавая должное его энергии и своеобразному уму, тем не менее она никогда не пропускала чтения политических сообщений, очень хорошо зная, что каждый повелитель становится беспомощным, если, слепо доверяя хотя бы и преданному слуге, перестаёт сам работать и не знает положения дел. Поэтому точное знание всех дел она считала необходимым для себя и последнее решение всегда оставляла за собою. И часто случалось, что это решение шло как раз вразрез с мнением и желанием всемогущего Потёмкина, который однако всегда подчинялся воле императрицы без всякого противоречия, так как, несмотря на её благоволение к нему, он всегда чтил её как свою повелительницу.
Но сегодня императрица ещё не развернула перевязанного шёлковым шнуром пакета; она по-видимому хотела насладиться прекрасным, мирным утром, вознаградить себя за стеснения последних дней. Время, положенное для завтрака, уже давно миновало, а императрица всё ещё продолжала непринуждённый разговор, нередко подсмеиваясь над странностями своего высокого гостя; его изысканную простоту, его постоянное стремление к прозрачному инкогнито она называла тщеславием и весело вышучивала его педантичную речь, которая нередко казалась набором цитат и сочинений Руссо и напоминала речь присяжного учёного.
– Он говорит необдуманно, – заметила Екатерина Алексеевна, – и поэтому привык и действовать необдуманно. Его мать – совсем другой человек; она была тверда и постоянна в несчастий. Она была права, удерживая его насколько возможно долее от самостоятельного управления государством; так должна поступать каждая мать, если она видит, что в её руках бразды правления будут натянуты крепче, чем в руках слабовольного сына. Однако он станет скоро совершенно самостоятельным, так как жизнь Марии Терезии быстро клонится к концу; Иосиф причинит много беспокойства и быстро износится душевно, благодаря беспокойной и беспорядочной деятельности; но благодарности он не дождётся; того, к чему он стремится, ему не достичь. Но моим целям он может оказаться полезным.
– Он придаёт себе вид философа, – произнёс Римский-Корсаков, самодовольно оглядывая себя в разные зеркала, – а на самом деле он – больше деспот, чем кто-либо другой, и высокомернее, чем наша всемилостивейшая императрица. Разве он не показал вида, что оскорблён и обижен, когда я позволил себе заговорить с ним? Подобает ли такое высокомерие ученику Руссо, проповедующему равенство всех людей?
– Ты выказал некоторую навязчивость, друг мой, – смеясь, сказала государыня, – и не должен больше позволять себе это, хотя меня всё-таки позабавило видеть недовольство императора. Почему он постоянно так желает быть только графом Фалькенштейном? И, мне кажется, он не должен был бы удивляться, если иногда с ним и обращаются, как с таковым. Только всё-таки ты не должен себе позволять больше ничего подобного в моём присутствии.
Некоторое время разговор шёл ещё в этом тоне и, лишь после того как императрица истощила весь запас острот по поводу императора Иосифа, она перешла к ещё более безжалостной критике отдельных польских магнатов, явившихся к ней на приём.
Графиня Брюс и Римский-Корсаков приняли в этой критике самое живое участие. Оба они, пока разговор касался императора Иосифа, выказывали большую сдержанность, так как хотя государыня и позволяла себе делать саркастические замечания по поводу коронованных особ, но своим приближённым не разрешала следовать её примеру и выказывать непочтение в её присутствии помазанникам Божиим. Даже дерзкий фаворит Римский-Корсаков редко позволял себе, и то только в минуту особенно хорошего расположения духа повелительницы, выпад подобный тому, какой он накануне сделал по адресу императора.
С поляками этих церемоний не требовалось, и потому графиня Брюс вместе с Римским-Корсаковым изощряли своё остроумие над «сарматскими варварами», над их остриженными в скобку волосами, над национальными костюмами.
Все эти замечания императрица принимала сегодня особенно благосклонно, и звонкий, весёлый смех не раз вырывался из кабинета в парк, расстилавшийся вокруг дворца и окружённый часовыми на всём протяжении.
Когда наконец Екатерина Алексеевна нерешительно протянула руку, чтобы развязать шнур пакета, что являлось знаком окончания беседы и началом занятий государственными делами, в кабинет вошёл паж, доложивший, что графиня Елена Браницкая просит её императорское величество принять её.
Императрица сначала выказала удивление, а затем на её губах заиграла торжествующая улыбка. Она дала пажу знак впустить графиню и, обращаясь к графине Брюс и своему адъютанту, сказала:
– Ступайте пока в парк, но не слишком удаляйтесь, чтобы я имела вас под рукою, когда придёт граф Фалькенштейн.
Графиня Брюс и Римский-Корсаков, послушные приказанию, исчезли в тенистой аллее, а в комнате появилась графиня Браницкая в простом тёмно-синем утреннем туалете с кружевным платком на голове, который был прикреплён к волосам крупным рубином чудной красоты. Она была бледна; её глаза лихорадочно блестели.
Екатерина Алексеевна поднялась и протянула ей руку. Графиня прикоснулась к ней губами и сказала голосом, в котором ясно звучало внутреннее волнение:
– Прошу у вашего императорского величества прощения в том, что я осмелилась так рано беспокоить вас! Дело у меня очень спешное, и я узнала, что вы, ваше императорское величество, уже встали.
– Графиня Браницкая – всегда мой желанный гость, – возразила императрица с изысканной любезностью, которой владела в совершенстве. – Она умеет, – улыбаясь продолжала она, – затмевать всех женщин при свете свечей в бальном наряде и при утреннем свете соперничать в свежести с весенней природою.
– Ваше императорское величество! Вы слишком милостивы, – нетерпеливо ответила графиня. – Но я пришла не для того, чтобы услыхать незаслуженную похвалу себе из ваших уст; у меня есть просьба, огромная просьба к вам, как к женщине и как к императрице, и если императрица не захочет внять моей просьбе, то женщина выскажется в мою пользу.
Снова по лицу государыни пробежала улыбка гордого удовлетворения, и она сказала:
– Я буду особенно рада, если буду в состоянии исполнить желание первой дамы Польши, которую, – прибавила она улыбаясь и как бы с упрёком, – я до сих пор не имела причины считать своим другом.
– Я люблю своё отечество, ваше императорское величество, – промолвила графиня, – и столь сильно оплакиваю его распад, что решила пожертвовать своим одиночеством и прибыть сюда, чтобы принести вам, ваше императорское величество, выражения своего почтения и доказать вам, что я надеюсь получить порядок и свободу моего отечества из вашей руки.
Брови императрицы на один момент грозно сдвинулись.
– Но всё это, – продолжала графиня, – не касается того, что привело меня сюда; я имею личную просьбу, совершенно частного характера, которую я хотела бы изложить вам, ваше императорское величество.
– Я слушаю, графиня, – сказала императрица.
– Ваше императорское величество! – торопливо заговорила графиня, как будто спеша как можно скорее дойти до цели разговора, – вы составили себе определённое намерение относительно дочери графа Сосновского или, – продолжала она, видя, что императрица с видом неприятного удивления подняла голову, – вы покровительствовали планам Сосновского, который стремится возможно больше приблизить свою дочь к вашему двору.
– Ну, что же дальше? – спросила императрица.
– Ваше императорское величество! – сказала графиня, – эти планы не должны быть приведены в исполнение, если вы не хотите отдать в жертву горя и тоски два благородных сердца.
– Не понимаю, – холодно и строго сказала императрица, – почему вы интересуетесь делом, которое я устроила, чтобы защитить отцовские права графа Сосновского?
– Вот именно поэтому-то я и здесь, ваше императорское величество, – воскликнула графиня. – Вы не должны были делать это! Людовика Сосновская любит благородного молодого человека, Костюшко, она не должна быть принесена в жертву! Заклинаю вас, ваше императорское величество, защитите любовь бедной девушки – вот первая просьба, которую я приношу вам, первая, которую я вообще приношу человеку, и она будет последней. Возвратите свободу Людовике Сосновской, не принуждайте её отдать свою руку графу Бобринскому, которого она никогда не будет любить, не может любить, потому что в её сердце горит огонь любви к другому.
Глаза императрицы гневно заблестели.
– Кто стоит на вершинах общества, – сказала она, – тот не должен слушать капризы своего сердца!
– Чужое сердце конечно можно связать с нелюбимым человеком; но сердце, которое любит, будет разбито таким принуждением.
Говоря это, графиня Браницкая была дивно хороша в своём возбуждении.
Один момент императрица пронизывающим взором посмотрела на неё, а затем, по-видимому, какая-то мысль мелькнула у неё в голове и она промолвила:
– Хорошо, графиня, если я исполню вашу просьбу, исполните ли вы мою? Вы обратились ко мне как к женщине, и я склонна внять вашей просьбе; но императрица во мне требует вознаграждения.
– Приказывайте, ваше императорское величество! – воскликнула графиня, – моя признательность за вашу милость готова на что угодно...
– Так вот, – сказала императрица, – вы были правы, графиня, я была согласна с планами Сосновского; мне хотелось сочетать браком графа Бобринского, который, не солгу, близок моему трону и сердцу, с дамой из высшей польской аристократии и тем пред всем светом открыто доказать мою прямодушную материнскую заботливость о польском королевстве и народе. Вы правы, этот план стал невыполним. Женщина, которую вы пробудили во мне, не может заставить другую женщину совершить пред алтарём клятвопреступление, а императрица тоже не хочет дать графу Бобринскому в жёны девушку, в сердце которой запечатлён другой образ, тем более, что она побегом наложила на свою репутацию пятно, которое я могу простить, но не смыть. Но из-за этого план императрицы не должен быть нарушен. Есть много польских дам, которые именем, красотою, умом и характером далеко превосходят графиню Сосновскую, в чём в данный момент я как нельзя лучше могла убедиться. Если для подкрепления моих забот и моей любви к Польше граф Бобринский вместо Людовики Сосновской женится на графине Елене Браницкой, самой знатной даме польского дворянства, кузине короля, то всё будет в порядке и цель императрицы будет достигнута.
Графиня побледнела. Она выпрямилась и сверкающим угрозою взором глядела на императрицу; казалось, с её губ сейчас слетит ужасное слово гнева и презрения.
Екатерина Алексеевна закинула назад голову; вся гордость всемогущей самодержицы отразилась на её лице.
Взоры обеих женщин скрестились, как острые клинки шпаг.
– Итак, графиня, – резко проговорила государыня, – женщина готова исполнить вашу просьбу, а императрица выразила своё желание; каков же будет ваш ответ?
Губы графини тряслись, но уничтожающее слово, готовое было уже слететь с них, превратилось во вздох, вырвавшийся из её груди. Всё её тело содрогнулось. Страшная внутренняя борьба потрясла её всю. Она потупилась. Вместе с тем она всё больше и больше приобретала над собою власть и через несколько секунд уже снова была спокойна; только мертвенная бледность да неестественный блеск глаз говорили о её внутреннем волнении.
– Выслушайте меня, ваше императорское величество! – начала она. – Я не могу дать ответ императрице, прежде чем снова не обращусь к женщине и не окажу ей доверия, которого не оказываю ни одному человеку в мире. Я взяла на себя большую вину; Бог потребовал от меня, чтобы я возложила на себя это бремя, может быть, тягчайшее изо всех, которые могут быть наложены.
– Я слушаю, – коротко сказала императрица.
– Я пришла, – продолжала графиня, – просить милости у вашего императорского величества, потому что я виновата в том, что за влюблённой парочкой, которую я едва знаю, была устроена погоня.
– Это – ваша вина? – удивилась императрица.
– Да, ваше императорское величество, я узнала об их побеге и уведомила об этом Сосновского. Я виновата в том, что за ними вскоре была начата погоня и таким образом они не успели воспользоваться временем.
– Вы, графиня? – всё более удивлялась императрица, – и теперь, погубив влюблённых, вы приходите ко мне просить моей защиты для них же? Объяснитесь! я не в состоянии понять здесь ничего.
Тёмная краска залила лицо графини. Снова вся она точно содрогнулась от внутренней борьбы. Глухим голосом и потупившись она заговорила:
– Я узнала об их побеге, я выдала их Сосновскому, потому что ошиблась: я думала, что графиня Людовика бежала не с Костюшкой.
– Не с ним? – спросила императрица, – а с кем же?
– Костюшки не было; я не знала, что он скрывался тут же; я видела, что графиня Людовика всё время оживлённо беседовала с другим и вместе с ним покинула бал; я последовала за ними, услышала топот удалявшихся коней, и мне показалось, что она бежала с этим другим.
– Кто же он? – спросила государыня, – кто посмел совершить такой шаг на моих глазах?
– Ваше императорское величество! вы не должны гневаться на него, – сказала графиня, – вы должны обещать мне сохранить всё это в тайне.








