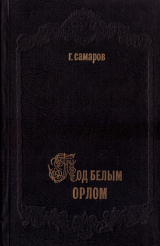
Текст книги "Под белым орлом"
Автор книги: Грегор Самаров
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 41 страниц)
– Я весь к вашим услугам, ваше превосходительство!
– Я должен графу Потоцкому ещё восемьдесят три тысячи талеров за прежнюю покупку имений, – продолжал фон Герне, – я дам вам вексель на эту сумму, так как в Польше почта малонадёжна.
– Ответственность за такую значительную сумму будет тяготить меня, ваше превосходительство! – испуганно сказал Серра.
– Будьте покойны, это – векселя компании торгового мореплавания, и они приобретают действительность лишь после того, как будут акцептованы варшавской конторой общества. Я отдам соответственное распоряжение в контору и извещу об этом графа. Произведя такой платёж, вы приобретёте у него тем большее доверие; а в конторе вас примут за агента компании, явившегося по торговым делам. Таким образом истинная причина вашего присутствия в Варшаве будет вдвойне замаскирована.
Серра взглянул на министра с удивлением. В его глазах что-то блеснуло.
– Всё же, это – частное дело вашего превосходительства? – сказал он.
– Конечно, – ответил фон Герне, потупившись пред пытливым взором Серра, – я веду дела с компанией торгового мореплавания и отдал своё имущество туда на управление, вот мои счета. Однако я не желаю, чтобы в варшавской конторе знали об употреблении этих денег. Среди бесчисленных служащих и писцов там могут быть русские шпионы; поэтому будет лучше, если и там вы будете известны как торговый агент компании; это отвлечёт от вас внимание и даст вам большую свободу действий.
Серра помолчал минуту; казалось, торопливое объяснение министра не волне удовлетворило его; однако он поклонился и сказал:
– Я буду действовать в точности по указаниям вашего превосходительства.
– Вот вам доверенность, – сказал фон Герне поднимаясь, – мой секретарь Акст передаст вам векселя, о которых я вам говорил, и позаботится о том, чтобы ваш паспорт был визирован. Нужны вам деньги?
– Мои средства почти истощены, ваше превосходительство!
Фон Герне открыл выдвижной ящик своего письменного стола и передал ему запечатанный свёрток.
– Здесь сто золотых, – сказал он, – на первое время этого хватит; если же вам понадобятся деньги, обратитесь в контору общества торгового мореплавания; я велю, на всякий случай, открыть там для вас кредит. Ну, поезжайте с Богом и привозите поскорее подробные, хорошие сведения, но только устно, понимаете, устно; об этом деле не должно быть ни одного письменного слова. Кстати, – сказал он вдруг, – увидите вы графа Герцберга пред вашим отъездом?
– Следовало бы поблагодарить графа за его милостивую рекомендацию, – сказал Серра, – но если это не угодно вашему превосходительству, то я попрошу извиниться пред графом за меня!
– Нет, нет, – сказал фон Герне, – просите у графа аудиенции; он рекомендовал мне вас, и вы обязаны известить его. Скажите, что я, на основании его рекомендации, посылаю вас в Польшу по делам компании торгового мореплавания; больше ничего не говорите, понимаете. Ничего не упоминайте о моих частных делах с графом Потоцким; ничего о тех мыслях и планах, о которых мы с вами говорили. О таких делах завзятые дипломаты не должны знать раньше времени, – прибавил он, дружески улыбаясь. – Граф Герцберг нашёл бы, пожалуй, что я слишком преждевременно и поспешно оказываю вам такое доверие.
– Вы правы; и нам, купцам, приходится иногда вести политику; для нас, быть может, наилучшая политика в мирное время.
– Итак, для графа Герцберга вы просто едете по делам общества торгового мореплавания; тогда он со спокойной совестью может сказать, что ничего не знает о ваших делах в Варшаве.
– Я это понимаю, – произнёс Серра, – и буду в точности поступать по указанию нашего превосходительства.
Фон Герне кивнул головой в знак прощания.
Итальянец вышел.
– Я затеял большую игру, – сказал министр, прижимая руку по лбу, – я ставлю на карту моё положение, жизнь, честь, всё, что приобретено долгими годами труда. Король недоволен; большого труда стоит скрывать от него пути, которыми я иду к намеченной мною цели; если он, раньше времени узнает, что я сделал и что должен продолжать делать, он осудит меня, быть может, без 7всякого снисхождения. Разве не рискованно, – продолжал он, слегка содрогаясь, – что я так много доверяю этому иностранцу, которого совсем не знаю? Но как же достигнуть великого, если быть разборчивым в средствах! Самому нельзя быть везде, нужно прибегать к орудиям и уметь направлять их так, чтобы они никогда не послужили во вред, и никогда не давать им в руки настоящего ключа для разгадки тайны. Этот Серра ничего не знает; он будет думать, что проводит свои планы или планы князя Кауница, а между тем он будет работать для меня. А всё же я не могу побороть страх; всё же я чувствую себя пред королём почти преступником, между тем как жертвую всем своим существованием, чтобы добыть для него самое высшее! Быть может, лучше было бы не затевать этой большой игры, а ограничиться скромным кругом деятельности, как то делают другие, честолюбие которых не идёт далее механического выполнения данного приказания. Но нет, нет! – воскликнул он, с пылающим взором протягивая руку, – я рискнул и хочу довести эту игру до конца, если бы даже пришлось погибнуть! Возврата нет; для меня может быть только победа или гибель. Ставка высокая; она для меня – всё, что я имею в жизни. Но награда стоит этой ставки. Никогда ещё ни один слуга не сделал своему господину такого подарка, какой я хочу сделать своему королю. Я хочу подарить ему корону. Правда, она находится на краю гибели, но на голове короля Пруссии она заблистает ярким алмазом, дух Гогенцоллернов поддержит её, прусское непобедимое оружие защитит её. Рядом славных битв и потоками крови приобретена Силезия, поставившая Пруссию в ряды великих держав; я же хочу без армии, одною лишь силою ума и властью золота завоевать Польское королевство и положить его к ногам моего короля. Моё имя перейдёт в потомство и будет красоваться в блеске славы Фридриха наравне с великими полководцами. Итак, вперёд! прочь все сомнения и страхи! Герои старины никогда не завладели бы Капитолием, если бы с Тарпейской скалы со страхом смотрели в пропасть.
Вошёл Акст.
– В моём кабинете граф Потоцкий, – сказал он, – и просит аудиенции у вашего превосходительства.
Фон Герне вздрогнул и испуганно посмотрел по сторонам.
– Ради Бога, Акст, – сказал он глухим голосом, – не называйте этого имени! я знаю только господина Балевского, который здесь по делам дровяной торговли и предлагает компании торгового мореплавания заключить договор о поставке.
– Простите, ваше превосходительство, – сказал Акст, – он значится у меня также под этим именем, и я сам называю его этим именем у меня в кабинете, но здесь, в комнате вашего превосходительства, никто не может подслушать.
– Послушайте, любезный Акст, – сказал Герне, кладя руку на плечо своего секретаря, – невидимые духи могут быть сокрыты повсюду – в воздухе, в стенах, в мебели и в портьерах; они подслушивают тайны; непонятным образом разносят их и нашёптывают их в уши тех, для кого они менее всего предназначены; над нашей мыслью эти злые духи не властны, но каждое слово, произнесённое нами, принадлежит им, если бы мы произнесли его даже в пустыне. Недаром предостерегает нас старая пословица, что «стены имеют уши». Поэтому остерегайтесь произносить это имя, которое знаем только мы с вами, которое никогда не должно быть изображено на бумаге и никогда не должно произноситься ничьими устами. Вам я могу доверять, но никому больше на свете.
Радостный луч блеснул на мгновение в глазах секретаря.
– Кому же и доверять вам, ваше превосходительство, если не мне, которого вы подняли из ничтожества, у которого нет семьи, нет родных, нет друзей, который живёт одним чувством благодарности к своему благодетелю?!
– Я знаю, добрейший Акст, я знаю, – сказал фон Герне, – но именно потому, что я доверяю вам, вы никому не должны доверять, даже стенам и воздуху. Ну, идите и пришлите ко мне агента Балевского!
– А Серра? – спросил Акст.
– Я посылаю его в Варшаву. Приготовьте векселя, о которых я вам говорил; он возьмёт их с собою.
– Такую сумму вы доверяете иностранцу? – спросил Акст почти испуганно. – Вы, ваше превосходительство, кажется, считаете его более надёжным, чем стены и воздух?
– С векселями он ничего не может сделать, – сказал фон Герне, – они приобретут ценность лишь тогда, когда будут акцептованы варшавской конторой; что же касается всего прочего, то Серра будет действовать там за своею личною ответственностью.
Акст покачал головой, но ничего не сказал больше и открыл двери в кабинет, находившийся рядом с рабочей комнатой министра и имевший выход в канцелярию.
– Войдите, господин Балевский, – сказал он коротким деловым тоном, – его превосходительство изволит принять вас.
Он скрылся за портьерой, а в рабочий кабинет министра вошёл высокий, стройный молодой человек лет около тридцати.
На нём был простой костюм из серого сукна, как в то время носили зажиточные мещане и купцы; но, несмотря на скромную одежду, вся его фигура производила впечатление необычайного благородства; более элегантным, благородным и гордым не мог бы казаться ни один кавалер в салонах блестящего двора. У него был высокий открытый лоб; под смело очерченными бровями блестели большие, выразительные глаза; красивой формы нос напоминал клюв хищной птицы и ноздри породистой лошади; верхнюю губу его красивого рта покрывали чёрные усики, не вполне соответствовавшие его мещанскому костюму; в линиях рта выражалась гордая твёрдость и вместе с тем почти женская нежность. Волосы были причёсаны и напудрены согласно существующей моде, но свободно ложились природными локонами и отливали естественным блеском.
Когда дверь в переднюю закрылась, фон Герне пошёл навстречу с изысканной вежливостью и подал руку обер-маршалу Литвы, графу Игнатию Потоцкому, вошедшему к нему в кабинет под именем торгового агента Балевского.
– Я только что занимался нашим делом, граф, или, вернее, господин Балевский, – прибавил он, – ведь вы мне позволите называть вас этим именем? Я только что бранил моего секретаря за то, что он назвал другое имя, которое не должно быть здесь произнесено.
– Вы правы, совершенно правы, – произнёс граф, опускаясь на диван рядом с министром. – Впрочем, – прибавил он улыбаясь, – я имею право на это имя по названию моего маленького имения «Балево». Ну, а что вы сделали? – спросил он затем.
– Я послал своего агента в Варшаву; он должен привезти мне подробные сведения о ломбардном обществе, которое должно явиться средоточием нашей деятельности.
– А вы уверены в этом человеке? – спросил граф.
– Он – итальянец, рекомендован нашим посланником, был в Вене и привёз от графа Виельгорского план совместной поддержки варшавского ломбарда.
– Из Вены, от графа Виельгорского? – в испуге воскликнул Потоцкий. – Но это невозможно, это равносильно разрушению нашего плана в самом корне!
– Не думаю, – сказал фон Герне, – это – единственный путь, чтобы сделать нашу тайну непроницаемой. Мой агент, думая, что преследует свой план и действует для князя Кауница, в сущности работает для меня. Таким образом устраняется всякое подозрение, мы же свободно можем наблюдать и начать действовать, когда настанет момент.
– Я вполне подчиняюсь вашему усмотрению и вашей опытности, – сказал Потоцкий, – но должен сознаться, что одинаково боюсь как австрийского, так и русского влияния; обе эти державы ничего не принесут нам, кроме несчастья; только примкнув к Пруссии, моё бедное отечество, перенёсшее столько невзгод и унижений, могло бы надеяться на лучшее светлое будущее.
– Я согласен, – сказал фон Герне, – но присоединение к Пруссии может иметь значение только тогда, если обе короны соединятся на одной голове.
– Это так, – сказал граф Потоцкий торжественным тоном, – этой великой цели посвящены все силы моей жизни! Моё бедное отечество сделало большой промах, избрав короля Августа, который ничего не мог дать нам, а только желал приобрести внешний блеск для своего курфюршества. Но если польскую корону будет носить король Пруссии, то он придаст нам жизненной силы и его могущество послужит фундаментом к восстановлению нашего государственного строя. Прусский дух создаст из нашего храброго народа непобедимую армию; прусские порядки, свобода и справедливость проникнут в нашу жизнь и на ниве освобождённого народа произрастут неизмеримые богатства, а обычаи и нравы, соответствующие духу нашего народа, сохранятся. Король Пруссии достаточно могуществен, чтобы управлять нами, сохраняя нашу самобытность, и если царствующий дом Гогенцоллернов станет в Польше наследственным, то приобретёт себе верных подданных как по эту, так и по ту сторону Вислы.
– Вы знаете, что я вполне присоединяюсь к вашему мнению, – сказал фон Герне, – однако возможно ли ввести в Польше протестантскую династию?
– Почему нет? – сказал граф Потоцкий. – Протестантизм пользуется у нас широким распространением и даже католическая лига вступала в союз с диссидентами, когда дело шло о том, чтобы восстать против слабого правительства. Почему бы им вместе не подчиняться сильной и славной верховной власти? Разве же Пруссия не имеет много католических подданных и разве католическая Силезия не предана прусской короне, несмотря на то, что прошло немного времени с её завоевания? Наконец ведь даже сам король защищает иезуитов против папы! Неужели ваше просвещённое правительство стало бы оскорблять в Польше права католической церкви? Взгляните на Австрию, как там различные национальности соединяются в общей привязанности к царствующему дому. Разве не венгры спасли королеву Марию Терезию? Поверьте мне, король Пруссии и Польши будет могущественнейшим монархом в Европе; он подчинит своей воле Австрию и Россию. Быть может, – прибавил Потоцкий с мечтательным видом, – над соединёнными главами чёрного и белого орлов в новом блеске будет возвышаться римская императорская корона, которая в наше время является лишь церемониальной декорацией на главе лотарингских Габсбургов.
– Вы рисуете широкое и великое будущее, – сказал фон Герне. – В моей душе таятся те же мысли и я счастлив, что вы их разделяете, а не считаете только мечтой.
– Для людей, которые имеют мужество желать и действовать, – сказал Потоцкий, – не существует мечтаний. – Твёрдой волей каждая мечта осуществляется в действительности.
– Но нас только двое, – сказал фон Герне, – а судьба вашего отечества зависит от тысяч.
– Но эти тысячи, – заметил Потоцкий, – подчиняются воле единичных личностей, а эти личности, – прибавил он со вздохом, – подчиняются всесильной власти золота.
– Я уже говорил вам, что мы можем овладеть всеми голосами, если удовлетворим потребности каждого в отдельности.
– Вы желали иметь список; я составил его и против каждого имени пометил сумму, необходимую для приобретения голоса. Вот это – ссуды, которые должны быть выданы под векселя, гарантированные владениями должников. Правда, это – гарантия слабая, но со временем, когда при новом управлении возрастут работоспособность народа и ценность наших земель, долги могут быть покрыты с лихвою. Моего имени нет в этом списке, господин министр, – сказал он, гордо подняв голову, – и я сожалею, что в нём значатся многие почтеннейшие имена; но многие неповинны в том и терпят за грехи своих отцов.
Фон Герне взял бумагу, которую граф вынул из кармана, и стал читать её. Его рука слегка дрожала, но ни один мускул его лица не дрогнул и он сказал совершенно спокойным тоном:
– Это составляет четыреста тысяч талеров. Я представлю их вам наличными деньгами и надеюсь вместе с тем, что мой агент закончит с вашим двоюродным братом, графом Станиславом Феликсом, переговоры относительно покупки «Кроточина», чем граф также будет выведен из затруднительного положения.
– Суммы очень значительны, – заметил Потоцкий, – но я уверен, что его величество король не найдёт их превышающими ту великую цель, какая этим достигается для него и для его дома.
– Для таких целей нет слишком высокой цены, – ответил фон Герне в некотором смущении. – Но я прошу вас, граф, даже в самом интимном кружке не упоминайте в этом деле имени короля; я один, понимаете ли, я один веду эту игру и беру на себя всю ответственность за последствия.
– Я вполне понимаю, – ответил граф, – бывают дела, в которых настоящее действующее лицо остаётся сокрытым, а верный слуга принимает на себя ответственность за своего господина.
Фон Герне вздохнул.
Снова задрожала его рука, когда он сложил бумагу и спрятал в свой карман.
– А здесь, – сказал Потоцкий, улыбаясь и подавая другую бумагу, – торговый договор, который я, как агент фирмы Ворзацкого в Варшаве, имею заключить с вашей компанией по делам дровяной торговли.
– Мой секретарь уладит это дело, – сказал фон Герне, также улыбаясь и кладя на стол развёрнутую бумагу, – фирма Ворзацкого останется довольна своим агентом.
Потоцкий помолчал одно мгновение:
– Мы говорили о государственных и торговых делах, – сказал он затем, – и я надеюсь, что как те, так и другие приведут к удачным результатам; теперь же я попрошу разрешения поговорить о деле, которое касается лично меня и которое, я в том вполне уверен, приведёт к счастью.
Фон Герне казался несколько удивлённым, но сказал предупредительным тоном:
– Вы знаете, что я весь к вашим услугам.
– К сожалению, – продолжал Потоцкий, несколько покраснев, – это дело не так легко уладить, как прочие дела, и, кроме вашей готовности идти навстречу моим желаниям, необходимо ещё высшее соизволение, от которого всё зависит.
– Высшее соизволение? – переспросил фон Герне, с испугом глядя в лицо графа.
– Высшее по крайней мере для меня, так как от него зависит счастье моей жизни. Я имел честь познакомиться в вашем доме с вашей племянницей Марией; моё сердце воспылало страстью, на которую я не считал себя способным в моём возрасте. Полного земного счастья я могу достигнуть только тогда, если Мария отдаст мне своё сердце и руку. Я чуть ли не вдвое старше её, но тем крепче и надёжнее опора, которую я могу предложить ей в жизни...
Фон Герне с минуту смотрел на графа с глубоким удивлением, а затем облегчённо вздохнул, как бы сбросив с себя огромную тяжесть. Судя по вступительным словам, он понял, что высшее соизволение, которого требовал граф, могло относиться только к королю.
– Ваши намерения, граф, – сказал он, – представляют честь для моей племянницы, и я уверен...
Граф сделал отрицательный жест рукою и сказал:
– Кто может быть уверен в сердце женщины! Не от вашего решения зависит моё счастье. Если Мария отдаст мне свою руку по принуждению или уговорами, я никогда не найду с нею счастья. Любовь должна быть свободна, как свет и воздух, как всё благородное, что нисходит с небес на землю. У вас я только прошу разрешения предложить руку Марии, а от неё будет зависеть решение моей судьбы. Я не богат, но и не принадлежу к тем из моих соотечественников, которых бедность сделала подневольными. Когда настанут лучшие времена для моего отечества, ценность моих владений возрастёт втрое и вчетверо, а моё происхождение вам известно...
– Породниться с благородным домом Потоцких было бы честью даже для державных лиц, – поспешно заметил фон Герне.
– Значит, вы разрешаете мне сделать предложение? – спросил граф.
– Я счастлив и горжусь этим, – ответил фон Герне, пожимая руку графа.
– Однако я прошу вас не говорить об этом ни слова с Марией, – сказал Потоцкий, – я сам хочу попытаться завоевать её сердце, и если она не может подарить мне свою любовь, то я пойду одиноко по жизненному пути и мы никогда больше не станем говорить об этом.
– Как вы желаете, – произнёс фон Герне. – Я надеюсь, что вы окажете мне честь и отобедаете с нами и сегодня, как в предыдущие дни. Никому не может показаться странным, что я гостеприимно принимаю у себя в доме посредника по важным делам общества торгового мореплавания. У меня есть ещё некоторые дела, поэтому разрешите проводить вас к моей племяннице и предоставить вас её обществу до обеда.
– Благодарю вас, вы предупредили моё желание, – сказал граф, поднимаясь и следуя за фон Герне через особый коридор, ведший во внутренние покои дома.
III
Паж фон Пирш прибыл в Берлин на взмыленной лошади. Он подскакал к департаменту иностранных дел и передал графу Герцбергу приказ короля относительно советника Менкена. Затем он сдал свою лошадь в королевские конюшни и пошёл в департамент морской торговли, где, по роскошной лестнице с железными перилами художественной работы, поднялся в частную квартиру министра, во второй этаж.
Первый этаж обширного делового помещения соединялся особым боковым ходом с кабинетом министра и личной канцелярией. Дежурный лакей сказал, что министр занят, и спросил, доложить ли о нём сейчас же его превосходительству.
Пирш отклонил это самым решительным образом и спросил, можно ли видеть барышню.
Через несколько минут лакей вернулся обратно и повёл пажа сквозь ряд великолепных приёмных зал в помещение, расположенное со стороны сада; через широко раскрытые окна в него свободно вливался весенний воздух, а солнечные лучи, проникая сквозь могучие кроны вековых лип, бросали свои колеблющиеся отблески в комнату, меблированную в своеобразном, немного строгом, но всё же уютном и необычайно изящно-художественном стиле той эпохи. Обои из светло-зелёного шёлка своими нежными тонами прекрасно гармонировали с обивкой белых лакированных и богато позолоченных диванов, кресел и стульев, всюду составлявших восхитительные и уютные уголки; красивые картины кисти Ватто, заключённые в медальоны и художественно воспроизводившие прелестные пастушеские сценки в жанре этого художника, украшали стены; на потолке амуры плыли среди золотистых облаков и казалось, словно каждый из них грозил оттуда своим натянутым луком; артистически исполненные дорогие фигуры и группы из мейсенского и севрского фарфора стояли на этажерках между роскошными растениями и благоухающими цветами; венецианские зеркала отражали и увеличивали всё это великолепие, а прекрасной работы паркет не уступал им в своём блеске.
В одном из углов виделись красивые маленькие клавесины из розового дерева, богато украшенные золотом и перламутром; вблизи роскошного камина, где горел огонь не столько для согревания свежего весеннего воздуха, сколько для услаждения взора видом горящего пламени, был устроен восхитительный маленький, необыкновенно уютный уголок; диван, подходящий к меблировке комнаты, но у спинки обложенный турецкими подушками, был окружён ширмой, на белом шёлке которой виднелись разноцветные вышитые фигуры амуров, карликов, цветов и листьев; ширма была поставлена таким образом, что защищала от потока воздуха, стремившегося из окна. Пред диваном был постлан ковёр из отборных соболиных шкурок, а возле стоял прибор для пялец из чёрного дерева с инкрустацией, с одной из тех удивительных по искусству работ, которыми славились знатные дамы того времени. С другой стороны на золочёном шесте с перекладиной сидел красивый зелёный попугай, считавшийся в тогдашнее время необычайной редкостью. Тонкий аромат духов наполнял помещение, казавшееся убежищем юности, красоты и жизнерадостности.
Но вся эта обстановка, несмотря на всю свою привлекательность, оживлялась и получала смысл только благодаря присутствию миловидной хозяйки собранной здесь роскоши, о которой в наш материальный век едва ли можно составить себе понятие.
На диване, откинувшись на мягкие подушки, сидела Мария фон Герне, рано осиротевшая дочь двоюродного брата министра; последний воспитывал её в своём доме, как собственную дочь.
Ей было около семнадцати лет, и вся она представляла собою существо, преисполненное такой нежности и свежести, какое мы едва ли могли бы встретить теперь, быть может, уже потому, что наши тяжеловесные туалеты не дают к этому подходящей обстановки. Благородное, тонкое, детское и всё же серьёзное, умное личико своей чистотой и воздушностью напоминало мейсенские фарфоровые фигуры, соединяя здоровую свежесть с идеальной прозрачностью слоновой кости. Большие глаза отливали голубоватым блеском, а из-под лёгкого слоя пудры светились золотистые, роскошно вьющиеся волосы. Венецианская цепь обхватывала тонкую шею, а на белоснежной груди сверкал рубиновый крест. Хорошенькая фигура молодой девушки ещё ярче выделялась во всей своей прелести, благодаря платью из лёгкого белого шёлка с затканными розами и фиалками, которое придавало ей вид гения весны; её ножки, обутые в шёлковые почти прозрачные чулки и атласные башмаки с красными каблуками, покоились на собольем ковре.
Казалось, что это почти волшебно прекрасное и полное жизни существо должно взмахнуть розовыми крыльями и улететь в страну солнечных лучей и весеннего расцвета. И всё же на лице очаровательной девушки виднелись следы печального раздумья.
Она отбросила то рукоделье, которым она только что занималась. Её стройные руки лежали на коленях, розовые пальчики были слегка сложены, большие глаза смотрели на пылающее пламя камина, хотя их взор, казалось, был занят другими, более далёкими картинами.
Попугай, привезённый капитаном одного торгового судна, очевидно был недоволен, что его хозяйка, любимцем которой он считал себя, обращала на него так мало внимания. Он беспокойно ходил взад и вперёд по своей перекладине, повторял различные слова на иностранном языке, а затем подражал голосу горничной, причём повторял отдельные выражения, обыкновенно произносившиеся во время совершения туалета молодой хозяйки. Но всего этого было недостаточно, чтобы вывести молодую девушку из её раздумья. Совсем печально опустив голову, птица как бы, в свою очередь, углубилась в размышления. Наконец она закричала своим своеобразным горловым звуком, но вполне отчётливо и понятно: «Игнатий!»
Мария быстро встрепенулась, словно это было волшебное слово, которое размышлявшая птица вдруг нашла. Яркая краска выступила на её щеках; своими большими глазами она испуганно взглянула на попугая и сделала движение рукой, точно хотела заставить его замолчать. Но птица стала махать крыльями и стремиться к своей хозяйке.
Молодая девушка встала и протянула ей свою руку и птица села на неё. Мария стала ласкать попугая, причём тот с нежностью прижимался головой к её плечу.
– О чём ты говоришь, милый Лорито? – сказала она, – ведь ты не так часто слышал от меня это имя, представляющее собою мечту, о которой я не смею, не хочу думать и которое всё-таки постоянно вспоминается. Здесь, среди этой однообразной жизни, – продолжала она после некоторого раздумья, – мне казалось, словно предо мной раскрылся удивительно привлекательный сказочный мир, когда тот иностранец рассказывал, о своих путешествиях, о разнообразной жизни в польских замках, о ярких картинах Востока и о великолепии Италии. Его зовут Игнатием, он иногда говорил об этом среди своих рассказов, и вот почему это имя осталось у меня в памяти; оно осталось для меня как бы формой, как бы отзвуком всего того, что производило на меня такое сильное впечатление, и больше ничего. Ты никогда не должен называть это имя, Лорито, ты не должен о нём говорить, когда я в твоём присутствии погружаюсь в мечты.
Попугай словно понял её слова; он замахал крыльями и стал произносить всевозможные иностранные и немецкие слова, но ни разу не повторил запрещённого имени.
Вошёл лакей и доложил, что барон фон Пирш просит принять его.
– Просите, просите! – живо воскликнула Мария, – это внесёт немного разнообразия в печальную, однотонную жизнь, которая целыми днями тяготит меня.
Лакей открыл дверь.
Паж фон Пирш вошёл в комнату. Мария поспешила ему навстречу, и, протянув руку, сердечно сказала:
– Здравствуй, милый Фриц! Мы так давно не виделись! Когда ты приходишь, я всё ещё думаю, что мы – дети и что мы сейчас начнём играть, как тогда, в те прекрасные прошедшие времена, когда для нашего счастья надо было так мало, когда детская и сад составляли весь наш мир, который мы по своему желанию населяли великанами, карликами, колдуньями и феями, так что у нас никогда не было недостатка в обществе и мы никогда не испытывали скуки.
Фриц фон Пирш посмотрел на молодую девушку восхищенными глазами, затем сделал необыкновенно изящный поклон и галантно поднёс к губам протянутую ему руку.
Но в этот момент попугай растопырил свои перья, стал злобно махать крыльями и пытался схватить пажа своим клювом.
– Фу, какая невежливая птица! – заметил паж полусердито, полушутя. – Говорят, что инстинкт животных заставляет их отгадывать и разделять чувства и настроение своих хозяев. Если бы это была правда, я мог бы сомневаться, что моё посещение приятно тебе.
– Какой ты глупый, Фриц! – со смехом промолвила Мария, – ведь ты знаешь, какие мы хорошие друзья и как я всегда рада видеть тебя, когда ты получаешь разрешение навестить нас. Птица, – продолжала она с ещё более искренним смехом, – испугалась того, что ты отдал мне такой торжественный поклон и так церемонно поцеловал мне руку, а это на самом деле было очень комично для двух таких хороших друзей и товарищей по играм, какими мы были и останемся навсегда.
Лицо Пирша стало ещё серьёзнее, только недовольство в его чертах сменилось грустным выражением.
– Хорошими друзьями мы останемся, если Богу угодно, – заметил он, – но мы уже более не товарищи по играм. Годы быстро идут и быстро меняют всё. Хорошо ли это, или дурно, – я этого не знаю; для одного всё складывается удачно, для другого – нет, но таковы условия жизни, которые мы не можем изменить.
– Каким торжественным тоном говоришь ты, Фриц! – сказала Мария, всё ещё смеясь, – я просто не узнаю тебя. Пойдём, сядь возле меня, – продолжала она, ставя попугая на его место и садясь на свой диван, – да отбрось свою серьёзную мину, которая пугает меня. Поболтаем, как в прежнее время, обо всём, что придёт нам в голову, или расскажи мне что-нибудь о вашей придворной жизни в Сансуси, о которой слышно всё менее, чем старше становится король.
– Об этом можно рассказать очень мало, – заметил Пирш, пожимая плечами. – Что может происходить при дворе, где никогда не появляется ни одной дамы, где видишь только военных, угрюмых старых генералов, учёных и философов, бесконечно более скучных, чем придворные шуты, которыми забавлялись предшественники нашего всемилостивейшего короля; нашему брату не остаётся ничего другого, как в порыве отчаяния выкинуть какую-нибудь безрассудную шалость, над которой король, быть может, посмеётся, если счастье улыбнётся нам, но за которую он точно так же может засадить в Шпандау, если он будет в дурном настроении.
– И я уверена, – весело заметила Мария, – что Фриц Пирш при таких забавных проделках пажей всегда находится впереди и нисколько не боится быть отправленным в Шпандау.








