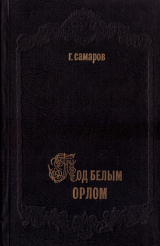
Текст книги "Под белым орлом"
Автор книги: Грегор Самаров
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 41 страниц)
– Да, также и моё, – повторил граф Феликс, повинуясь её знаку.
– Если бы это не было твоим мнением, – пытливо глядя на него, проговорил граф Игнатий, – то продолжение нашего разговора было бы излишним.
– Да, это – моё мнение, – почти нетерпеливо произнёс граф Феликс, – только будет немного тяжело найти державного кандидата, который своей личностью и своим домом представлял бы гарантию того, что цель, к которой мы стремимся, действительно будет достигнута. Ведь тебе известно, что в Петербурге мечтают о соединении польской короны с русской на голове Екатерины.
– И, к сожалению, – горячо воскликнул граф Игнатий, – существуют, к стыду нашей родины, и поляки, в подобных мечтаниях видящие исполнение своих честолюбивых надежд, как, например, этот жалкий Сосновский... Но всё же, слава Богу, их число не велико и нашей задачей должно быть постоянное содействие к его уменьшению.
– В Вене думают о саксонском курпринце[3]3
Наследный принц курфюрстского дома.
[Закрыть], – заметил граф Феликс, – по крайней мере я слышал разговор об этом; это по крайней мере вернуло бы нас к традициям Августа.
– К печальным и позорным традициям, – подхватил граф Игнатий. – Никогда ещё Польша не была более беспомощна в своих внешних делах и более беспорядочна в своих внутренних, как в злополучное царствование Августа. Что принесёт нам этот саксонец, который сам по себе – ничто, ничего не имеет и не в состоянии ничего сделать? Ни русская сила, ни австрийские советы не принесут нам благоденствия; мы нуждаемся в спасительной руке, достаточно крепкой, чтобы оградить нас от наших врагов, от наших друзей и от нас самих; нам нужна такая рука, которая принесёт нам могущество вместо того, чтобы требовать от нас пустого блеска и исчерпывать последние соки нашей страны, чтобы украсить нашей короной чужое тщеславие.
– А где нам найти подобную руку? – спросил граф Феликс, в то время как глаза Софии с любопытством поблескивали из-за занавески.
– Она найдена, – ответил граф Игнатий, – это прусский король Фридрих, который может повести нас к благоденствию. Дивная творческая сила Гогенцоллернов, создавшая из Бранденбурга Пруссию, будет в состоянии восстановить и Польшу из её развалин и под чёрным и белым орлами мощно повелевать Европою на Востоке и Западе.
Граф Феликс взглянул по направлению к портьере; София оживлённо кивала головой.
– Ты уже раньше упоминал об этом, – сказал он, – но я не считал возможным серьёзно смотреть на эту мысль... Как исполнить это? Прусское завоевательное движение сделает нашу страну ареной тяжёлой войны и к тому же захочет ли Фридрих Великий пуститься на подобный риск, который неизбежно вовлечёт его на старости лет в тяжёлые заботы?
Граф Игнатий, покачав головой, произнёс:
– Речь идёт не о завоевательном движении; не в руки завоевателя, не в руки чужеземного деспота я хочу передать своё отечество, нет, пусть польская нация по вольному праву изберёт себе нового короля; пусть он правит страною, так долго пребывавшей в анархии, согласно новой конституции и пусть исцелит и сделает её великой и могущественной. Императрица Екатерина слишком самоуверенна в своём высокомерии и, чтобы сделать её ещё более самоуверенной, я и прибыл сюда. Пусть она думает, что повсюду в нашей стране исчезла надежда на освобождение; тогда легко будет, организовав восстание, в один день смести или взять в плен русские войска, рассеянные и расположенные без всякой связи друг с другом в многочисленных гарнизонах; а так как императрица готовится к новой войне с Турцией, то она не будет в состоянии выставить против нас новую, действительно готовую к бою армию. Если тотчас затем сейм выберет короля Фридриха наследственным королём Польши, то непобедимый герой будет вправе пред всей Европой занять нашу страну – не как чужеземец, а как законный государь, своей испытанной и страшной армией и никто не осмелится напасть на Польшу, когда её король будет носить имя Фридриха Великого и когда возле белого орла протянет свои могучие когти навстречу неприятелю чёрный орёл.
– А Понятовский? – спросил граф Феликс.
– Ему предложат отречься от престола, – пожимая плечами, ответил граф Игнатий, – и он будет счастлив, что своей подписью под отречением купит себе спокойную старость и хорошую пенсию.
Граф Феликс рассмеялся; он видел, как София ударяла кончиками своих белых пальцев друг о друга, как бы желая рукоплесканием выразить своё одобрение словам его брата.
– Всё-таки главное заключается в том, примет ли Фридрих Великий подобный выбор и удержит ли он своею сильною рукою то право, которое предоставляется ему последним? – заявил он. – И затем далее: возможно ли будет объединить на прусском короле голоса сейма, после того как Понятовский будет устранён, что мне не трудно будет устроить?
– Ответ на оба вопроса у меня при себе, – ответил граф Игнатий, вынимая из кармана пакет с бумагами, который он получил при выходе из дома и в котором заключалась и маленькая записка, столь осчастливившая его и столь тяжело потрясшая графиню Елену Браницкую. В тот же момент София неосторожно далеко высунулась из-за складок портьеры, чтобы окинуть любопытным взором пакет. – Вот здесь, – продолжал он, – заключается перечень важнейших депутатов сейма, благодаря влиянию которых мы почти с безусловной уверенностью будем располагать всеми голосами на нём, а рядом с именами обозначены суммы, необходимые на то, чтобы снова привести в порядок дела некоторых лиц, как ты и сам знаешь, порядочно-таки порасстроенные. Прочти сам, – сказал он, передавая лист брату, – разве с этими именами мы не будем полными господами в сейме и разве не будет принадлежать нам влияние вот этих обозначенных здесь, если мы будем в состоянии предоставить к их услугам проставленные рядом с их именами суммы?
Граф Феликс взял лист и пробежал его взглядом. В некоторых местах он довольно кивал головою.
– Ты прав, – сказал он, – с этими именами сейм будет принадлежать нам и они будут наши, если мы будем в состоянии оказать им помощь, в которой они нуждаются, благодаря своим затруднительным обстоятельствам. Во всяком случае мы будем в таком большинстве, что возьмём верх над немногочисленной оппозицией или в случае необходимости будем иметь возможность исключить её. Но как достать деньги? Ведь, судя по твоей собственной смете, для этого потребуется полмиллиона.
– Но если мы будем иметь эти полмиллиона, – прервал его граф Игнатий, – если я могу предоставить их в твоё распоряжение, чтобы разделить, то ты согласишься со мною, что вполне возможно наверняка рассчитывать на выбор короля Фридриха в наследственные польские короли.
– Если это в самом деле так, то ты прав, – ответил граф Феликс, – но всё же...
– Мне предстоит теперь ответить на твой второй вопрос, – продолжал граф Игнатий. – Так вот, если суммы, необходимые нам, чтобы подкупить лидеров партий... довольно печально, – со вздохом прервал он самого себя, – что нам приходится покупать их и что мы можем их купить, но мы покупаем ради блага родины, а не с тем, чтобы погубить её, как это было прежде... Итак, если эти суммы будут даны самим королём Фридрихом Великим, то будешь ли ты сомневаться в том, что он примет выбор, предложенный нами ему, и поддержит его своею мощною рукою?
– И это будет возможно? – с возрастающим изумлением спросил граф Феликс.
– Здесь, – сказал граф Игнатий, раскладывая свой пакет на стол, – я кладу тебе готовую сумму, которая выведена на том листе; это всё – векселя прусской компании торгового мореплавания в Берлине, учитываемые варшавской конторой и повсюду принимаемые наравне с наличными деньгами.
– И эти векселя присланы самим прусским королём? – спросил граф Феликс, перебирая руками документы и пытливо осматривая их.
– Разве компания торгового мореплавания – не королевское учреждение? – в свою очередь, спросил граф Игнатий.
– Ты был в Берлине, ты видел короля?
– Я вёл переговоры с его министром Герне. Сам король не может явно выступить, прежде чем всё не созреет, прежде чем не освободится престол и на него не падёт выбор сейма.
– И ты уверен, что он согласен с этим, что ему угодно будет случившееся и он будет поддерживать выборы? – продолжал свой допрос граф Феликс.
– Если бы я даже и хотел сомневаться в Герне, то разве мог бы министр располагать такими суммами, если бы король не знал и не одобрил преследуемой этим цели? Верь мне, брат, всё вполне подготовлено; необходим только благоприятный момент, чтобы привести в движение отлично подогнанные шестерни машины, и, уловив этот момент, предложить королю вместе с польской короною и рукоять отточенного меча. Это будет нашей задачей и в особенности твоей. Ты ведь пользуешься доверием всех тех лиц, в которых мы нуждаемся; я долго был в отъезде и стал здесь совершенно чужим.
Граф Феликс задумался; его лицо выразило как бы смущение и недовольство; он тщетно оглядывался на портьеру – София исчезла, складки не раздвигались. Затем его взгляд скользнул по разложенным на столе векселям и облако, омрачившее его лицо, исчезло.
– Я удивляюсь тебе, брат, – сказал он, – в то время как другие пробавлялись разговорами, ты уже действовал.
– А теперь время действовать тебе! – произнёс граф Игнатий. – Возьми эти векселя; я уверен, что тебе удастся набрать сторонников.
– Уже здесь я могу многое сделать, – раздумчиво произнёс граф Феликс, – мы приобретём и Сосновского; мне начинает даже казаться, что ты расстроил его планы из политических видов: так как Бобринский ускользнул от него, он готов будет искать себе возмещения утраты в Берлине. Как только мы вернёмся в Варшаву, я буду действовать дальше. Отречение Понятовского будет устроить легче всего; я рассчитываю на тебя в подготовлении быстрого и своевременного восстания, которое освободит страну от русских и даст нам время заставить сейм приступить к новым выборам.
– Я сделаю всё нужное к этому! Да, впрочем, многое уже сделано, – ответил граф Игнатий, поднимаясь с места. – Теперь нам не следует часто и подолгу говорить друг с другом, иначе могут заподозрить, что у нас здесь есть ещё другое дело, кроме стремления сиять в лучах милости августейшей императрицы Екатерины Алексеевны.
– Ты рассчитывал на Елену Браницкую? – спросил граф Феликс. – Она знает о твоих планах? Вы уже сблизились?
– Я принуждён сомневаться в ней, – мрачно проговорил граф Игнатий. – Судя по её собственным словам, это она раскрыла и расстроила бегство Костюшки; мне даже почти кажется, что она отвернулась от старых знамён и перешла к двуглавому орлу.
– Нет, нет, – воскликнул граф Феликс, – то был, должно быть, каприз, вражда к Сосновскому или Бог знает ещё что; ведь женщины непостижимы и непонятны. Знаешь ли, брат, – с улыбкой продолжал он, – Елена Браницкая была бы отличной партией для тебя... Ведь она так красива, так богата!.. Да и тебе пора бы прекратить свою скитальческую жизнь.
Граф Игнатий энергично покачал головою; его лицо мгновенно покраснело и в то же время он невольно прижал свою руку к груди, где была спрятана записка Марии Берне.
– Елена? – сказал он, принуждённо улыбаясь. – Ты шутишь, брат... Она и я... об этом мы оба никогда и не думали... а если, может быть, такая мысль и зарождалась, всё же сперва благо родины и лишь затем личное счастье!
Он торопливо пожал руку брата и поспешил уйти.
В то время как граф Феликс ещё смотрел ему вслед, изумлённый его замешательством, София, вся так и сияя от радости, вышла из-за портьеры. Она обняла Потоцкого и в избытке шаловливого настроения закружила его вокруг себя.
– Великолепно! великолепно! – восторженно восклицала она. – Твой брат – не человек, а сокровище, он замыкает кольцо цепи, в которой мы ковали звено за звеном! я расцеловала бы эти прелестные, дивные бумаги, – воскликнула она, разбрасывая кончиками своих розовых пальцев векселя, – эти волшебные листки, дающие нам мощь направлять всё по нашей воле и вместе с этим золотым дождём так же надёжно вторгнуться в совесть этих хвастливых магнатов, как Юпитер когда-то проникал в самые сокровенные подземелья Данайи.
– И ты серьёзно думаешь о прусском короле? – спросил Потоцкий. – Ты хотела бы, чтобы я согласился с планами брата?
София посмотрела на него широко раскрытым взором и воскликнула:
– Разумеется, я хотела этого; разумеется, тебе необходимо было согласиться, потому что в противном случае он не говорил бы далее и спрятал бы к себе в карман эти бумаги, которые, несмотря на свою лёгкость и ничтожность по своему внешнему виду, всё же представят собою ступени для будущего блеска и величия, всё ближе и ближе манящих нас! Ты спрашиваешь, серьёзно ли я думаю о прусском короле? – смеясь воскликнула она. – О нём, клянусь Богом, я думаю менее, чем о ком-либо другом; этот угрюмый скряга превратил бы прекрасную романтическую Польшу в казарму или в канцелярию надутых, обветшалых педантов; даже под властью Екатерины в Польше оставалось бы гордое место для Феликса Потоцкого, но чем был бы ты при этом Фридрихе, не терпящем никого возле себя? Нет, нет, мой друг, я, право, вовсе не думаю о нём; но он должен доставить нам свою дань, чтобы тем легче было нам победить в нашей борьбе. Я думаю лишь о тебе да о себе, и о сияющем венце, всё ближе и ближе опускающемся на наши головы. Пусть всё произойдёт так, как задумано; пусть все их мелкие планы сольются в один наивеликий план!
– А как именно создаётся этот план в неутомимой головке моей прелестной Минервы, так грациозно носящей пояс Афродиты? – спросил он с улыбкой, целуя её сверкающие глаза.
– План прост, как и всё великое, – ответила София, – и сама судьба предоставляет нам камни, чтобы, кладя их друг на друга, соорудить из них стройное здание. Пусть всё будет так, как вы условились; пусть принудят Понятовского отречься от престола, я уже приготовила свои ножницы для головы этого жалкого короля. Ты знаешь это. Русские должны быть изгнаны, сейм соберётся, его голоса будут принадлежать тебе, благодаря тем деньгам, которые они наперерыв суют в твои руки; но тогда сейм провозгласит наследственным польским королём не бессильного курпринца саксонского, не короля прусского, а Станислава Феликса Потоцкого, – воскликнула она, вытягиваясь на цыпочках и приподнимая над ним свои руки, – ты будешь потрясать мечом своего воинственного народа и заставишь гордо развеваться в воздухе знамёна белого орла, и все подкарауливающие враги будут оттеснены от пределов королевства!
– А что же будет с моим братом? – спросил Феликс.
– С твоим братом? Да разве он не будет гордиться тем, что герб его дома украсится короной Ягеллонов? А если и у него не будет этого чувства, то ведь, когда ты станешь королём согласно воле народной, всякий, кто захочет восстать против тебя, будет мятежником!
Потоцкий бурно прижал её к своей груди. Но София с неудовольствием вырвалась из его объятий и воскликнула:
– Ступай! тебя уже давно не видели. Покажись на улицах, смейся, шути, ухаживай за государыней! Пусть все думают, что Феликс Потоцкий живёт лишь настоящей минутой и в мимолётных наслаждениях находит счастье и цель жизни; грозное чело заговорщика легче всего скрывается под легко увядающим венком из роз!
Она быстро исчезла, и вскоре Потоцкий уже скакал по улицам города, окружённый своей блестящей свитой.
Граф Игнатий вернулся к себе домой. По дороге туда всё, что занимало и волновало его, отступило назад, как клубящееся облако под солнечным лучом, и все его мысли следовали одному лишь влечению его сердца. Сам хорошо не сознавая того, он вынул из кармана письмо Марии и восторженным взором впивался в слова, доставлявшие ему столь сладостную любовную весточку. Он и теперь снова прижал бы к своим губам бумагу, если бы приветствие знакомого не пробудило его от грёз, благодаря чему он вспомнил о том, что на улице не место заниматься своими прелестными тайнами.
Когда Потоцкий вошёл во двор своего дома, его встретил доверенный слуга и доложил, что паж императрицы только что появлялся в доме литовского маршала и что непосредственно затем Сосновский и его дочь отправились в Янчинский дворец.
Эта весть возвратила Потоцкого от счастливых картин будущего, реявших вокруг него, к действительности настоящей минуты.
«Я обещал своему другу защищать его возлюбленную, – сказал он про себя, – у счастливых есть один священный долг – не забывать о несчастных».
Он быстро повернулся и поспешно отправился к Янчинскому дворцу.
В его передней Потоцкий нашёл всего лишь одного дежурного пажа, так как приём двора был назначен на более поздний час.
Государыня отдала приказ никого не допускать к ней. Однако Потоцкий настаивал на том, что должен тотчас передать её величеству несколько слов о важном и не терпящем отлагательства деле, и так как императрица повелела выказывать польским магнатам внешние знаки вежливости и почтения, то паж не осмелился противоречить настоятельно и повелительно выраженному желанию одного из первых польских магнатов, бравшему на себя всю ответственность за это, и в конце концов робко и неуверенно направился в кабинет своей повелительницы.
К своему великому удивлению, паж получил приказ сейчас же просить Потоцкого, и вслед за тем граф Игнатий вошёл в кабинет императрицы, двери которого стояли настежь открытыми в парк и в котором царили полная тишина и покой, особенно бросавшиеся в глаза после шумного и беспокойного движения на городских улицах.
Екатерина Алексеевна сидела в кресле; у её ног расположилась на маленьком табурете Людовика Сосновская, бледная, в чёрном платье, согбенная, но спокойная и преданная; она подняла на графа Игнатия взор своих заплаканных глаз и, казалось, благодарила его за его появление, не надеясь однако на его результаты.
Возле императрицы стоял католический архиепископ Валерий Симиорский, человек с кротким, умным лицом, в фиолетовой сутане, со сверкающим на груди крестом.
В стороне стоял Сосновский. Ярость и ненависть были написаны на его желтоватом, бледном, вялом лице; он встретил грозным, враждебным взглядом Игнатия Потоцкого, с глубоким поклоном приблизившегося к императрице.
– Я явился сюда, ваше императорское величество, высказать вам своё признание и просьбу, – сказал он.
– Постойте, граф Потоцкий! – серьёзно остановила его Екатерина Алексеевна, но с дружелюбным благорасположением подала ему руку для поцелуя. – Не говорите дальше, мне заранее известны ваше признание и ваша просьба. Вы хотите сказать мне, что помогали графине Сосновской в её бегстве, путём которого она намеревалась избегнуть принуждения...
– Так как я нахожу здесь маршала литовского, – возразил Игнатий Потоцкий, – то я мог уже ожидать, что он уже принёс свою жалобу, но всё же...
– И вы желаете, – продолжала Екатерина Алексеевна, – просить меня о защите для этой бедняжки Людовики, которая не в состоянии вырвать любовь из своего сердца.
– Вот именно, – подтвердил Потоцкий, – и если вы, ваше императорское величество, возьмёте на себя эту защиту, то лишь исполните священный долг пред слабым родом человеческим, украшением которого вы служите и непреложные права которого вы призваны защищать пред всеми остальными.
– Я сделала больше, граф Потоцкий, – ответила государыня: – я просила графа Сосновского, – так как российская императрица не может приказать маршалу литовскому, она не может и не должна посягать на право отца, – итак, я просила, чтобы он, как отец своего единственного ребёнка, оберег вожделенное счастье его юного сердца.
Счастливое изумление озарило лицо Потоцкого.
– Благодарю вас, ваше императорское величество, благодарю вас! – воскликнул он. – Клянусь Богом, вы высказали просьбу, в которой вы никогда не раскаетесь, так как нет на земле сердца благороднее, чем у моего друга, которому графиня Людовика подарила свою любовь, нет имени в Польше, которое звучало бы чище, чем имя храброго и верного Тадеуша Костюшки.
Государыня вопросительно взглянула на Сосновского.
Последний весь так и дрожал от внутреннего возбуждения, которое он силою пытался подавить в себе. Его губы вздрагивали, а левая рука судорожно сжимала рукоять сабли.
– Вам, ваше императорское величество, известны наполняющие мою душу удивление и глубокая преданность к вам, как высокой покровительнице моей родины, – проговорил он глухим голосом. – Если вы, ваше императорское величество, потребуете у меня жизни на службе вам, то я ни на минуту не поколеблюсь с радостью пожертвовать ею; но вы, ваше императорское величество, не пожелаете, – продолжал он, тяжело дыша, – чтобы я сам вознаградил похитителя моей чести, который позорно запятнал бы моё имя, если бы его безбожное предприятие удалось; вы не захотите, чтобы я отплатил непокорному отцовским благословением за его тяжёлую вину.
Людовика с тихим плачем поникла головой.
Екатерина Алексеевна обратилась к архиепископу и спросила:
– А что скажете вы, ваше высокопреосвященство?
– Людовика Сосновская провинилась, – приветливо, кротко и серьёзно ответил иерарх. – Служитель церкви может простить вину любви; он может увещевать отца простить дочь, но не может приказывать; это должно быть свободным решением примирённой любви, если должно принести благословение ребёнку.
Сосновский мрачно покачал головою.
– Время – могучий слуга Божий, чтобы вести людей по их пути к их целям, – продолжал архиепископ. – Время излечивает чёрствые сердца; каждая секунда – это капля, представляющая собой звук гласа Божия. Предоставим и здесь, ваше императорское величество, времени, согласно воле Божией, загладить вину и побороть суровый гнев.
– Я не желаю ничего более, – тихо всхлипывая, проговорила Людовика, припадая к руке императрицы, – я не должна желать ничего более, как в мирной тишине познать самое себя и в покорном смирении исполнять суровый долг послушания, чтобы искупить свою вину, если это – о, милосердный Бог любви! – была вина.
– Пусть будет так! – сказала императрица. – Вам, ваше преосвященство, я доверяю Людовику. Вы ручаетесь мне за то, что её тяжело надломленная душа будет свободна от всякого гнёта и предоставлена только Богу.
Архиепископ подошёл к Людовике и, благословляя, возложил руку на её голову.
– Я не сержусь на вас, граф Сосновский, – продолжала императрица, – ваше решение должно быть свободно; высокопреосвященный был прав, говоря, что чредою времени Господь действует на суровые сердца. Вы знаете, чем можете доставить мне радость.
Сосновский молча поклонился. Он бросил ещё грозный, враждебный взгляд на Людовику, с рыданием упавшую на колена пред архиепископом, и вышел вон, и паж в передней испуганно услышал, как дикое проклятие прошипело на его губах.
Государыня обняла Людовику, а архиепископ увёл её, поддерживая под руку, чтобы проводить её в монастырь кармелиток.
– Подождите, граф Потоцкий, – сказала Екатерина Алексеевна, когда граф Игнатий намеревался проститься с нею.
Граф удивлённо остался стоять пред креслом императрицы.
– Знаете ли вы, граф Потоцкий, – спросила Екатерина Алексеевна, – кому эта бедная девушка обязана благодарностью за то, что я взяла её под свою защиту пред гневом её отца?
– Благородному сердцу вашего императорского величества, – ответил Потоцкий, смущённый этим вопросом, цель которого он никак не мог объяснить себе.
– Сострадание моего сердца было пробуждено во мне женщиной, – сказала императрица, пристально смотря на него, – и женщиной, которая и во мне пробудила сердце женщины, – является Елена Браницкая.
– Графиня Елена? – в величайшем изумлении воскликнул Потоцкий. – Да ведь именно она предала моего друга Тадеуша Костюшко и расстроила бегство! – с мрачным взором прибавил граф Игнатий.
– Да, это сделано ею, я знаю это, – заметила государыня.
– И теперь она является, чтобы просить защиты для своей жертвы? Непонятны капризы женского сердца! – с укоризною воскликнул Потоцкий.
– Мне следовало бы обидеться на эти слова, граф Потоцкий, – улыбаясь, проговорила Екатерина Алексеевна, – но я вынуждена извинить их, так как ведь императрица заботится о том, чтобы люди не держались слишком низкого мнения о женской слабости, – гордо прибавила она.
– Простите, ваше императорское величество, – воскликнул Потоцкий, – не каждая женщина обладает сильным духом и мощною рукою, чтобы подавлять слабости женского сердца под твёрдой державной волей.
– Итак, я должна быть беспристрастна, – продолжала императрица, – но всё же женщина, которая хочет на минуту забыть, что она – императрица, считает возможным открыть вам, граф, что во всех капризах женского сердца, сколь странными и необъяснимыми ни казались бы они, любовь или ненависть всегда являются побудительной причиной.
– А почему бы графине Елене ненавидеть бедняжку Людовику Сосновскую? – спросил Потоцкий. – Она едва знала её пред тем, и если действительно ненавидела её, то почему же она просила у вас, ваше императорское величество, защиты для бедняжки?
– Так вот, граф, если здесь не было ненависти, побуждавшей её, то должна была быть любовь, – ответила Екатерина Алексеевна.
– Любовь?.. Тадеуш?.. Быть не может! Графиня Елена никогда не видела его, – пробормотал Потоцкий.
– Графиня Елена не предполагала, что то был Тадеуш Костюшко, намеревавшийся увезти Людовику, – возразила императрица. – Она заметила подготовления к бегству, стала преследовать и расстроила его, потому что предполагала, что другой любит Людовику, другой, чьё сердце было наградой, ради которой она сочла достаточным для себя вступить в борьбу.
– Другой? я ничего не понимаю.
– О, как часто мужчины не отличаются понятливостью, когда дело идёт о том, чтобы понять женское сердце, которое не произносит вслух своей тайны, а желает быть отгаданным и иметь достаточное право на то, чтобы заставить отгадать себя!..
Потоцкий пристально посмотрел на императрицу, а она продолжала:
– Разве Костюшко увёз с моего бала бедную Людовику? Разве он сопровождал её к ожидавшим за городом лошадям? Разве могла знать графиня Елена, что тот, другой оказывает лишь дружескую услугу любви своего друга?
– О, Боже мой, Боже мой! – воскликнул граф Игнатий, закрывая лицо руками.
Императрица, улыбаясь, смотрела на то, как он на несколько секунд как будто лишился языка.
– Вы видите, – сказала она, – как в этой игре дивно переплетаются страданье и счастье человеческих сердец; то, что разлучает одних, может быть, соединяет других... Бог даст, и разлучённые снова счастливо встретятся.
– О, Боже мой! Я не знаю, как мне найти подходящее выражение... И вы, ваше императорское величество, не ошибаетесь? – дрожа спросил Потоцкий.
– То, чего не видит гордый, проницательный взгляд мужчины, ясно открыто для женского взора, – ответила императрица. – Трудно скрыть пред женским взглядом сердечную тайну другой женщины... К тому же графиня Елена вовсе не хотела закрывать предо мною своё сердце.
Потоцкий неподвижно стоял на месте. Видимо, он был побеждён впечатлением, произведённым на него словами императрицы.
– Ступайте, граф Потоцкий, я понимаю, что вам более нечего сказать мне, – проговорила Екатерина Алексеевна. – Там, где я хотела помочь, я не могла это сделать сегодня... Может быть, мне было суждено принести счастье там, где я и не могла подозревать, что была в состоянии сделать это.
С этими словами она подала графу руку; он склонился, поцеловал её и колеблющейся походкой, как бы во сне, вышел из комнаты.
– Графиня Елена должна быть благодарна мне, – сказала государыня, смотря ему вслед, – по крайней мере она не будет более моим врагом.
Паж отворил дверь и доложил о приходе князя Потёмкина.








