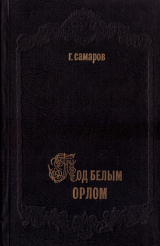
Текст книги "Под белым орлом"
Автор книги: Грегор Самаров
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 41 страниц)
– Хорошо, я обещаю.
– Это был граф Игнатий Потоцкий, – ответила графиня так тихо, что государыня едва уловила имя.
Наступила минута молчания. В глазах императрицы промелькнула мысль, и она в задумчивости склонила голову.
Графиня Браницкая сжала на груди руки и заговорила:
– Ваше императорское величество! вы сказали, что граф Бобринский не может отдать свою руку женщине, которая носит в сердце образ другого человека, что императрица, хотя и имея власть, не станет принуждать женщину приносить пред алтарём ложную клятву. Теперь вы, ваше императорское величество, понимаете, почему я, желая спасти влюблённую парочку, не могу принести жертву, которая не может к тому же быть принята ни императрицей, ни женщиной. – Сгорая от стыда, она опустилась к ногам императрицы и схватила руки. – Помилуйте, государыня, не ставьте никаких условий, и моя жизнь будет принадлежать вам!
Екатерина Алексеевна долго смотрела на неё. Эта прелестная, гордая женщина, теперь склонённая у ног императрицы, являла собою трогательную картину. Глаза государыни увлажнились, и она, поцеловав в лоб графиню Елену, сказала:
– Встаньте, графиня, я умею ценить благородное доверие, вы не разочаруетесь. Я не могу заставить Сосновского исполнить желание его дочери; мне неприлично вмешиваться в отцовские права, но даю слово, что никакого принуждения не будет предпринято по отношению к этой девушке.
– Благодарю вас, ваше императорское величество, благодарю! – воскликнула графиня, покрывая поцелуями руки императрицы.
В то же время последняя промолвила:
– Быть может, впоследствии, когда мои враги будут рисовать меня как тирана Польши, вы вспомните наш сегодняшний разговор и докажете им, что я больше забочусь о справедливости, чем те магнаты, которые сделали из Польши игрушку своего честолюбия.
Лёгкая тень промелькнула по лицу графини.
– Я никогда не забуду, – серьёзно сказала она, – чем обязана вам, ваше императорское величество, и что моё место не может быть среди ваших врагов.
Сказав это, графиня Браницкая поднялась, поцеловав руку императрицы.
Вошёл паж и доложил о приходе графа Сосновского.
– Быть может, влюблённые уже скрылись, – промолвила императрица, – может быть... Впрочем, мы сейчас всё узнаем. Останьтесь, графиня, здесь; вам вероятно интересно знать, чем окончится всё дело.
Графиня опустилась на кресло, которое ей было указано.
Сосновский вошёл. Его лицо было бледно и взволнованно.
– Прошу извинить меня, ваше императорское величество, что я являюсь в таком виде к вам. Но я должен сообщить вам отчёт и поблагодарить вас за содействие. Я рад также видеть графиню Браницкую, так как только благодаря ей я мог вовремя захватить свою дочь.
Графиня потупилась, а императрица сурово заговорила:
– Было бы лучше, граф, если бы вы не являлись сюда в таком запылённом платье, так как я не хотела бы предавать огласке это дело. Но раз вы здесь, то рассказывайте!
– Мне удалось захватить дочь, ваше императорское величество, – сказал Сосновский, смущённый таким холодным приёмом.
– А молодого дворянина Костюшко?
– Он теперь спешит достичь границы, – ответил Сосновский. – Я дал ему свободу, чтобы избежать скандала, который был бы вызван его арестом.
– Было бы лучше, – строго сказала Екатерина Алексеевна, – если бы вы привели его сюда, чтобы я лично могла осудить его или помиловать.
Сосновский замолчал. Он не понимал, почему так строга императрица.
– Вы, понимаете, граф, – продолжала государыня, – что теперь не может быть и речи о том плане, который был задуман мною раньше.
– Как? – воскликнул Сосновский, – я думал, вы и граф Бобринский...
– Я никогда не называла имени графа Бобринского, – возразила императрица.
– Но ведь теперь всё обошлось благополучно, – сказал Сосновский.
– Да, но об этом все знают, и потому о браке не может быть речи.
– Благодарю вас, ваше императорское величество, – прошептала графиня Браницкая.
– Так, значит, я напрасно поймал беглянку? – пролепетал граф.
– Нет, не напрасно, – возразила Екатерина Алексеевна, – открытие побега по крайней мере осведомило о том, что вы скрыли от меня, а именно, что сердце вашей дочери несвободно; это могло навлечь на вас мой гнев. Я согласна простить вас за то, что вы обманули меня, но лишь в том случае, если вы поступите справедливо со своею дочерью и не станете препятствовать её счастью.
– Никогда не отдам я её в руки этому разбойнику, – воскликнул в злобе Сосновский.
– Вы – не мой подданный, граф Сосновский, – холодно сказала Екатерина Алексеевна, – иначе вы не стали бы восставать против моего совета. Но я никогда не вмешиваюсь в семейные дела, я могу только советовать.
– Потребуйте от меня умереть, – воскликнул Сосновский, – но я не могу исполнить желание, которое покроет позором мой дом.
– От позора я уберегла вас, дав вам возможность скрыть побег вашей дочери, – промолвила императрица, – а о моих словах вы подумаете, когда успокоитесь. Но я решила защищать вашу дочь от всякого принуждения; соблюдая и уважая отцовские права, я не хочу, чтобы ими и злоупотребляли. Графиня Браницкая получила от меня обещание этого.
– Графиня? – в недоумении воскликнул Сосновский, – но она же мне сама дала совет обратиться к вам?
– Поблагодарите её, – сказала императрица, – так как она предотвратила позор, который мог обрушиться на вашу голову! Но она не хочет, чтобы теперь ваша дочь испытывала принуждение с вашей стороны. Ваша дочь найдёт приют в здешнем монастыре кармелиток, и я дам архиепископу приказ охранять её от всякого понуждения с вашей стороны, и малейшая ваша попытка вызовет мой справедливый гнев. В этом монастыре она будет отдыхать от пережитых ею волнений и, спокойно предоставив себя Провидению, ожидать будущего, моля Бога, чтобы Он благоприятно устроил её судьбу.
– Вы хотите, ваше императорское величество, взять у меня моего ребёнка, поддержать и потворствовать его непослушанию? – воскликнул Сосновский.
– Ступайте, граф Сосновский, – холодно проговорила императрица, – постарайтесь научиться владеть собою, тогда вы сумеете лучше подбирать выражения.
Сосновский хотел говорить, но Екатерина Алексеевна сделала повелительный жест рукою; её глаза метали молнии. Граф ещё крепче прижал свою руку к груди, низко поклонился и неуверенной походкой направился к дверям.
Почти на пороге он встретил графа Бобринского, который хотел было удержать его; но он с едва слышным проклятием на губах вырвался из комнаты.
– Что это с Сосновским? – воскликнул молодой человек, с почтительной преданностью целуя руку императрицы и учтиво кланяясь графине; – у него такой расстроенный вид. Неужели маршала так огорчило нездоровье его дочери? Это мне было бы очень больно; я должен сознаться, что явился сюда с тем, чтобы поговорить с моей всемилостивейшей государыней императрицей о красавице Людовике, образ которой глубоко запал в моё сердце.
– Ты позабудешь об этом, Григорий Григорьевич, – дружелюбно, но твёрдо произнесла Екатерина Алексеевна, – и я думаю, что тебе нетрудно будет возместить утрату, – с улыбкой прибавила она.
– Но я всё же предполагал, – обескураженно робко сказал Бобринский, – что вам, ваше императорское величество, нравилось, когда...
– Здоровье графини Людовики Сосновской сильно потрясено, – прервала его императрица, – я только что приказала отвезти её в монастырь кармелиток, где вылечат её припадок; она не для тебя; я не желаю, чтобы ты более думал о ней.
Бобринский был совершенно обескуражен. Несмотря на свою дерзкую самонадеянность, по тону императрицы он всё же слышал, что путь для всяких дальнейших возражений отрезан, а он отлично знал границы, которые не смел переступать.
В этот момент паж отворил двери и доложил:
– Его сиятельство граф Фалькенштейн.
Вошёл император Иосиф.
На нём был простой, почти буржуазный костюм без орденской ленты; императрица пошла ему навстречу, и он галантно поцеловал её руку.
На улыбавшемся лице Екатерины Алексеевны никто не мог бы заметить и следа той трогательной сцены, которая только что разыгралась здесь.
– Я возвращаюсь с прогулки по городу, – сказал император, – и очень удивлялся цветущей промышленности среди населения; но ещё более удивляюсь я государыне, остриём своего меча угрожающей султану в Стамбуле и в то же время умеющей своею материнскою рукою извлекать плоды культуры из почвы своего государства.
– Я должна продолжать дело Петра Великого и быстрее, чем другие правители, вести вперёд свой народ, так как Россия отстала на целый век, – улыбаясь заметила Екатерина Алексеевна. – Если вам, ваше величество, будет угодно, – продолжала она, – то совершим прогулку по парку; сегодня прекрасное и свежее утро; ведь вы, ваше величество, хотите, чтобы мы на время позабыли о наших коронах и по-дружески поговорили друг с другом, а это легче всего сделать на чистом, вольном воздухе.
Иосиф подал императрице руку, поклонился графине Елене и Бобринскому, и их величества, весело разговаривая и смеясь, вышли в парк, залитый лучами солнца.
– Скажите мне, графиня, что случилось с Людовикой Сосновской? – спросил Бобринский.
– Не знаю; я очень мало знакома с этой дамой, – почти невежливо коротко ответила графиня и с беглым поклоном удалилась.
– Жаль! – сказал Бобринский, – она была так красива; я уверен, что и в самом деле влюбился бы в неё; государыня, по-видимому, согласна с этим, но она, как и все женщины, капризничает, а так как она – прежде всего императрица, то приходится сносить её капризы.
XV
По возвращении из своей злополучной поездки верхом, Игнатий Потоцкий выбрал самых надёжных и самых преданных своих слуг и приказал наблюдать за домом Сосновского и сообщать ему обо всём, что произойдёт с графиней Людовикой; таким образом он надеялся сдержать своё слово, данное Костюшке, и оградить возлюбленную своего приятеля от всяких принудительных мер. В Могилёве это было нетрудно, так как дом, занимаемый Сосновскими, как и все жилища состоятельных горожан, был расположен посреди сада и со всех сторон было видно, кто входил в дом и выходил оттуда. Потоцкий узнал между прочим, что к дому были принесены закрытые носилки, сопровождаемые самим маршалом. Из них вышла какая-то дама, и Сосновский лично провёл её в комнату дочери; при этом не был вызван никто из слуг, так что нужно было предполагать посещение какой-нибудь окрестной помещицы, желавшей не показываться открыто, чтобы не быть вынужденной таким образом засвидетельствовать своё почтение пред императрицей. Таковы были сведения, полученные Потоцким; слуги дома Сосновских придали мало значения всему этому, и графа Игнатия успокоило уже то обстоятельство, что расстроившееся бегство осталось незамеченным и что Людовика до сих пор была в доме своего отца; пока последний оставался в Могилёве, она не могла быть увезена оттуда так, чтобы этого не заметили соглядатаи Потоцкого.
Получив это известие, граф, утомлённый сильной заботой и бешеной ночной скачкой, в продолжение нескольких часов отдыхал, чтобы вернуть своему телу силы, столь нужные ему при всевозможных планах, обуревавших его сердце.
Освежившись сном, граф снова поднялся и услышал, что в доме Сосновских всё спокойно и что никто не покидал его. Поэтому он вышел, чтобы посетить своего брата, которого до сих пор видел лишь мельком и с которым ему нужно было серьёзно переговорить. Граф уже вышел из дома, когда прискакал на взмыленном коне один из его слуг, оставленных им в Варшаве, и передал ему пачку писем, которые пришли к нему и которые граф, как и другие находившиеся в Могилёве важные вельможи, приказал доставлять ему с надёжными нарочными. Он бросил равнодушный взгляд на большую часть писем и приказал отнести и положить их в его комнату; только одно из них, под печатью комитета прусской компании торгового мореплавания, он вскрыл, взглянул на содержавшуюся в нём бумагу и спрятал её к себе в карман.
– Отлично! – тихо произнёс он про себя. – Герне сдержал своё слово; нетрудно будет приобрести голоса, когда такой важный двигатель, как золото, выкажет свою убедительную силу. Печально, что это так, но ради достижения великой цели пригодны все средства.
Граф передал конверт с печатью слуге, чтобы положить к остальным письмам и эту бумагу, которую он не намерен был бросать. При этом из большого делового конверта выпала ещё маленькая, изящная записка.
Слуга нагнулся и подал её своему господину.
Граф Игнатий взглянул на изящный, несколько неуверенный почерк, которым был написан адрес на записке, и на резко выступавшую красную печать, изображавшую голубя с письмом в клюве.
Серьёзное, почти мрачное пред тем лицо графа сразу осветилось радостным выражением. Он сделал знак слуге, тотчас же понёсшему остальные письма по направлению к дому, разорвал конверт и пробежал взором письмо, написанное на шёлковой бумаге с золотым обрезом.
– Спасибо, – прошептал он, – спасибо за твой нежный привет, мой прелестный цветочек, обвившийся вокруг покрытого инеем ствола моей жизни, чтобы украсить его новой юной прелестью. Твой милый аромат, издалека доносящийся ко мне, живит и укрепляет меня во всякой борьбе, которая попадается на моём пути и которую мне предстоит ещё перенести, чтобы затем мирно срывать цветы любовного счастья.
Граф окинул взором вокруг, не подглядывает ли кто-либо за ним; но ни на дворе дома, занимаемого им, ни в его окнах не было никого. Тогда он пылко прижал к своим губам маленькую записку, с минуту вдыхал в себя нежный аромат духов, издаваемый бумагой, и затем спрятал последнюю у себя на груди.
Правда, никто из окон дома, никто во дворе не наблюдал за ним, но всё же в этот миг на него был устремлён взор пары пылких глаз.
Оставив Янчинский дворец, графиня Елена Браницкая с минуту колебалась и размышляла на его пороге. Затем она подозвала лакея, стоявшего у дверцы её экипажа, и приказала:
– Поезжайте домой, я хочу прогуляться пешком!
Экипаж уехал, и графиня твёрдою и гордою поступью направилась через двор на улицу.
– Да, – говорила она про себя, не обращая внимания на почтительные поклоны горожан, уже давно стоявших у дворцовой решётки, – да, это необходимо, я обязана дать ему отчёт во всём, что сделала и что он не может понять. Он очевидно ненавидит и презирает меня, так как я предала его друга... он должен знать, что я сделала всё, что была в состоянии сделать; он должен знать, что я преклонилась пред императрицей – врагом моего отечества, возносила ей свою благодарность и преданность, чтобы искупить тем свою измену и оградить Людовику от гнева её отца и от недостойного ига! А если он спросит, – произнесла она ещё тише, замедляя свой шаг, – почему я сперва выдала то бегство, чтобы затем... – Её лицо пылало, дивная улыбка легла на её губы, и она, подобно вырвавшемуся дыханию, робко прошептала: – государыня поняла меня, поймёт меня и он, если... если...
Графиня не окончила, но сияющим взором взглянула в синеву небес и с поднятою головою пошла дальше.
Наконец Браницкая достигла поворота на большую улицу и, быстро осмотревшись, сказала:
– Там, вот в том доме с обвитою зеленью решёткой... о, я отлично знаю, где он живёт!., ведь я должна знать это, чтобы иметь возможность отыскивать его своими мыслями, которыми я так долго принуждена была следить за ним издалека! Смелее, смелее, глупое сердце! высшее счастье жизни стоит минуты смирения, смирения пред ним, так высоко стоящим над всеми, пред ним единственным, на которого я когда-то обратила свой взор!..
Сердце графини усиленно забилось, её щёки пылали; она лёгким шагом перешла улицу и подошла к увитой зеленью решётке, охватывавшей с этой стороны двор пред домом Потоцкого.
Тут Браницкая увидела въехавшего во двор верхового и услышала голос Потоцкого. При звуке этого голоса она вся так и затрепетала и ближе прильнула к решётке, чтобы видеть всё сквозь её ветви; она не хотела теперь встретиться с ним при посторонних; то, что она была намерена сказать ему, касалось лишь её и его одного, только его одного.
Графиня видела, как Потоцкий принял письмо и равнодушно осмотрел его. Она нетерпеливо топнула ногой о землю. Она ждала, чтобы слуга удалился, а затем намеревалась пойти графу навстречу; ведь должен же он был выслушать её, он должен был вернуться с нею, и когда он выслушает её, то... Её сердце забилось трепетной страстью.
Она уже хотела поспешить вдоль решётки ко входу и вдруг увидела, как граф Потоцкий взял в руки маленькую записку, с каким выражением счастья он прочёл её и как наконец пламенно прижал её к своим губам.
Её горячо бившееся сердце судорожно сжалось, словно схваченное ледяною рукой смерти; её глаза устремили свой неподвижный взор сквозь зелень ветвей, её бледное лицо исказилось судорогой, а рука, ища опоры, ухватилась за прутья решётки.
Так она и осталась стоять, в то время как Потоцкий медленно направлялся к воротам.
Он не заметил, что конверт записки, столь осчастливившей его, остался лежать на земле.
– Бедный Тадеуш, бедная Людовика! – сказал он, поникнув на грудь головою, – каким мрачным кажется мне ваше горе на фоне моего лучезарного счастья! Как могла Елена так скверно поступить по отношению к вам? Я считал её доброй и благородной, и что же... Тадеуша она вовсе не знала и едва знакома с Людовикой... Что за причина могла подстрекнуть её? Неужели в каждом женском сердце дремлет демон, который пробудясь, творит зло из одной только любви ко всему злому? Нет, нет... если во всех женских сердцах и извивается змея рая, то я знаю одну, которая принадлежит одному небу; в это я буду верить, пока наслаждаюсь ярким солнечным светом!
Разговаривая таким образом с самим собою, граф вышел со двора и направился к центру города.
Графиня Елена не расслышала его слов; ведь она видела, достаточно видела, и её муки не могли бы увеличиться, если бы она даже и услышала.
Она всё ещё стояла прислонясь к решётке, всё ещё устремила свой неподвижный взор на то место, где только что стоял граф.
Вдруг её взгляд упал на лежавшую на земле бумагу.
Мягко крадучись и всё же быстро и смело подвигаясь вперёд, походя своими движениями на тигрицу, графиня направилась ко входу, всё ещё не спуская взора с мелькавшего сквозь прутья решётки и зелень листвы листа бумаги. Она вошла во двор и одним взглядом охватила все окна; в них не было никого, кто мог бы видеть её. С быстротой молнии она подняла с земли конверт письма и поспешила снова на улицу, а затем медленно пошла по направлению к своему дому, силою воли подавляя в себе снедавшее её нетерпение.
Улицы всё более и более оживлялись. Графиня встретила нескольких знакомых, приветствовавших её и даже заговаривавших с нею, и ей приходилось со спокойной, равнодушной улыбкой на губах подавлять все муки в своём сильно бившемся сердце, ощущая на нём, словно жгучую рану, роковую бумагу.
Наконец она добралась до своего дома, заперлась на ключ в своей спальне и дрожащими руками вытащила листок, который должен был пролить свет в ночной мрак, объявший её разум. Конечно, нельзя было ждать от этого света жизненной теплоты, как от солнечных лучей; напротив того, благодаря ему царивший мрак должен был показаться ещё мрачнее, но он должен был указать пылавшему в ней гневу путь мщения.
Однако конверт мало годился на то, чтобы пролить этот демонический свет. На нём ничего не было написано, кроме слов; «Господину Балевскому», а маленькая печать изображала лишь голубя с письмом; последняя была оттиснута, по-видимому, печаткой на драгоценном камне.
Почерк был очевидно женский, а бумага издавала тонкий аромат духов. Графиня с какою-то ревнивою жадностью втягивала его в себя, как бы ища в этом ужаснейшем самоистязании горького удовлетворения своим огромным сердечным мукам. Этот аромат и изящная печать указывали на то, что дама была знатной.
– Но разве мало женщин, – сказала графиня, осматривая бумагу пылающим взором, в который она вложила всю свою душу, – которые так легко постигают эти внешние качества знатного света... в особенности благодаря такому учителю, как граф Игнатий Потоцкий? Разве в Париже можно отличить женщину с театральных подмостков от герцогини? И дама, писавшая это письмо, именно и должна быть таковою, так как она не знает его и пишет ему под фальшивым именем Балевского! О, если бы это было мимолётной связью, без которой не может обойтись такой человек, как Игнатий, и которую я тысячу раз простила бы ему!
На миг в её глазах загорелась ликующая радость, но затем она снова мрачно покачала головой, и горький смех вырвался из её тяжело вздымавшейся груди.
– Нет, нет, – глухим голосом проговорила она, – нет, это – не то. В самом ли деле женщина, писавшая это письмо, не знала настоящего имени Игнатия, или она выбрала это фальшивое имя, чтобы наедине сохранить свою тайну, – одно лишь ясно стоит предо мною в своей разительной непреложности: Игнатий любит эту женщину, горячо и искренне любит её, – он, чьё сердце, как я думала, не знает любви, в чьей груди мне представлялось возможным сильной страстью пробудить дремлющее чувство. Как целовал он это письмо, с каким блаженным восторгом он смотрел на небо, как спрятал у себя на груди этот листок! О, Боже мой, нет сомнения, он любит эту женщину, приславшую ему это послание... Княгиня ли она, или нищая, – всё равно, но она богаче всех на свете благодаря его любви! И я, – со скрежетом вырвалось из-за её сжатых зубов, и её глаза наполнились слезами, – должна была видеть это... вот этими своими глазами должна была видеть это!
Она вскочила с места, осушила свои слёзы.
– Хорошо, что так, – крикнула она резким голосом, – было бы ужасно, если бы случилось иначе... если бы...
Графиня задрожала, а затем, грозно сверкая глазами, произнесла:
– Ну, теперь я знаю, что он тем не менее обманывал меня; ведь всё же обман – сказанные им мне слова о том, что его сердце свободно и принадлежит одной только родине. Он изменил дружбе, и горе, горе ему, если он изменил и, более того, если он прочёл в моём сердце тайну моей любви.
Графиня закрыла сильно пылавшее лицо руками, словно хотела скрыть от самой себя позорную мысль, вздымавшую её гордую душу.
Затем она снова взглянула на ненавистную бумагу. С внутренней стороны конверта она заметила лёгкий отпечаток букв, оставленный на конверте вложенным в него письмом.
Словно пушинку подбросило графиню и она подняла листок в уровень с лицом, оборотной стороной к окну.
– Ничего, ничего, – вглядываясь, проговорила она, – одни лишь несвязные, непонятные штрихи, холодные, немые и неподвижные, как зимнее бедствие, спустившееся на весенние цветы моей надежды... Всё же здесь... вот в самом конце... да, да, – воскликнула она, поднося листок к самым глазам, – вот М... вот а... Мария... да, здесь ясно стоит... Мария, вот имя, которое страстно звучит на его губах и наполняет его грёзы, которое он у её ног...
Она с ужасом швырнула на пол скомканное письмо.
– Мария... что это значит? кто среди десятков тысяч женщин, носящих это имя Пречистой Девы, заслуживает его любви и моей мести?
Долго она неподвижно смотрела пред собою, погрузившись в глубокие размышления; затем её взгляд упал в зеркало, отразившее её великолепную фигуру и её лицо с заплаканными и всё же ярко сверкавшими глазами во всей его действительной красоте.
– Разве я недостойна его любви? – воскликнула она. – Разве он слеп и не видит великолепного цветка, благоухающего навстречу ему? почему он ищет где-то вдали, может быть, даже в низших слоях, счастья для своего сердца? О, я могу выступить на бой, чтобы сразиться за него; я должна добиться победы, кто бы ни была моя противница, похитившая у меня его сердце! Я сохранила для него, ослеплённого, неблагодарного, всё то опьяняющее счастье, которое в состоянии лишь доставить моё сердце; так мне ли уступить его без борьбы другой... быть может, недостойной, оставить его той, которая никогда не будет в состоянии дать ему то, что я сумею дать ему?.. Никогда, никогда! Елена Браницкая может любить всего лишь один раз... Я должна уничтожить ту, которая помешала моей любви! Разве я не разбила счастья Людовики Сосновской? Чего же мне щадить женщину, действительно похитившую сердце Игнатия? Орёл не отдаёт без борьбы добычи, намеченной им, а я чувствую себя родственной орлу.
Графиня снова подняла конверт и прошептала:
– Немного здесь, и всё же много, что дают мне боги мщения. Для кардинала Ришелье достаточно было двух слов, написанных на листе бумаги, чтобы возвести человека на эшафот; мне должно быть достаточно этого, чтобы повергнуть похитительницу моей любви и овладеть благороднейшей добычей моей жизни!
Она заперла листок в шкатулку, в которой хранились самые дорогие из её драгоценностей, а затем воскликнула:
– Теперь на борьбу! Уйдите прочь, скройтесь в глубине моего сердца, беспокойно волнующие меня мысли! С этой минуты пусть окутает меня панцирь мщения; с опущенным забралом я намерена подкарауливать врага, чтобы затем поразить его насмерть!
Графиня осушила свои слёзы, послушные её воле глаза снова загорелись ярким блеском, а губы сложились в прелестную улыбку.
Она открыла дверь спальни и позвала камеристку.
Спустя час, она уже скакала по улицам города на великолепном арабском коне, блиставшем драгоценными камнями, в сопровождении шталмейстера и слуг, делая визиты некоторым дамам из польского общества и русской придворной знати, и, где ни появлялась она, всюду народ восторженными кликами встречал эту знатнейшую, самую гордую и прекраснейшую даму высшей аристократии Речи Посполитой.
Игнатий Потоцкий с сияющими глазами и эластичной походкой направлялся к дому своего брата. Нежное послание, которое он только что получил от прекрасной Марии Герне и которое доставило ему детски-робкий и всё же искренне-тёплый любовный привет прелестной девушки, вернуло ему смелую решимость для исполнения его великих планов. Мрачные сомнения, некоторое время угнетавшие его, исчезли пред великим идеалом его будущности, возрождения его родины, которое для него лично было связано с таким нежным счастьем, и он смело и самоуверенно вошёл в кабинет своего брата, только что вставшего с постели и отдыхавшего на диване, выпуская кольцами в воздух из своего чубука из розового дерева ароматные облачки дыма.
Когда в кабинет вошёл граф Игнатий, портьера, отделявшая спальню, слегка заколыхалась.
Граф Феликс подал ему руку и пригласил сесть рядом на диване.
Граф Игнатий отказался от предложенного чубука и сказал:
– Мы едва виделись с тобой после того, как я возвратился из своего путешествия; здесь, пожалуй, лучше всего представляется возможность спокойно поговорить, потому что здесь никто не заподозрит, что можно заниматься серьёзными делами. Я должен серьёзно поговорить с тобой.
Феликс Потоцкий вопросительно посмотрел на него и, улыбаясь, сказал:
– Я и то удивлялся, что ты прибыл сюда, так как ты ведь постоянно выставляешь напоказ в себе патриота и врага России. Правда, ты был здесь нужен, чтобы защитить любовь Тадеуша Костюшки и помочь ему бежать с дочерью Сосновского. Прости мне, но это было довольно неосторожно, так как государыня предназначила красавицу Людовику для своего Бобринского, и здесь, в русских владениях, ты подвергался не малой опасности.
Граф Игнатий удивлённо уставился на брата и бледнея спросил:
– Тебе известно это?
– Потёмкин уже ранним утром был у меня и рассказал мне всю историю, – ответил граф Феликс. – Ведь ему постоянно всё известно; комендант и офицеры остерегаются иметь тайны от него, так как от его гнева и мести никогда не оградит и сама императрица.
– Я сделал то, что должен был сделать, как честный человек, – спокойно и твёрдо проговорил граф Игнатий. – Я хотела помочь, к сожалению, безрезультатно, своему другу. Личные обстоятельства не касаются императрицы, я – не её подданный и она не осмелится...
– Я не могу точно определить, на что она осмелится, – прервал его брат, – так как она не привыкла ограничивать свою волю и в её силах осуществлять её. Впрочем, похищение наказуется и польскими законами. Во всяком случае, клянусь Богом, это было неосторожно с твоей стороны. Но успокойся, это не будет иметь никаких последствий. Потёмкин – мой друг, то есть он хочет использовать меня для своих целей и думает, что может использовать. К тому же он терпеть не может Бобринского и желает, чтобы тот лишился красавицы-невесты. Однако прежде всего его привело в ярость то, что адъютант Римский-Корсаков отдал приказание у него за спиной и послал казаков преследовать беглянку; этот маленький задорный любимчик очень скоро почувствует удар тяжеловесной медвежьей лапы Потёмкина.
– Преследование было устроено по личному повелению императрицы, – сказал граф Игнатий.
– Но Потёмкин не знал об этом, – пожимая плечами, возразил ему брат, – а он не любит этого. Он охотно разрешает государыне её маленькие шалости, но, когда её любимцы начинают желать быть более, чем игрушкою каприза, то он уничтожает их, и эта участь ждёт, конечно, и зазнавшегося Римского-Корсакова. Ты можешь быть вполне спокоен; если сама императрица и выкажет свою немилость, то Потёмкин отвратит её гнев.
– Я думаю, – заметил граф Игнатий, – что ни ты, ни я не привыкли беспокоиться о том, будет ли к нам милостива или немилостива русская императрица.
– Во всяком случае, мы в её власти, – возразил граф Феликс, – и твоё присутствие лучше всего показывает, что и ты убеждён в необходимости считаться с существующими обстоятельствами.
– До тех пор, пока мы не сумеем изменить их! – воскликнул граф Игнатий. – И скоро к этому представится возможность, и вот именно об этом я и пришёл поговорить с тобой.
Граф Феликс мог видеть со своего места портьеру, между тем как граф Игнатий, повернувшийся к брату, сидел в полуоборот от дверей спальни.
Феликс Потоцкий колебался и по-видимому склонен был под каким-либо предлогом избежать серьёзного разговора, но тут он увидел, что складки портьеры слегка раздвинулись и София оживлённо делала из-за неё утвердительные знаки.
– В таком случае говори, – с лёгким вздохом произнёс он.
– Мы постоянно соглашались со всеми патриотами, преданными нашей родине, – начал граф Игнатий, – что Польша может быть только тогда спасена, когда мы учредим королевство свободное и могущественное во всех отношениях и что подобная свобода и могущество возможны лишь тогда, когда корона, независимо от борьбы партий и честолюбия, будет сделана наследственной в чужеземном царственном роде.
– Это мнение многих, – неуверенно подтвердил Феликс Потоцкий.
– А также и твоё? – с резким ударением спросил граф Игнатий.
Красавица-гречанка снова взяла на себя руководительство разговором из-за складок портьеры, точно так же, как она сделала это и при посещении Серра. Она лишь оживлённо утвердительно закивала головой.








