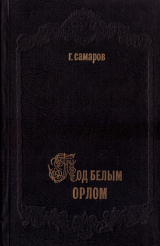
Текст книги "Под белым орлом"
Автор книги: Грегор Самаров
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 38 (всего у книги 41 страниц)
Мария поникла головою; она подавила слёзы, но тем не менее при всём дивном воспоминании, которое у неё сохранялось о друге детства, в её сердце не нашлось места для пожелания, чтобы всё было по-другому; она чувствовала, что в её сердце никогда не будет другой любви, кроме той, которая овладела всем её существом.
Некоторые из гостей сделали безразличные сожалеющие или укоризненные замечания об офицере, оставившем славную службу королю, и таким образом и в доме Герне кануло в лету забвения воспоминание о юном офицере.
Бурная сцена с графиней Браницкой, настоящего имени которой не узнали ни министр, ни его племянница, также сильно взволновала Марию; она чувствовала, что вступила в серьёзную борьбу на жизнь и на смерть за сокровище своей любви, которой она до сих пор радовалась с детской безмятежностью, и что неприятельница, которая внезапно подобно извивающейся змее преградила ей дорогу, не перестанет отыскивать всё новые и новые орудия против её любви. Она боязливо содрогалась в предвидении этой борьбы, угрожавшей чем-то новым и незнакомым. Мария почувствовала себя вдруг созревшею и равной по силам той гордой и ослепительной женщине, на которую до сих пор она смотрела как на недосягаемый для себя образец.
Она, конечно, не поверила злым наветам графини относительно неверности и недостойной игры, которую граф Игнатий был намерен вести с её сердцем, но вместе с тем не могла и позабыть их, и насмешливые, грозные слова часто находили мучительный отзвук в её сердце.
В порыве страха и горя её первым намерением было написать своему возлюбленному, сообщить ему обвинение графини. Но она тотчас же отбросила эту мысль. Если она потребует оправдания, то уже одно это будет признанием справедливости обвинения. Что сказала бы она, если бы её самое оклеветали пред Игнатием Потоцким и он обратился к ней с требованием опровергнуть эту клевету и тем доказать свою невиновность или хотя разуверить в ней? Разве не оскорбило бы её до глубины души подобное сомнение, разве не увидела бы она в этом преступления против её любви? Нет, нет, ведь она требует глубокой веры от Игнатия; неужели же, благодаря обвинению чужой женщины, известной ей лишь в качестве соперницы в его любви, она выкажет недоверие к нему?
Мария покраснела пред своими собственными мыслями, доказавшими ей, что злые семена всё-таки дали ростки в её сердце и начали пускать корни. Где же была бы её гордая самоуверенность, с которой она отшвырнула от себя обвинение той женщины, если бы она снизошла до того, что потребовала бы от него оправдаться пред нею и чем бы то ни было утвердить в ней свободную веру в него? Она думала об Игнатии Потоцком, она вызывала из глубины своих воспоминаний его образ и он как живой вставал пред её ясным взором.
– Я верю тебе, мой Игнатий, я верю в твою любовь и верность! Клевете не достигнуть высоты моей веры и преданности!
И в тишине ночной она написала длинное письмо, в котором передала своему возлюбленному все помыслы и чувства. Она сообщила ему о происшествии с Пиршем, излила пред ним всю горечь утраты друга детства. Она высказала опасение, что в порыве отчаяния Пирш может искать встречи с графом Игнатием, чтобы отмстить ему за утраченные надежды, которые в своём диком упрямстве он считал принадлежащими ему по праву и которые она никогда не внушала ему. Затем Мария заклинала своего возлюбленного ради неё простить её другу детства его заблуждение и избегать роковой встречи с ним.
Она шаг за шагом описывала свою жизнь, сообщила графу Игнатию о посещениях Ворринской, которая должна была быть его хорошей знакомой, так как неоднократно довольно подробно говорила о нём.
Она уже готова была признаться во всём случившемся и хотела дать слово, что глубоко верит ему, но удержалась от этого, так как чувствовала, что и одно признание в том, что ей пришлось побороть хотя на миг возникшее в ней сомнение, должно было огорчить её возлюбленного и со своей стороны заставить его усомниться в глубине и искренности её любви.
Уже было далеко за полночь, когда Мария окончила своё письмо; физически она была утомлена, но её душе вернулось мирное спокойствие; ей казалось, как будто тёмный призрак, на миг выросший между нею и её возлюбленным, прогнан небесными светочами веры и преданности, и она заснула с нежным приветом своему возлюбленному на счастливо улыбавшихся губах.
Спокойно протекали следующие дни. По обыкновению в доме министра к обеду и ужину появлялись иногда довольно многочисленные гости.
Мария непринуждённо принимала их за столом и в салоне, с самообладанием отвечала на все вопросы относительно красавицы-иностранки, которую уже привыкли заставать у неё, и высказывала сожаление о внезапном отъезде своей приятельницы, вызванном неожиданными семейными обстоятельствами.
Всё, по-видимому, было позабыто: Мария почти была благодарна Провидению за случившееся; по её мнению, её любовь всё же была драгоценным сокровищем, за обладание которым она должна бороться, чтобы стать достойным его и чтобы оно было тем надёжнее, после того как она выйдет победительницею из борьбы.
Мария томительно считала дни, отделявшие её от того момента, когда она получит ответ от графа Игнатия на своё письмо, когда из его слов она надёжнее всего почерпнёт счастливую уверенность, что всё сказанное ей было ложью, которою старалась уязвить её сердце злобная змея клеветы.
Уже давно Мария не смотрела таким ясным и сияющим счастьем взором на золотисто-зелёную осеннюю листву парка пред окнами её кабинета, и когда попугай врывался в её грёзы, печальным тоном произнося имя Игнатия, то ей казалось, что вкруг неё витают мысли её возлюбленного и что ей вскоре предстоит блаженный, давно ожидаемый миг свидания с ним.
Уже давно в ней не было такого душевного спокойствия и вместе с тем уже давно её не волновала столь радостная надежда; как в эти дни; ни одним фибром своей души она не подозревала о роковом событии, уже грозно подступавшем к дому её дяди. Так покоится тихое море под ласковыми лучами солнца и по его поверхности пробегает лишь лёгкая рябь от дуновений приятного ветра, а тёмные тучи между тем уже подступают к самому солнцу, облегают его и несут в своём лоне бурю, которая вот-вот вздует едва колышащуюся поверхность моря и превратит её рябь в бешеные волны.
У министра Герне собралось немногочисленное интимное общество к обеду. Беседа была в высшей степени оживлена. Герне был в настроении и воодушевлял всех своим остроумием и шутками. Мария также была особенно весела и радостна, ожидая в близком будущем ответа от возлюбленного. Она отослала своё письмо с курьером, отправленным по делам комитета компании торгового мореплавания в Варшаву, и теперь со дня на день ожидала его возвращения и ответа от любимого человека.
Министр также ожидал, что курьер прибудет с добрыми вестями. После ареста Серры он приказал доставить себе все те бумаги, которые касались отношений итальянца к компании торгового мореплавания, и начальник полиции нисколько не задумался над тем, чтобы исполнить требование министра. Затем Герне просмотрел почти законченный доклад Серры, составленный им относительно приобретения имения «Кроточин» согласно желаниям министра, и решил воспользоваться им, чтобы представить эту покупку выгодною с финансовой точки зрения и целесообразной для торговых отношений. В докладе Серры он не нашёл противоречий в исчислениях на этот счёт и предполагал, что чисто коммерческую сторону этого дела можно будет поставить так, что при сдаче отчёта против него ничего не возразит и король.
Его агент в Варшаве между тем известил через курьера, что дело почти покончено и что граф Феликс Потоцкий, который более, чем когда-либо, пользуется могуществом и влиянием в Польше, велел передать министру свою благодарность.
Герне считал графа Феликса Потоцкого вполне солидарным с его планами на будущее Польши и не сомневался, что после покупки имения он предоставить в распоряжение министра всё своё влияние.
Итак, едва ли что-либо мешало осуществлению великого и смелого плана Герне и мысленно он уже видел близость того момента, когда он достигнет высшей цели своего честолюбия и, не обнажая меча, без жертв людьми и благосостоянием страны, преподнесёт своему королю корону, приобретённую им для своего повелителя благодаря лишь уму и холодному расчёту. Изумление короля по поводу этого великого результата будет высшей и лучшей наградой за его труды и мучительные заботы; его имя будет внесено в историю рядом с боевыми сподвижниками великого Фридриха и, пожалуй, будет поставлено впереди других, так как он доставит Гогенцоллернам и Прусскому королевству много более, чем можно было бы достигнуть целым рядом выигранных сражений и массою человеческой крови, пролитой в боях.
Эти блестящие картины будущего наполняли Герне гордой радостью и, пожалуй, никогда ещё пред тем не собиралось более весёлого общества за его столом, на котором красовались самые редкие лакомства всех стран, доставленные далеко распространившей свои торговые сношения компанией торгового мореплавания.
Во время десерта, состоявшего из редких экзотических фруктов, в столовую вошёл Акст, чего он никогда не делал, если не было в высшей степени настоятельного повода.
При виде секретаря глаза Герне радостно засияли; он предположил, что вернулся курьер из Варшавы с добрыми вестями, и гордые картины его смелого честолюбия предстали пред ним в ещё более, чем до тех пор, ярком и красочном виде. Он не заметил, что серый цвет, которым всегда отличалось лицо Акста, сегодня казался почти землистым и что обычно острый и саркастический взор казался взволнованным от страха и беспокойства.
По знаку министра Акст приблизился к нему и, став за спинкою его стула, шёпотом проговорил:
– Сейчас прибыл господин канцлер и желает переговорить с вашим превосходительством о крайне неотложном деле.
Герне нисколько не удивился этому сообщению; ведь министры часто совещались друг с другом, и если канцлер и был выше его рангом и имел бы право пригласить его к себе на совещание, то всё же его визит, когда дело касалось спешного обстоятельства, не бросался в глаза. Он извинился пред гостями, попросил не стесняться его и направился в кабинет в сопровождении Акста. Последний весь так и дрожал и казался как бы надломленным. Но министр не заметил этого, равно как не замечал и того, что лакеи в коридоре с расстроенными лицами перешёптывались о чём-то. Он быстро распахнул дверь в кабинет и вошёл туда; Акст между тем, поникнув головой и с огорчением вздыхая, остался стоять в коридоре.
Посреди кабинета стоял канцлер, возле него – начальник полиции Филиппи.
Оба казались серьёзными и печальными и канцлер, по-видимому, не заметил, что Герне протянул ему руку в виде приветствия.
Герне был смущён этим, но прежде чем он успел задать пришедшим вопрос, канцлер печальным тоном сказал:
– Мучительный долг привёл меня сюда и принуждает сообщить вашему превосходительству, моему бывшему коллеге неприятную новость.
– Бывшему коллеге? – пробормотал Герне, и его лицо покрылось смертельной бледностью, – вы должны сообщить мне неприятную новость?..
– По приказу его величества нашего всемилостивейшего повелителя, – продолжал канцлер, – я обязан сообщить вам о вашем увольнении от должности министра и вместе с тем арестовать и передать вас в руки начальника полиции. Вам будет отведено приличное помещение в главном полицейском управлении и вы будете иметь там пребывание, пока его величество не постановит относительно вас своего решения.
Герне принуждён был опереться о спинку рядом стоявшего кресла; весь он покачивался и дрожал, подобно дереву, поражённому молнией до самой сердцевины. Чудовищная боль пронизала все его нервы, он вдруг увидел себя ниспровергнутым с высоты своих смелых надежд в пропасть, из которой уже не было выхода, так как если король самым необъяснимым образом был осведомлён обо всём том, что он сделал, прежде чем он, со своей стороны, мог бросить на другую чашку весов блестящие результаты своих расчётов, то его осуждение было несомненно, а без неопровержимых доказательств всегда осторожно действовавший король Фридрих не решился бы на такой крайний шаг, как арест министра.
Герне был как бы мгновенно оглушён этим ужасным ударом и, будучи подавлен этим, не трогался с места; канцлер и начальник полиции между тем с состраданием смотрели на него. Но затем Герне снова выпрямился, поняв, что ему нужно собраться со всеми силами на предстоявшую борьбу, как бы безнадёжной ни казалась она в настоящий момент.
– В чём же обвиняют меня? – спокойным и твёрдым голосом спросил он. – Только тяжкая клевета могла побудить его величество так сурово поступить со своим долголетним верным слугою.
– Я надеюсь, – ответил канцлер, – вашему превосходительству удастся доказать, что взведённое на вас обвинение – злостная клевета, и блестяще опровергнуть показания итальянца Серры!
– Серры? – воскликнул Герне. – Позвольте, господин начальник полиции, я не понимаю, как это удалось арестованному взвести против меня обвинения, о которых мне ничего неизвестно.
– Для вас, ваше превосходительство, это не должно оставаться тайною, – ответил канцлер, быстро предупреждая резкий ответ со стороны начальника полиции, – так как его величеству угодно, чтобы вас ничем не затрудняли и не отнимали средств к защите. Вот это письмо попало в руки его величества... каким образом – безразлично и не подлежит расследованию. Это дало его величеству повод произвести через меня допрос Серры, и результатом этого допроса явилось переданное мне приказание его величества о вашем аресте.
С этими словами он передал Герне письмо, попавшее королю. Бывший министр долго не спускал с него взора.
– Моим обвинителем мог бы быть граф Потоцкий, – произнёс он затем, – но это – не его почерк; всё это – позорная интрига; тот, кто подделал письмо, может взвести и фальшивое обвинение! Я прошу у его величества милостивой аудиенции; ему одному я могу объяснить то, что может быть искажено и использовано в таком виде для фальшивого обвинения; я надеюсь, его величество не откажет слуге, в течение долгих лет удостоивавшемуся его доверия, в возможности лично оправдаться пред ним.
– Я не премину передать о вашем желании его величеству, но приказание, приведшее меня сегодня сюда, уже нельзя изменить, и я прошу вас, ваше превосходительство, последовать за господином начальником полиции. Я имею приказ опечатать ваши бумаги и в том состоянии, в котором я их сейчас найду, безотлагательно доставить их его величеству в Сан-Суси.
Герне с бешено-грозным взглядом двинулся было вперёд, словно намереваясь броситься к своему письменному столу и собственным телом защитить его; но в ближайший миг он уже молча поник головою.
– Я готов, – сказал министр. – Только пред королём всё кажущееся и мнимое может отделиться от действительности. Но у меня есть ещё одна просьба к вашему превосходительству.
– Говорите! – благосклонно произнёс государственный канцлер, – всё, что в моих силах, будет сделано, чтобы облегчить вашу участь.
– Я покидаю свою племянницу в печальном положении, – продолжал фон Герне, – и прошу позволить ей оставаться в этом доме, пока она отыщет новую квартиру; кроме того я желал бы проститься с нею.
– Я беру на себя заботу о вашей племяннице, – ответил канцлер, – и тотчас велю пригласить её сюда для прощания с вашим превосходительством.
Он подал знак президенту полиции, который немедленно вышел, чтобы послать за молодой девушкой.
Тем временем гости, сидевшие за столом, смутно догадываясь о каком-то необычайном происшествии, становились всё тише и молчаливее. Когда появился ещё другой лакей, который с расстроенным и перепуганным видом отозвал и племянницу министра, то присутствующие поспешно поднялись с своих мест, все до единого человека, и узнали от дрожавшей в страхе прислуги, что дом занят сильным караулом, что у подъезда возле кареты государственного канцлера стоит закрытый экипаж под эскортом драгун и, судя по всему, дело идёт не о чём ином, как о неожиданном аресте министра.
Общество в ужасе рассеялось. Действительно пред домом стояли стражники и зловещая тюремная карета. Никто не встречал задержки при выходе из дома, но, когда несколько посланных от торговых фирм, пришедшие по делам в правление торгового мореплавания, приблизились к воротам, сторожа не пустили их и потребовали, чтоб они удалились. Таким образом не могло быть сомнения, что здесь приняты крайне серьёзные меры, и гости, присутствовавшие на обеде, который начался так весело и оживлённо, поспешили прочь и, конечно, немедленно разнесли неслыханную весть по всему городу.
Мария беспечно вошла в кабинет дяди. Слуги не посмели сообщить ей ни о чём, а их встревоженных лиц она не заметила. Молодая девушка поздоровалась с государственным канцлером, как с знакомым из их круга, и обратилась к дяде.
Последний сказал ей с глубоким волнением:
– Не пугайся, дитя моё! большое несчастие поразило меня; по недоразумению, по ложному доносу я арестован и должен покинуть тебя одну. Его превосходительство господин государственный канцлер поможет тебе найти другую квартиру. Будь покойна, не падай духом!., всё должно вскоре устроиться благополучно.
Мария стояла пред ним, словно мраморное изваяние; в самом разгаре блаженных надежд на неё обрушился страшный удар, который только что едва не свалил с ног её дядю, а теперь поразил её – нежное, слабое дитя – ещё сильнее, чем крепкого мужчину. Она не могла собрать и привести в порядок свои мысли; ей показалось, что всё кругом неё внезапно рушится. Мария привыкла видеть в своём дяде повелевающее средоточие окружавшего мира; всё, что к нему приближалось, спешило почтительно склониться пред ним, так что молодая девушка смотрела на него всегда, как на недосягаемую высоту, и вдруг этот всемогущий человек, представлявшийся ей воплощением силы и господства, превратился в узника, в преступника!
Это было непостижимо для Марии. Её мысли спутались. Вопросительно смотрела она на государственного канцлера и президента полиции, точно ожидала от них разрешения страшной загадки. Фон Герне, казалось, обуревали волнующие помыслы. Он устремил на племянницу такой взгляд, точно хотел проникнуть им в её душу и силою своей воли рассеять то, что она думала. Потом, подойдя к молодой девушке, он заговорил быстро и торопливо, с резким ударением на каждом слове:
– Феликс Потоцкий – мой обвинитель... Нашему другу ты должна...
Не успел он произнести следующее слово, как государственный канцлер встал между ним и его племянницей, коснулся его руки и сказал:
– Я должен просить ваше превосходительство говорить лишь о том, что касается ваших домашних дел; только при этом условии могу я взять на себя смелость разрешить вам разговор на прощанье.
При словах дяди Мария издала крик, прозвучавший предсмертным воплем отчаяния: дядя назвал фамилию Потоцкого, как своего обвинителя, имени же последнего она не расслышала. Ведь для неё существовал только один Потоцкий на свете, только один, от которого она только что страстно ждала счастливой и желанной вести, и вдруг это имя было произнесено, как имя врага, толкнувшего её дядю на гибель!
О, значит, тогда всё, сказанное о нём тою женщиной, – правда; тогда он должен быть изменником, который явился сюда лишь с целью повергнуть в несчастие её дядю, тогда как она сама действительно послужила для него лишь орудием, чтобы погубить её покровителя, отечески любившего сироту!
Мария не постигала, как и почему всё это могло случиться; переплетающиеся между собою вопросы политики были ей совершенно непонятны, однако же она знала и часто слышала о том, что эта злополучная политика порождает ненависть и смертельную вражду, заставляющие людей безжалостно уничтожать друг друга; и жертвою такой смертельной вражды, такой политической ненависти, не знающей милосердия, должно было пасть её любящее и доверчивое сердце.
Все эти мысли мелькнули у неё в голове с мгновенной яркостью молнии, которая часто освещает вдруг на одну секунду до ничтожных мелочей всё кругом на далёкое расстояние и неизгладимо запечатлевает в испуганной душе картину, облитую ярким, блестящим сиянием этой фосфорической вспышки.
Молодая девушка опустилась на стул, прижала руку к сердцу и пугливо озиралась, точно боясь, что пред ней возникнет ещё какой-нибудь новый ужас.
Фон Герне подошёл к несчастной, положил руку на её голову и, заглядывая ей в глаза проницательным, настойчивым взором, произнёс:
– Значит, ты меня поняла, не так ли? На меня пожаловались, и я арестован; помни друзей, у которых ты найдёшь защиту и помощь.
Мария как будто почти не слышала его слов; её взоры по-прежнему боязливо блуждали, словно отыскивая что-то; губы девушки дрожали, а из её груди вырывалось точно тихое рыдание.
Взволнованный канцлер, подойдя к ней, успокаивающе произнёс:
– Я позабочусь о том, чтобы у вас не было ни в чём недостатка; живите в этом доме, сколько вам угодно, а при всякой надобности с полным доверием обращайтесь ко мне!.. Идите, господин фон Герне, идите! Думайте только о своей защите, для которой вам понадобится вся ваша сила! Предоставьте мне заботу о вашей племяннице! Поверьте, я сделаю всё необходимое для неё. Идите, идите! Лучше не длить горького прощания!
Фон Герне крепко сжал руками поникшую голову Марии и, наклонившись над нею, воскликнул:
– Прощай, дитя моё, прощай! Ведь ты поняла, не правда ли? Не забудь друзей!
Государственный канцлер взял под руку жестоко взволнованного министра и повёл его к дверям. Президент полиции заступил его место.
Когда двери отворились, в комнату кинулся Акст и расцеловал руки своего патрона.
Бледные и дрожащие теснились в коридоре лакеи. При виде их к фон Герне вернулись вся его сдержанность и всё самообладание. Гордо прошёл он, высоко подняв голову, через площадку на парадную лестницу. С достоинством и в то же время сердечно простился опальный вельможа мягким жестом руки со своими людьми, которые низко кланялись ему, и в то же самое время среди них там и сям слышалось тихое рыдание.
У подножия лестницы министр ещё раз обернулся назад и бросил последний взгляд во внутренность ярко освещённого, убранного с царскою роскошью дома, где он вкладывал всю свою силу и весь свой труд в достижение почти сверхчеловеческой цели, которая склонилась теперь разбитая в прах к его ногам. Его глаза также увлажнились слезами при этом прощальном взгляде, и он, поспешно отвернувшись, вышел из ярко освещённых сеней на крыльцо, окутанное ночною мглой, распространявшейся по улице. Тут фон Герне сел в проворно подкативший закрытый экипаж президента полиции. Тот присоединился к нему и, сопровождаемые небольшим отрядом драгун с обнажённым оружием, они покатили бойкой рысью в полицейское управление.
По уходе министра государственный канцлер с ласковой сердечностью старался ободрить Марию. Молодая девушка спокойно слушала, иногда кивая головой, точно соглашалась с его доводами, но по взорам её глаз, неподвижно устремлённым вдаль, было заметно, что она едва ли понимает слышанное, и не один раз её рука хваталась за сердце, точно под влиянием острой боли.
Наконец канцлер велел позвать её горничную, которая пришла вся в слезах и повела свою госпожу в её комнату.
Мария следовала за нею безучастно и машинально, тогда как государственный канцлер потребовал к себе ожидавших внизу своих секретарей, чтобы они опечатали при нем кабинет и канцелярию.
Когда Мария, опираясь на руку горничной, проходила через свою гостиную, направляясь в спальню, «Лорито» при виде её радостно захлопал крыльями и, рванувшись к ней, громко крикнул, словно уверенный, что так он скорее всего обратит на себя внимание:
– Игнатий!.. Игнатий!
Мария остановилась при этом возгласе, точно испугавшись, и вздрогнула всем телом; огневой румянец разлился по её лицу; в её глазах вспыхнула точно молния воспоминания и сознания, и сначала тихо, едва внятно, потом всё громче она стала повторять, в свою очередь, имя, произнесённое птицей, как будто отыскивая при помощи этих звуков что-то в тайниках своей души.
Наконец в ней точно проснулось полное воспоминание; её взоры приняли выражение ужаса, и ещё жарче разгорелся румянец на её щеках. Потом Мария внезапно побледнела, как смерть, пронзительный вопль вырвался из её уст и, прижав обе руки к сердцу, она рухнула на ковёр, причём красноватая пена окрасила её губы.
С громким плачем позвала горничная ещё нескольких служанок; потерявшую сознание молодую девушку отнесли в её спальню и уложили в постель.
Опрометью кинулись за домашним врачом. Тот объявил, что у больной необычайно сильная, опасная для жизни нервная горячка, при которой не остаётся ничего иного, как поддерживать организм лёгкими смягчающими средствами и выжидать, выдержат ли силы пациентки этот внезапно наступивший тяжёлый кризис.
Блестящий и гостеприимный дом фон Герне скоро опустел и стоял покинутым; слуги были отпущены, жуткая тишина господствовала в коридорах и залах, и никто из всех тех, которые с удовольствием пользовались радушием хозяина, не приближался к поражённому неожиданною бедою жилищу.
Все кредиторы министра – а их было немало – лезли сюда; на всё его наличное имущество было наложено запрещение, был открыт конкурс и всё опечатано и заперто; только государственный канцлер фон Фюрст, согласно своему обещанию, заезжал в пустынный дом справляться о состоянии здоровья Марии.
Он строго распорядился, чтобы комнаты больной оставались неприкосновенными и в стороне от всего, происходившего в прочих помещениях дома; однако получаемые им здесь вести были неутешительны; положение молодой девушки не изменялось; лихорадочный жар не спадал, а все целебные средства, употребляемые врачом, не приносили решительно никакой пользы.
Срок, назначенный для кризиса, миновал, не принеся ни малейшей перемены в состоянии больной, силы которой постепенно падали, так что доктор все сомнительнее покачивал головой.
Целыми часами лежала Мария, неподвижная и оцепеневшая, словно в летаргическом сне, и только жаркие вздохи её тревожно взволнованной груди показывали, что в этом нежном теле ещё теплится жизнь. Потом она внезапно поднималась с подушек с страдальческим воплем, её впалые глаза широко раскрывались и смотрели с призрачной неподвижностью, резко выделяясь на страшно исхудавшем, осунувшемся лице. Больная принималась жалобно звать любимого человека. Она разговаривала с ним, как будто слышала его ответы, она улыбалась с тем удивительно трогательным выражением, которое свойственно горячечным и помешанным, простирала руки, точно стараясь схватить и привлечь к себе представившееся ей видение; но вскоре опять больная жалобно вскрикивала в порыве жестокого горя, обвиняла Небо за то, что человек, которому она отдала всю свою душу, которого считала подобием божества, мог сделаться врагом, предателем, пока наконец, когда её силы истощались в болезненных содроганиях, несчастная снова не впадала в своё летаргическое состояние.
Попугай находился у постели больной. Птицу хотели удалить, но она принялась сопротивляться с пронзительным криком.
Мария тоже как будто почувствовала её присутствие, потому что тотчас очнулась от своего беспамятства, когда «Лорито» собирались унести, и потребовала, чтобы его оставили при ней; и даже в бессознательном состоянии подобие приветливой улыбки мелькало по её лицу, когда птица начинала издавать свои ласковые возгласы.
Так печально и однообразно проходили дни в обширном доме опального министра. Прохожие робко поглядывали вверх на завешанные окна министерской квартиры и только во флигеле, где помещались конторы компании торгового мореплавания, по-прежнему кипела оживлённая деятельность, вследствие чего мёртвая тишина, вдруг установившаяся в другом флигеле, производила на всех ещё более жуткое и тягостное впечатление.
Граф Игнатий Потоцкий получил письмо, которое написала ему Мария после роковой сцены с графиней Браницкой. Он был обрадован желанной вестью, но тем удивительным инстинктом, который устанавливает между двумя любящими сердцами почти магнетическое общение, влюблённый почуял в некоторых местах письма, как что-то чужое и холодное, подобно враждебно грозящей тени, становится между ним и образом Марии; он смутно угадывал, что она скрывает от него нечто такое, что сильно взволновало и потрясло её. Ему бросилось в глаза равнодушное, беглое упоминание о Ворринской; он не знал никакой дамы с такою фамилией, а между тем эта особа отрекомендовалась Марии в качестве его приятельницы. Здесь очевидно крылась какая-то тайна, и Потоцким овладела мучительная тревога, необъяснимое, но всё усиливавшееся чувство, которое постепенно подчиняло его себе, смутно внушая ему, что Мария как будто нуждается в его защите от какой-то неведомой опасности. Всё неотступнее осаждала графа эта мысль, как ни вооружался против неё его критический разум, и он часто вскакивал даже по ночам, внезапно пробуждаясь от сна, так как ему чудился голос его любимой Марии, жалобно и тоскливо звавший его по имени.
После переговоров с фон Герне он избегал поездок в Берлин, чтобы его присутствие там не было замечено и не возбудило преждевременных подозрений, способных повредить великим планам, которые обещали доставить его отечеству свободу и могущество, а ему самому – прекраснейшее счастье. Но теперь преждевременное похищение Понятовского надолго исключило всякую возможность сделать что-нибудь для осуществления тех планов. Благодаря опасности, которой он благополучно избег, Станислав Август стал пользоваться у народа большей популярностью, чем это можно было когда-либо ожидать; удаление князя Репнина и благоразумная сдержанность императрицы Екатерины усыпили ненависть поляков к России, а своего старшего брата граф Игнатий находил поразительно сдержанным в последнее время; всё это твёрдо убедило его в том, что до наступления благоприятных обстоятельств, которые, пожалуй, могли заставить ещё долго ждать себя, нельзя было ничем содействовать его планам на будущее. Но если осуществление их отодвигалось ещё на долгий и неопределённый срок, то почему должен был он ставить в зависимость от такого туманного будущего своё личное счастье, которого томительно жаждала его душа? Юность графа Игнатия осталась у него далеко позади; то, чего он хотел достичь, чем пылко мечтал насладиться, ему следовало схватить скорее, и каждый день отсрочки так поздно явившегося и так странно желанного счастья любви казался ему каким-то обворовыванием самого себя, которое он никогда не мог бы себе простить.








