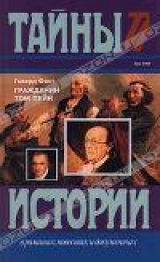
Текст книги "Гражданин Том Пейн"
Автор книги: Говард Фаст
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 20 страниц)
– Да, грязен и неряшлив, не спорю, – но при всем том храбрец, каких я не встречал, и обладает силой одержимого.
Видя, как, оставляя кровавые следы, плетутся по дороге босые ноги, он отказался принять сапоги, предложенные Грином; он не рисовался, нет, просто жил именно этой, неоспоримо своею собственной жизнью – тем, что зовется революцией; осваивал это ремесло вместе с разбитой, обращенной в бегство армией, учился жить этой единственной, ему предначертанной жизнью.
По вечерам, когда никто не мог больше сделать ни шагу и разводили костры, не кто иной, как Пейн, кашеварил для сотни голодных ртов, Пейн ободрял обессиленную страхом молодую душу, Пейн читал солдату письмо от жены и писал ответ. Сидел, обхватив сильными руками колени, и терпеливо, доходчиво объяснял, ради чего они терпят мученья и в чем суть имперской и мировой политики и той борьбы, которую человечество ведет со времен Рима и поныне, когда для маленького человека не только в Америке, но и на всей земле занимается новый день.
Офицеры его не трогали. Он теперь с ними почти не соприкасался, а они, в свою очередь, сознавали, что этот грязный, заросший щетиной корсетник-англичанин есть часть того немногого, что не дает окончательно распасться жалким остаткам дела, затеянного американцами.
Это был теперь уж не тот Вашингтон, с которым Пейна знакомили в Филадельфии, не длинноногий холеный виргинский аристократ, самый богатый человек в Америке и единовластный владетель Маунт-Вернона – этот был худ и изможден, лицо его осунулось, светло-серые глаза покраснели от усталости, блекло-желтая с голубым форма, сколько ни стирана, все же в несмываемых пятнах грязи и крови. Этот Вашингтон сказал Пейну:
– Если вы только что-то можете…
– Да что я могу, – Пейн задумчиво кивнул головой. – Написать что-нибудь, – но как скажешь человеку, который страдает и все время только отдает, что надо еще пострадать, отдать еще больше…
– Я вас не знаю, – сказал виргинец. – Но слишком много есть такого, о чем я раньше думал, что знаю, а оказалось – нет. Я, например, не знаю, как можно возлагать надежды на корсетника, однако делаю это. Я рад назвать вас своим другом, Пейн, я буду горд, если вы пожмете мне руку, и не как автор «Здравого смысла», а как мужчина – мужчине.
Они стиснули друг другу руки, Пейн – со слезами на глазах.
– Может, написали бы все-таки, – сказал Вашингтон, – и не для армии только – для всей страны. Мы так близки к гибели…
Пейн думал, что с радостью умер бы за этого человека – умер или же преклонил колена на той земле, по которой он ступает.
Ну что ж, писать – значит писать, коль скоро ты назвался писателем. Зажав в коленях барабан, слегка наклонно, чтобы поймать неверный свет костра, он скреб и скреб пером всю ночь напролет.
Вокруг сгрудились солдаты – люди, которые знали Пейна и любили его, изведали добрую силу его рук, брели вместе с ним плечом к плечу по трудным дорогам. Читали, что он пишет, порою – вслух, коряво и чуть в нос, как говорят в их родимой глухомани:
– «Настали времена испытаний для души человеческой. Воин летнего сезона, патриот безоблачного дня, способен в сей грозный час уклониться от служенья своей стране – но тот, кто выстоит ныне, снищет себе любовь и благодарность мужей и жен. Тиранию, подобно силам зла, одолеть нелегко…»
Они читали:
– «Ежели суждено быть беде, пусть грянет она на моем веку, дабы мое дитя могло вкушать мир…»
Напрягая воспаленные глаза, они читали негромко:
– «Я призываю не некоторых, но всех, не ту или иную страну, но все страны: подымайтесь, придите к нам на помощь, приналяжем сообща; лучше иметь избыток сил, чем нехватку, когда под угрозой столь великое дело. Да поведают грядущему миру, что глубокой зимой, когда лишь надежда и доблесть давали силу выжить, город, страна, пред лицом общей опасности вышли встретить и отразить ее…»
– «Слава Богу, что в сердце моем нет страха», – читали они, а те, кто напирал сзади, просили:
– Читай ты, Том.
– «Ни за какие сокровища в мире, думаю, я не выступил бы в поддержку войны наступательной, ибо такую войну полагаю убийством, но если в дом ко мне вломился грабитель, жжет и уничтожает мое имущество, убивает или грозится убить меня и моих домочадцев и полностью подчинить меня во всем своей неограниченной власти, могу ли я это допустить? Что мне за важность, кто это творит, король или простолюдин, мой соотечественник или чужестранец, злодей-одиночка или целая армия злодеев? Если мы глянем в корень, то не увидим разницы, как не найдем и справедливого обоснованья, отчего в одном случае надлежит карать, а в другом – миловать. Пусть называют меня бунтовщиком – пожалуйста, меня это нимало не трогает, но я бы изведал муки ада, когда б растлил свою душу, присягнув на верность тому, кто снискал известность как пьяница, тупой упрямец, злобное ничтожество…»
Резкие, грубые, жестокие слова были понятны им, и нестройным, сердитым гулом неслись их голоса:
– Читай!
IX. Долгая война
Армия перешла Делавэр и стояла на южном берегу, в относительной безопасности, когда Пейн решил съездить со старым Изрейлом Патнамом в Филадельфию и напечатать то, что написал. Детище самого страшного кризиса, какой им довелось испытать, сочинение это так им и было названо – «Кризис», и Вашингтон с Грином сошлись во мнении, что «Кризис» мог бы принести пользу. Патнам, стареющий и усталый, ехал с намереньем набрать добровольцев, успокоить город и поддержать порядок, но не возлагал особых надежд на успех своей миссии. Трясясь вдвоем с Пейном по дороге к городу на траченых молью клячах, он что-то бормотал себе под нос в том смысле, что это дело конченое.
– Да нет, если вы про наше, то не конченое, – сказал Пейн.
– Почти… – Патнам ворчал, что Пейн молод, а он, Патнам, – старик, и у него ревматизм, и Филадельфию он терпеть не может, что сам он янки и презирает население центральных графств.
– Люди как люди. Какая разница, простые люди везде одинаковы.
– Одинаковы, стало быть, грязные свиньи, мерзавцы?
Незадолго до того Пейн получил письмо от Робердо, виноватое, примирительное. Чтобы понять, нужно время, писал Робердо. В канун кампании гроза только еще собиралась, никто в нее не верил, и вот теперь она разразилась.
Пейн изъяснялся с опрометчивой прямотой, рубил сплеча, не щадя старика собеседника:
– Вы, офицерье, все скроены на один манер, вам бы только выиграть сраженье, а люди, которых вы ведете в бой, для вас значат не больше, чем оловянные солдатики.
– И даже еще меньше.
– Глупый вы человек, да неужели нам не осточертело быть ничем! Вы что, всерьез рассчитывали, что все это рассосется за неделю?
Патнам недобро покосился на него и прикусил язык; остаток пути они ехали в молчаньи. Заснеженная дорога была пустынна, холодна, безлюдна; и в Джерси, и в Пенсильвании окна домов были повсюду закрыты ставнями. Край встретил их угрюмой подозрительностью, и оба чувствовали это. С облегчением увидели они вдалеке церковные шпили Филадельфии.
Городом владел страх. Пейн видел, как горит дом, но никто не сбежался тушить пожар, и ветер беспрепятственно сдувал к востоку зловещие клубы дыма. Да, страх, а никак не братская любовь – в одном месте зияла разбитая витрина, в другом валялся на мостовой искореженный печатный станок, опрокинутая тележка с домашним скарбом. Пешеходы передвигались бегом – замедлят шаги, и вновь сорвутся на бег; странствующий проповедник-квакер выкрикивал, стоя на углу:
– Тот, кто возьмется за меч, от меча и погибнет!
И на каждом шагу – дезертиры, разносящие слухи о том, что было во время долгого горестного перехода от Нью-Йорка до Трентона; как получилось, что распалась и прекратила существованье армия, а Вашингтон, этот горе-вояка, охотник на лисиц, по самым точным сведениям, повесился, Чарлза Ли англичане взяли в плен, схватили в публичном доме; солдаты с голодухи жуют кожу от своих башмаков, Грин оказался предателем и застрелил Джорджа Вашингтона – хотя нет, Вашингтон попал в плен к Хау и теперь виргинец поведет армию тори против своего же народа.
Были слабодушные, которые печально тянулись прочь из города, навьючив на шаткие повозки все свое добро: враг уже здесь, вы что, не знаете?
И мужественные, с суровыми лицами, которые шли на работу, сжимая в руке мушкет: пускай только сунутся!
И растерянные, не понимающие, чтó это происходит, – ведь вчера только, кажется, была мирная жизнь.
Не тот город, каким покидал его Том Пейн. Жизнь идет себе и идет, а потом вдруг случается что-то, и уже нет больше ни покоя, ни мира. Наглеют воры, убийцы – эти первыми чуют, что наступил конец эпохи и ничему никогда не бывать по-старому.
Белл отказался печатать то, что Пейн ему принес.
– Нет уж, уважаемый, я покамест в своем уме! – Он был занят тем, что разбирал свои станки. – Как Конгресс снимется, так тут же и я за ним следом.
– Струсили, значит.
– А как же, парень. И не стыжусь сознаться.
Пейн это стерпел – переменился, отметил Белл про себя; нескладный, оборванный, с мушкетом на плече, он терпеливо объяснял:
– Ошибаетесь, Белл, англичане города не возьмут, и потом – возьмут, не возьмут, все равно есть такое, что необходимо сделать независимо ни от чего. Поймите, эту вещь напечатать необходимо, я назвал ее «Кризис». Мы первый раз в критическом положении и мы ищем выхода из него. – Вкрадчиво: – Мы бы с вами за одну ночь могли набрать.
– Нет!
– Имейте совесть, Белл, черт возьми, – вы же состояние нажили на «Здравом смысле». Штык к горлу приставлю, а напечатаете!
– Нет!
Мгновенье они смотрели друг другу в глаза, потом Пейн прошептал:
– Будь ты проклят! – повернулся и ушел.
«Кризис» Пейн продал в журнал «Пенсильвания джорнал» – редактору, который сказал ему с мрачной усмешкой, что Конгресс уже выехал в Балтимор.
– Храбрость – расплывчатое понятие, – улыбнулся редактор. – Ну а правительство надо, конечно, сохранить.
Пейн извинился, что просит заплатить ему. Он писал эту вещь не ради денег, как и «Здравый смысл», но когда у тебя пусто в желудке, несколько шиллингов становятся нужны как воздух.
– В Филадельфии хуже, чем в армии, – пояснил он. – Армия холодает и голодает, но там для тебя всегда найдется корка хлеба. А в городе без шиллинга долго не протянешь.
Редактор кивнул и спросил его, не может ли он тоже пригодиться в армии. В городе стало невмоготу.
– Не уезжайте, – серьезно сказал Пейн. – И без того таких смельчаков, чтобы отважились печатать то, что позарез необходимо, осталось раз-два и обчелся.
Работали сообща – набирали, печатали; после – заулыбались, вытягивая один за другим чернеющие типографской краской клейкие листки воззвания, написанного рукою Пейна на туго натянутой коже барабана.
– Огонь! – сказал редактор. – Много я повидал сочинений, но такого накала вещи – никогда.
– Надеюсь, – согласился Пейн. – Ох, как надеюсь, видит Бог!
С Робердо они встретились случайно, на улице; поздоровались, и Робердо спросил, где Пейн остановился.
– Нигде.
– Тогда пойдемте ко мне. – Странно было видеть, как спокоен генерал в этом объятом паникой городе. – Пошли.
– У вас и так хватает забот.
– Нет-нет, идемте.
Робердо постарел и похудел, в глазах затаились тени, которых Пейн раньше не замечал. Когда он спросил про ассоциаторов, Робердо покачал головой. Сказал, что это тогда была забава.
– Я, правда, ничего не знал. Никто не знал, я думаю. Так что, с Вашингтоном все кончено?
Теперь Пейн мог позволить себе улыбнуться.
– Вы его не знаете.
– Да, это верно. – Он сказал Пейну, что читал «Кризис». – И знаете, что почувствовал? Что я просто дрянцо, пробы негде ставить.
Пейн кивнул; он чувствовал примерно то же, когда писал «Кризис».
– Надо бы его, знаете, распечатать в виде памфлета.
– Сейчас на это ни у кого не хватит смелости. Белла просил, так удрал Белл из города вслед за Конгрессом. Если кто и останется из издателей, то займет нейтральную позицию и уж с нее не стронется ни в какую сторону. – Пейн потер себе пальцем шею и сокрушенно прибавил: – Я и сам, признаться, стал ловить себя на мыслях о веревке. В моем случае это не столь важно, терять мне нечего и горевать по мне тоже особо некому, – но как представишь себя с петлей на шее…
– Да, я знаю. – Робердо пожал плечами. – Давайте-ка все же поразмыслим, как бы распечатать.
– Давайте-ка выпьем, вот что.
За выпивкой у обоих развязались языки. Пейн сообщил Робердо, чтó о нем думал в бытность их под Эмбоем, на что Робердо с кривой усмешкой заметил, что Пейну, вероятно, не терпится принять ванну. Они обменялись рукопожатием, и Пейн подумал о том, как может перемениться изнеженный немолодой человек, остаться в вымершем городе и не слишком тревожиться, что его могут повесить. Они отправились искать печатный станок и действительно купили, маленький, и приволокли на тачке к дому Робердо. Пейн до смерти устал и засыпал на ходу – так смертельно устал, что задремал в ванне, которую Робердо с сыном налили горячей водой; спал беспокойным сном все время, пока генерал ходил добывать бумагу. Проснулся, и не мог вспомнить, где это он: перина, в которой тонет рука, стеганые одеяла, светлая комната с красивой мебелью.
Когда Робердо вернулся, Пейн сидел в гостиной и, прихлебывая черный кофе, беседовал со статной девушкой двадцати четырех лет, племянницей Робердо. Рассказывал про бегство из Нью-Йорка, и она, откинувшись назад, напряженно слушала, сжав руки и полузакрыв глаза, словно рисуя себе мысленно эту картину.
– Но мы начинаем сызнова, – сказал Пейн. – Ничто не кончилось.
– Да я уж вижу, – кивнула она. – Судя по тому, как вы о них рассказываете, это вообще не кончится – никогда. Но сколько времени уйдет – годы?
Пейн покачал головой.
– Как, неужели вам это неважно? – настаивала она.
– Мне – нет. Вы понимаете, в этом моя жизнь, другой мне не дано. Кончится здесь, начнется еще где-нибудь и, значит, я буду там.
– То есть, иначе говоря, где нет свободы – там моя отчизна?
Пейн кивнул.
– Мне вас жаль, – сказала она.
– Почему? Я вполне счастлив.
– Что? Счастливы? – У нее подступали к горлу слезы, она встала и, сославшись на какой-то предлог, вышла из комнаты.
Робердо отлучался не зря – сумел-таки разживиться разносортной бумагой и несколькими галлонами типографской краски. Нашел и печатника, тщедушного человечка по имени Маггин, у которого хватило смелости набирать то, что сам считает нужным – беда только, что на его стареньком станке можно было напечатать за день всего лишь несколько сот экземпляров. В ту ночь Пейн набрал текст, и трое суток затем они печатали, почти не ложась спать, перепачканные с головы до ног типографской краской – работали как безумные, торопясь выпустить памфлет до того, как город сдадут англичанам. Их отвага оказалась заразительной, и кое-кто из других печатников все же стронулся с нейтральной позиции. К концу недели «Кризис-I» расходился тысячами экземпляров, заново вливая жизнь в артерии Филадельфии; пачками уходил в армию, где его читали вслух, контрабандой проникал в Нью-Йорк, занятый англичанами, – клейкие листки, взывающие к сердцам людей голосом гнева, надежды и доблести.
В ночь на Рождество Вашингтон совершил невозможное. Армия разваливалась на глазах, точно постройка из влажного песка, и вместе с нею рушился прежний его план отходить все дальше на запад – за горы, если потребуется, – но не вступать в бои с англичанами. Многократно битый, он, после стольких поражений, постепенно пришел к мысли, что ему следует вести войну не столкновений, а пространств – войну, способную затянуться на много лет, но которую он, пока будет цела его армия, не проиграет.
Но армия уже не была цела. Если не одержать хоть маломальскую победу, не распалить дух в солдатах хоть каким-то свершеньем, армия грозила вообще прекратить существованье. И в ночь на Рождество он переправился обратно через Делавэр и совершил нападение на лагерь перепившихся до бесчувствия немецких наемников.
Он захватил больше тысячи пленных; то была первая победа, необходимая как воздух, – и пламя, грозившее вот-вот погаснуть, разгорелось вновь.
На время город был спасен; те, кто бежал из Филадельфии, возвращались назад, в том числе и члены Конгресса. И кой-кому из них в кофейне Пейн наговорил такого, что нелегко забывается. Он, правда, выпил немного. Потом неумело оправдывался перед Робердо:
– Да, выпил, ну и что? А как иначе на них прикажете любоваться?
Они чертили на скатерти план военных действий, все рассчитали до тонкостей; продумали досконально, как Вашингтону за месяц выиграть войну.
– А не пошли бы вы все к такой-то матери! – сказал им Пейн.
Его спросили, что это значит, и он отвечал, это значит, что кто-то оставался в городе, а кто-то – удирал.
– Без Конгресса революции не существует, – парировали они.
– Без Конгресса? – взревел Пейн. – Боже ты мой – и что же сделал, скажите, этот самый Конгресс? Такому городу дайте тысячу человек оборонять дома и возводить баррикады на улицах, и он вам будет держаться вечно – вечно, вам говорят, и всей Британской империи не хватит сил пробиться через него. Но Конгресс сбежал, и город потерял голову, так что не вы, было бы вам известно, а Вашингтон, – не вы, а несколько сотен голодных оборванцев спасли дело революции! А не вы!
Он говорил спьяну, но ему не забыли этих слов. И решили между собой, что можно отлично обойтись без Пейна, что от Пейна больше неприятностей, чем пользы. Припомнили, как он одевается – нищий бы постыдился ходить в таких обносках; припомнили его свалявшийся, старый парик и то, что он шатается по улицам с мушкетом.
Армии, скованные зимней стужей, бездействовали, и Пейн нашел себе комнату, где мог писать. Очередной кризис миновал, и дьявол подхлестывал, торопил его перо; ему больше не было надобности подыскивать слова – теперь они приходили к нему сами и за каждым словом стояло горестное воспоминанье. «Никогда люди не старились так быстро, – писал он. – Мы в рамки нескольких месяцев втиснули дело целого столетья…» Он выпрямлялся и думал об этих месяцах, и хоть писалось ему легко, но все же то, чего он добивался, не получалось; хотелось дать обоснованье, структуру, поступательное движенье революции; он добивался целого, а получалась только часть. Когда сквозь мрак расплывчатым виденьем проступала картина переделанного мира, ощущение своей неумелости, своего бессилия сводило его с ума. Тогда он пил, и праведные души могли с полным правом указывать на него перстом.
Трудно было найти в ту зиму такого священника в Филадельфии, чтоб не метал в Тома Пейна громы и молнии в своих проповедях. Один старался особенно:
– Обратите свои взоры на нераскаянного нечестивца! Какому делу может с пользою послужить пьяница и сквернослов? Это ль пророк свободы, сей глумливец, что рыщет, как нечистый дух, по нашим улицам, оплевывая все то, что свято для человечества?
Тем немногим, кто не отступился от него, Пейн говорил:
– Нет, это не война, не революция, если те, кто нас ненавидит, благополучно едят три раза в день, спят на перинах – и кому какое дело, что где-то там, в снегу, стоит армия?
Белл согласился напечатать второй «Кризис» с тем условием, что Пейн достанет бумагу. Пейн, у которого не было ни гроша в кармане, уставился на Белла, онемев от возмущенья.
– Ну-ну, давайте разберемся спокойно, – говорил Белл, разводя руками. – Бумага больше не поступает, а много ли заработаешь, выворачиваясь наизнанку, чтоб напечатать какую-то дребедень?
– А «Здравый смысл» – это тоже дребедень? Я с вас не требовал отчета, но все же разбогатели вы на нем или разорились? Сколько сот тысяч продали?
– Это вы повторяете чьи-то сказки.
– В самом деле?
– Сейчас тяжелые времена.
– Еще какие тяжелые, только вам-то откуда это знать? – Пейн усмехнулся. – Вы себе вон как славно мошну набили на моей книжке. Смотрите, Белл, когда сидишь между двух стульев, то и убиться недолго.
– Вы что, угрожаете мне?
– Нет-нет, это я так, к слову. Забудьте. Мне главное, был бы хороший станок, а кто шурует у станка, какая разница, хоть сам черт. Значит, если найду бумагу, напечатаете?
– Сделаем.
На том и порешили; Пейн отправился на поиски бумаги. Робердо отсутствовал в городе, Джефферсон – тоже, Франклин находился во Франции, а его зять принадлежал к числу тех, кто глубоко презирал Пейна. У Эйткена бумаги не набралось бы и на десяток экземпляров. Пейн, усталый, со вчерашнего дня без маковой росинки во рту, мотался по городу, пытаясь продать право на свой гонорар, в какой бы сумме он ни выразился, за несколько тысяч листов бумаги. Джона Камдена и Ленарда Фриза – торговцев, которые скупили приличное количество газетной бумаги с расчетом сбыть потом дороже – предупредили, что от автора «Кризиса» следует держаться подальше. К ним оказалось невозможно пробиться; Пейн бушевал, грозил, умолял, но тощий приказчик упорно твердил одно и то же:
– Сожалею, но бумаги в продаже нет.
Продавалась, впрочем, отличная писчая бумага, сто тысяч листов, но владелец требовал плату наличными, и притом – в английской валюте. Напрасно Пейн настаивал:
– Слушайте, вы не смотрите, что я так выгляжу! Люди забыли «Здравый смысл», и я теперь никчемный забулдыга, грязный оборванец, пьяница – мне все это известно, но подите спросите, был ли случай, чтоб я не вернул долг? Спросите! Кому в Филадельфии Том Пейн задолжал хотя бы грош? Разузнайте!
Он снова отыскал Эйткена.
– Сходите к еврею Саймону Гонзолесу, – сказал Эйткен.
Большой, черноволосый, с курчавой бородой по пояс, одетый в бархатный лапсердак и ермолку, Гонзолес с любопытством взглянул на иноверца, от которого уже издали несло спиртным. Поводя вислым носом, кивнул, услышав имя Пейна – да, пусть войдет. В большой полутемной комнате девушка, кругленькая и мягкая, как персик, смотрела на Пейна во все глаза, полуиспуганно, полуизумленно.
– Я мало понимаю в бумаге, – сказал Гонзолес. – Мехами – да, занимался, и что вы сделали с меховой торговлей, ваши революции, ваши беспорядки?
Пейн покачал головой и ничего не ответил, молча молил усталыми глазами.
– Для приверженцев Пятикнижья, – сказал Гонзолес, – мы, евреи, знаем удивительно мало о том, на чем запечатлено слово Божье. Допустим, что я имею желание вам помочь, так куда мне идти?
– Можно купить – на английское золото, – умоляюще сказал Пейн. – За двести гиней – сто тысяч листов, с водяными знаками, то есть высшего качества бумага – не та, что идет на газеты или книги, а писчая, понимаете, для иных целей, но поверьте, то, что я написал, необходимо обнародовать. А больше ничего не продается.
– Знаю я, что вы пишете, – сказал еврей не без укора; Пейн впился в него глазами, когда он, подойдя к окованному железом ящику, стал отсчитывать деньги.
– Я выгляжу нищим, – сказал Пейн. – От меня разит, как из бочки, – но я плачу долги.
– Это не долг.
– Клянусь…
– Не надо никаких клятв!
На несколько мгновений Пейн застыл, чуть дрожа от напряжения; потом принял деньги и пошел, еле сдерживаясь, чтобы не припуститься бегом, сжимая золото обеими руками; по дороге нанял тачку, чтобы отвезти бумагу к Беллу.
Всю ночь он проработал, помогая Беллу, и весь следующий день – с руками, непросыхающими от краски, вдыхая воздух, насыщенный милым сердцу острым запахом.
Вернулся Робердо; столкнулся с ним на углу, поглядел дикими глазами, точно на привиденье, схватил за руку и резко окликнул:
– Пейн?
– Что?
Робердо увидел, что он не пьян.
– Пойдемте-ка зайдем ко мне, – сказал он.
– Хорошо…
Он повел Пейна к себе домой, то и дело умеряя шаг, чтобы фигура, ковыляющая рядом, не отставала. Племянница Робердо оказалась дома, и Пейн угловато переступил порог, стянул шляпу.
– Ирен, господин Пейн остается к обеду, – объявил Робердо.
Пейн молча кивнул, улыбнулся – молчал за обедом, не в силах вставить в разговор хотя бы слово, ел медленно, сдерживая себя, – ел, и не мог остановиться, изредка виновато улыбаясь. Робердо спросил напрямик:
– Том, когда вы ели последний раз?
– Два дня назад, по-моему, – или три.
Девушка отвернулась; Робердо, глядя к себе в тарелку, сказал жестко:
– Мир переделывать – на это вы горазды, жить по-человечески – нет. Черт возьми, Пейн, с ума вы сошли, что ли?
В ответ – ни слова, Пейн только передернул плечами.
– Чем вы намерены теперь заняться?
– Не знаю. Пока готовлю новый «Кризис» – он сейчас нужен.
– «Кризис» готовите… Пейн, неужели вам не ясно, что жизнь продолжается даже в военное время, что никому нет пользы – ни вам, ни Вашингтону, ни нашему делу, – оттого что вы бродите по Филадельфии, как уличный нищий, пропойца…
– Замолчите!
– Нет, я скажу, – потому что вы большего стоите, чем грязный, пропащий забулдыга. Я слушал вас под Эмбоем – теперь извольте выслушать меня.
– Я ухожу, – сказал Пейн, вставая.
– Черта с два вы уходите. Ирен, выйди отсюда!
Девушка вышла, но задержалась на минутку в дверях и бросила на Пейна взгляд, полный такого теплого участия, такой доброты – а рука Робердо так тяжело легла ему на плечо, что Пейн опять опустился на стул. Робердо сел напротив, взял понюшку табаку, протянул табакерку Пейну, потом налил в стаканы коньяку. Выпили; посидели молча минут пять.
– Валяйте, выкладывайте, – кивнул Пейн, и Робердо в эту минуту подумалось о том, как этот человек сумел впитать в себя весь дух и своеобычие Америки, вплоть до манеры говорить. В обросшем щетиной горбоносом лице, в простоволосой голове без парика было нечто неистовое и великолепное, некая изнуряющая свирепость – само, изваянное природой, олицетворенье революции, в котором мятежная жестокость неразделимо вплелась в глубокие бороздки боли и состраданья.
– Допустим, это восстание – ваша заслуга, – заговорил Робердо, тщательно подбирая слова. – Допустим, что без «Здравого смысла» не появились бы Соединенные Штаты Америки. И что без первого «Кризиса» мы бы не продержались этот январь. Но дальше что? Начало это или конец? Вы сколько раз говорили – мы еще сами не знаем, какие пробудили силы, во что все это может вылиться. Вас же, ежели будете продолжать в том же духе, и на полгода не хватит.
– Ну уж. Будем надеяться, я покрепче.
– Так ли? Я сомневаюсь. Есть люди, которые вас любят, Пейн, но знаете, сколько вас ненавидят?
– Хватает, надо полагать.
– Так вот. Вам надо драться, а вы не в том состоянии, чтоб драться. Вам надо как-то жить, а у вас гроша нет за душой. Теперь послушайте: Комитет секретной корреспонденции будет преобразован и войдет в состав постоянного Министерства иностранных дел. Место официального секретаря свободно, и я договорюсь, чтобы Адамс предложил вашу кандидатуру.
– Конгрессу? – Пейн усмехнулся.
– Конгрессу.
– Пошли они, – буркнул Пейн. – Я революционер, чего я буду соваться в такое грязное дело, как политика.
Но Робердо сказал спокойно:
– Побудьте здесь с Ирен. Я иду говорить с Адамсом.
Он долго не возвращался. Пейн сидел в глубоком кресле с подголовником, слушал, как девушка играет на клавикордах. Незаметно для себя задремал и, когда открыл глаза, увидел, что она перестала играть и смотрит на него.
– Устали?
Он отвечал, что нет, не устал, и спросил, что она играла.
– Баха.
– Еще сыграйте, пожалуйста, – попросил он. Маленький инструмент тенькал, словно арфа; Пейн следил, как напрягается спина девушки, как поворачивается голова, играют мускулы в такт движенью пальцев.
Статная, видная, она, быть может, не во всем отвечала строгим канонам красоты; рыжеватый отлив в волосах свидетельствовал о примеси нормандской крови, но каждое движенье, каждый жест выдавали в ней истинную француженку. Играя, она оглянулась на Пейна, и что-то в его глазах поразило ее. Пейну вдруг показалось почему-то, что она сейчас уйдет. Он попросил ее остаться.
– Да, конечно. – Она пересела ближе к нему. – Расскажите мне о себе.
Он начал рассказывать, негромко, полузакрыв глаза. Скоро должен был вернуться Робердо, и вполне могло статься – с удачей. В политике требуется быть дипломатом, а Пейн очень устал.
– Вы, кажется, самый странный человек, какого я только встречала, – сказала она. – Я думаю…
– Что?
Она подошла и поцеловала его, и Пейн отвечал ей странной улыбкой.
– Это напрасно, я понимаю, – согласилась она. – Ведь вы – обреченная душа, верно?
Пейн ничего не сказал, и потом они просто сидели вдвоем и ждали Робердо.
Должность Пейн, к своему удивлению, получил, несмотря на ожесточенное сопротивленье кучки несогласных во главе с пастором-шотландцем Уидерспуном, в прошлом – сторонником красавчика принца Чарли. Уидерспун ненавидел Пейна не только за его бесстрашное перо, но и за то еще, что Пейн был квакер и англичанин. Несогласные обвиняли его во всех смертных грехах, от убиенья малолетних и шпионажа в пользу англичан до вероотступничества и тайной принадлежности к нечистой силе. Но Адамс с Джефферсоном и другие стояли за него, а время было такое, что у обеих партий имелись причины пойти на соглашенье. Том Пейн сделался секретарем комитета в Министерстве иностранных дел с жалованьем семьдесят долларов в месяц.
Респектабельность; это было непривычное ощущенье. Семьдесят долларов в месяц – не Бог весть сколько; сказать по правде, семьдесят долларов в недавно выпущенной континентальной валюте грозили обратиться очень скоро вообще в ничто, но Пейну с его скромными потребностями этого более чем хватало – хватало, чтобы расплатиться со своими немногими долгами, купить приличное платье, снять, пускай тесноватую, но чистенькую комнату; хватало на перья и бумагу и оставалось вполне достаточно на еду.
И плюс, конечно, респектабельность; революционер Пейн был никто; писатель Пейн, книгу которого читал и перечитывал почти всякий в тринадцати колониях, кто знал грамоту, а кто не знал, тому ее пересказывали, эту книгу, из-за которой английское правительство проклинало тот день, когда простолюдину доступно сделалось печатное слово – этот Пейн был писака, и только; Пейн-памфлетист, который как никто в Америке способствовал тому, чтобы армия в самый трудный для нее час уцелела, – был подстрекатель черни, и не больше, но Пейн-секретарь комитета в Министерстве иностранных дел был в некотором роде лицо влиятельное, вхожее, как-никак, в круг сильных мира сего; способное оказать услугу, замолвить нужное словечко в нужную минуту. Так, во всяком случае, принято было думать, и никогда еще при встрече с ним столько людей не торопилось снять шляпу, сказать слова приветствия, поклониться.
И зажил Пейн в замкнутом мире, в башне из слоновой кости, защищающей даже самых уязвимых. Вскоре он убедился, что там, где начинается этот своеобразный мирок – высшие сферы колониальной политики, – кончается реальная действительность. То обстоятельство, что малочисленная, истощенная донельзя армия под водительством спокойного и упрямого человека по имени Вашингтон в отчаянном напряжении последних сил ведет войну, значило для Континентального конгресса Тринадцати Соединенных Колоний так мало, что им всякий раз стоило труда напомнить себе, каково истинное положение дел.








