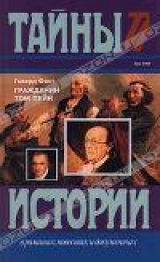
Текст книги "Гражданин Том Пейн"
Автор книги: Говард Фаст
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 20 страниц)
IV. Девятнадцатое апреля, год семьдесят пятый
Надолго запомнится ему этот день; ничем не примечательный для одних, приметный для других, хоть и немногих, для него день этот был и остался навсегда началом, гранью меж тем, что было, и тем, что будет, как в его жизни, так и в жизни человечества, временем, когда Том Пейн обнаружил, что сработан из особого и опасного материала, и уже больше не проливал о себе слез..
Он много сменил профессий и вот теперь стал редактором, имеет постоянное место, и деньги завелись в кармане; он чисто выбрит, прилично одет, обут в крепкие башмаки, носит чулки без дыр – короче, он человек с положением, уважаемый в обществе человек; одним он нравится, другим нет, но определенно и бесспорно – человек с положением. Шутка ли, шагать по Франт-стрит и слышать: «Доброе утро, господин Пейн», или: «Что новенького в Европе, господин Пейн?», или: «Читал ваш последний номер – хлестко, господин Пейн! Свежо!» – и он качал головой, с усилием напоминая себе о том, кто он таков, и не было случая, чтобы, проходя мимо нищего, забулдыги-пьяницы или бездомного бродяги, он не подумал про себя: вот она, участь Томаса Пейна, когда б не милость Господня.
И при всем том, несмотря на новое положение в обществе, на то, что его ценил Эйткен, что из-под пера его один за другим выходили номера «Пенсильвания мэгэзин», он не мог избавиться от страха перед жизнью. Жизнь свирепа, как хищный зверь; вот кончится эта передышка, и зверь снова примется терзать его. Глуп тот, кто пробует сопротивляться, надеется отразить нападение, ибо в конечном счете с назначенной тебе дорожки не свернуть, и нет на свете ни справедливости, ни сострадания.
Так обстояли дела, покуда девятнадцатого апреля тысяча семьдесят пятого года не произошло одно событие. И тогда для Пейна обозначилось начало: в стене, которую он тщетно пытался прошибить лбом, наметилась брешь и сквозь нее заглянуло солнце.
Дьявол поднялся на дыбы, в ярости ощеря зубы, и в мощном двадцатигласном хоре слились звуки ангельских труб. А в остальном на белом свете царила благодать, местами светило солнышко, местами накрапывал дождь, а звуки перестрелки если и доносились лишь до тех, кто находился поблизости. Эхо залпов не разносилось по всей земле, и на американском побережье, где собралось на поселенье из разных стран три миллиона народу, жизнь по-прежнему текла день за днем, неторопливо и безмятежно.
Но только не в Лексингтоне. В эту чистенькую деревеньку Новой Англии с гиканьем и криками ворвался восемнадцатого вечером задыхающийся от возбужденья всадник, перебудив своими отчаянными воплями всех, кто уже успел заснуть. Из беленьких, обшитых тесом домиков, из трактира, из пасторского дома и даже с двух-трех ферм, расположенных за деревней, высыпали наружу добрые массачусетские жители в длинных белых ночных рубахах и белых колпаках с кисточками, сжимая в руках неуклюжие кремневые ружья; следом за ними, галдя, бежали жены, из верхних окон высовывались головы ребятишек.
– Что стряслось? – люди спрашивали у всадника, которого звали Поль Ревир.
– Лихо стряслось! – кричал он. – Беда!
Из дома его преподобия Ионы Кларка вышли два джентльмена, для коих это известие таило смертельную угрозу. С особым чувством потерли они себе шею и, зябко ежась, плотней запахнули на себе шлафроки. Их звали Адамс и Ханкок; первый занимался политикой, второй – контрабандой, но оба в равной мере разделяли стойкое возмущенье тем, что в маленькой прибрежной колонии хозяйничают иноземцы. Подогреваемые этим возмущеньем, они устраивали собрания и съезды, призывали к мятежу и не упускали случая лишний раз напомнить соотечественникам о тех несправедливостях, которым их подвергают, благо материал был для этой цели подходящий – упрямые, своенравные фермеры, покинувшие плодородный, с мягким климатом край ради здешних каменистых берегов потому лишь, что имели собственные понятия о религии и о личной свободе. И вот, пускай исподволь, осторожно, король Англии, премьер-министр и правительство Англии принялись урезать их свободы, ограничивать права, отнимать привилегии, вводя там – новый налог, тут – лишнюю повинность; не то чтоб серьезно отравляя жизнь или беря мертвой хваткой за горло, но все же давая повод задуматься, в особенности если ты принадлежал к этой упрямой, своенравной породе.
Разгоряченный всадник спешился перед пастором Кларком, который начал выспрашивать у него одну за другой подробности, меж тем как полуодетые фермеры, досадуя, что так бесцеремонно нарушен их сон, теснее сгрудились вокруг.
– Идут англичане, – твердил им Поль Ревир.
– Откуда идут? Пешие?
Он кивнул и сказал, что из Бостона. Если так, то еще было время. Пастор Кларк уверял прихожан, что они успеют все обдумать и не подобает добрым христианам действовать сгоряча, поэтому самое лучшее разойтись по домам и хорошенько выспаться.
– Бывают вещи и поважнее сна, – фыркнул кто-то.
– А сейчас – сон важнее, – спокойно сказал священник. – Господь и ночью на небе, не только днем. Но людям ночь дана для отдохновенья.
– А что, пастор, – подал голос длинный крючконосый земледелец, – вы это и красным мундирам будете проповедовать?
– Охотно, ежели только умудрюсь загнать их в церковь, – произнес Кларк, и эта реплика вызвала общий смех, заметно разрядив обстановку. Кто-то вытащил массивные часы-луковицу, взглянул на циферблат и объявил торжественно:
– Два часа ночи, люди.
– Батюшки! – охнула одна из женщин и закричала на детей, чтобы сию минуту слезали с окошка и ложились спать, не то она им задаст. В сторонке хихикали девочки-подростки, стараясь привлечь внимание трех юнцов в ночных рубашках, согнувшихся под тяжестью громоздких кремневых ружей. Эбнер Грин цыкнул на сестренку, чтобы катилась домой, после чего его самого за ухо уволокла прочь мамаша.
– Ну, дела, – приговаривала она. – Мужчины ведут себя, как малые дети, а дети корчат из себя мужчин.
Ночь стояла прохладная, слова пастора тоже расхолаживали, и под влиянием того и другого народ стал расходиться, одни – назад в постель, но большая часть – в кабачок «Бакмен-таверн», где уже гудел в очаге жаркий огонь. Фермеры прислонили ружья к кухонной стене, послали жен и детей домой за штанами, не желая хоть на минуту покинуть взволнованное, теплое дружеское сборище; готовили кувшин за кувшином горячий флип – смесь пива, рома и черной патоки – и пили его с дурманящим предчувствием, что не успеет забрезжить рассвет, как судьба уже постучится к ним в окно.
А в доме пастора Ханкок и Адамс по-прежнему нет-нет да и трогали себе пальцами шею, сами озадаченные тем, что заварили эту чертову кашу. Пастор кивал головой и глубокомысленно соглашался, что англичане, безусловно, повесят их, если поймают.
– Очень уж неохота бежать, – проворчал Ханкок.
– Это только начало, – серьезно сказал Кларк. – Вы отдаете себе отчет в том, что затеяли? Люди будут драться и умирать – и бежать предстоит еще не раз.
– Не осуждайте меня, – сказал Ханкок. – Я делал правое дело.
– Все мы делаем правое дело, – пастор склонил голову, – и я никого не осуждаю. Я завтра сам возьму в одну руку Библию, в другую ружье – и да простит меня Бог. Никогда я не убивал человека и никогда не думал, что придется, однако бывают времена, когда Бог отступает на задний план и лучше не оглядываться. Я прикажу, чтобы вам подавали лошадей, господа.
Удивительно, как быстро воспоминания о старом мире, об Англии, Тетфорде, Лондоне, Дувре покинули Пейна, когда, с сурового благословенья Эйткена, он взялся издавать «Пенсильвания мэгэзин».
Впервые у него появилась работа, которую он любил, которая не унижала его, а одаряла его существование надеждой, напряженьем ума и скромным чувством собственного достоинства. В мансарде, которую шотландец отвел ему под рабочий кабинет, он на первых порах просиживал от зари и до полуночи. Ему еще не доводилось быть редактором, так что теперь надо было учиться печатному делу, правописанию, пунктуации; он до боли в глазах читал журналы, выходящие в колониях, пытаясь уловить их стиль и вкус, а главное – нащупать пульс политической и экономической жизни.
Свои английские привычки он стряхнул с себя, как утка стряхивает с перьев воду. У него больше не было времени путешествовать, но в трактирах, в кофейнях он не пропускал мимо никого, кто бы ни вернулся из дальних краев или жил там и оказался в Филадельфии проездом, будь то житель Нью-Йорка или Вермонта, виргинец или приезжий с дальнего Юга, из Каролины, Джорджии; он слушал протяжный говор обитателей лесной глухомани, рассказы лодочников из Огайо, мелодичную речь новоорлеанских креолов, толковал с объездчиками, которые, перевалив через горы, прокладывали себе путь сквозь дикую тростниковую чащобу Кентукки; вглядывался в дубленые лица мэнских рыбаков.
Филадельфия была самое место для этого: стоило постоять на Брод-стрит, и вся Америка проходила мимо тебя. Пейн расспрашивал каждого и первый раз в жизни заметил, что многие, и очень разные по образу жизни и занятиям, люди относятся к нему с уважением.
Из всего этого, из наблюдений в городе, общения с Эйткеном, того, что он вычитывал из книг, у него начала складываться картина Америки – картина, дополненная сведениями о колониях, растянувшихся цепочкой вдоль побережья. То был край не единого народа, не единых убеждений и традиций – страна такая огромная, что можно запрятать целую Англию в дальний угол и не вспомнить о ней потом; такая юная страна, что половина людей, с которыми приходилось встречаться, были иностранцы либо дети иностранцев; страна, столь непоколебимо уверенная в своем будущем, что спокойно, словно бы даже с ленцой подымалась она против самой могущественной в мире державы.
Эта ее уверенность в своем будущем более всего поражала Пейна: перед ним была новая порода людей, объединенная не родством, не кровью, не сословием, но обетом простым и чистым – а обетом этим, ежели подвести итог, добраться до самой сути, взвесить все за и против, откинув мысленно прочь великолепное обрамленье, все эти горы, долины, реки, – обетом была свобода, ни больше и ни меньше.
Он не был слеп; слишком долго он просидел в мышеловке, чтобы поддаться ослеплению и за хорошим не видеть плохого. Плохое само бросалось в глаза: прямо напротив его печатной мастерской помещался главный невольничий рынок Филадельфии, открытые публичные торги. Сюда партиями свозили человеческий товар из Пенсильвании, из Мэриленда, из Джерси; черных продавали в рабство душой и телом – навечно; белыми торговали с аукциона за долги, за провинности, за нарушение обязательств. С утра до самого вечера слышался голос аукциониста, расхваливающего товар:
– Господа, вот самец, а вот кому самец, кому черный самец чистых кровей, гладкий, крепкий как сталь, спелый как яблоко, полный жизненных соков как лихой жеребец – подходите ближе, господа, щупайте, убедитесь, каковы его мужские стати, он смирный, объезжен, обучен кнутом…
О, это был, без сомненья, город братской любви – но кто, приезжая сюда, не заглянул хоть на час на невольничий рынок?
Открытый навес, где происходили торги, был обращен к модной «Лондонской кофейне», где молодые щеголи, разряженные в кружева, ленты, шелка и атлас ничуть не хуже знатных модников и франтов старой Англии, попивали винцо и наслаждались славным зрелищем.
И не только невольничий рынок – были колодки, и позорные столбы, и виселицы, и неимоверно загаженные тюрьмы, куда бросали умирать или гнить заживо в гибельной скученности должников и убийц, мужчин, женщин и детей вперемешку.
Да, было в Филадельфии плохое, не одно хорошее, но не было мышеловки. Если ты не тупица, не тряпка – ты пробьешься. Взять хотя бы того же Франклина!
Но Эйткен все повторял Пейну, когда тот, отрываясь от работы, смотрел, что происходит под навесом на той стороне улицы:
– Спокойно, Томас, это не ваше дело.
И Пейн стал изредка спрашивать себя: а что же тогда его дело?
– Рабства в журнале не касаться, – наставлял его шотландец. – Рабовладелец ли, нет, – лишь бы платил свой шиллинг. Вы здесь не для того, чтоб сеять разлад и смуту и подбивать народ на бунт. Никто не собирается петь хвалу толстяку, сидящему на королевском троне в Лондоне, но его путь – это путь мира и процветания, и мне не по нраву те, кто любит кричать на каждом углу о свободе.
Эйткен никогда не знал наверное, что кроется за горбоносым, грубо вытесанным лицом Пейна, в его неровно посаженных глазах, Устремленных, казалось, вглубь, а не наружу. Журнал, который начали выпускать на авось, быстро завоевывал популярность: первый номер вышел тиражом в шестьсот экземпляров, второй – уже в полторы тысячи, по шиллингу за штуку, и перед мысленным взором Эйткена замаячило кругленькое состояние.
– Я ваш должник, – ворчал в ответ ему Пейн. – Но журнал – дело моих рук, не забывайте.
– А вы – моих рук дело, тоже помните, – отзывался Эйткен. – Кто вы были, когда я вас подобрал? Грязный бродяга. Другим показывайте вашу неблагодарность, только не мне.
За несколько месяцев до того, как Том Пейн прибыл в Америку, сюда, в эту самую Филадельфию, с разных сторон скакали по дорогам всадники. Они съезжались из многих областей, лентой окаймляющих побережье; одни средь них были богаче, другие – бедней, одни – блестящего ума, другие – среднего, одни уже успели прославиться, других не скоро еще ждала слава. Были двоюродные братья из Массачусетса Сэм и Джон Адамсы и Кушинг из того же штата – неистовый, особенный народ были эти янки – был Рандолф из Виргинии и оттуда же – Патрик Генри, а также – рослый, спокойный плантатор с берегов Потомака, по фамилии Вашингтон; еще был Миддлтон с дальнего Юга, были и другие, всех не перечесть – светские франты, купцы, земледельцы, охотники и философы.
Попав в Филадельфию, они разбрелись по улицам – потому главным образом, что многие до сих пор в глаза не видывали большого города; сверх меры ели и пили и говорили тоже сверх всякой меры. Называло себя это собрание «Континентальный конгресс». У его участников накопилось изрядное количество причин для недовольства тем способом правления, какой осуществляла Англия: налоги, которые вводились без их ведома и согласия, ограничения в торговле и производстве, тяжкие пошлины, монополия англичан на ввоз товаров, присутствие красных мундиров, расквартированных по домам местных жителей, подстрекательство индейцев в пограничных районах к убийствам и грабежу – счет солидный, однако что предпринять, они не знали и не слишком о том задумывались.
И еще: среди них самих во многом тоже не было согласия. Янки не одобряли рабство и не скрывали этого, жители побережья и дальнего Юга не одобряли янки и тоже этого не скрывали. Сэм Адамс, смутьян из Бостона, которого многие считали малость тронутым, рискнул заикнуться о полной независимости – его зашикали и осудили как глупца и опасного фанатика. Его речь, однако, пленила воображение костлявого очкастого виргинца по имени Патрик Генри, который взревел:
– Клянусь, я не виргинец, я – американец, черт возьми!
И вот, когда Конгресс еще не кончил заседать, поднялся Массачусетс и объявил себя независимым от британского правления. С этой вестью из Бостона прискакал в Филадельфию Поль Ревир, и Конгресс отозвался на нее Декларацией прав. Тогда только участников Конгресса поразила леденящая душу мысль о том, чем чревато содеянное ими.
– Неужели это значит – война?.. – притихшие, спрашивали они друг друга.
Но нет, конечно же, не значит, такого просто быть не может; они горячо опровергали всякого, кто пытался хотя бы намекнуть на опасность, они поизносили бессчетные речи, черпая в потоке собственных слов уверенность, что все уладится наилучшим образом. Поглощали сотнями галлонов исконно американское злое зелье, именуемое флипом, а 27 октября 1774 года, объявив Конгресс закрытым, оседлали коней и пустились в дальний путь по домам.
Несколько месяцев спустя Том Пейн, корсетник из Лондона, Дувра и Тетфорда, пожирал глазами протокол с записями всего, что они наговорили, и не счел, что члены Конгресса были излишне многословны.
– Накапливаются слова, – говорил он, – а после люди надают действовать. Начинается – со слов.
Он разглагольствовал об этом в кофейне «Риджуэй» перед Клэром Бентоном, евреем-меховщиком Джудой Перецом, кузнецом Антони Бентом и капитаном филадельфийской милиции Айзеком Ли.
– Здесь совершается нечто новое, – говорил Пейн. – Оттого никто и не знает, что делать.
– Когда придет время драться – будем знать, – возражал ему капитан Ли, упрямо возвращаясь к одной и той же теме.
– Нет, что делать, нужно знать с самого начала. Бессмысленно лезть в драку, если не знаешь, за что дерешься. Из этого проку не будет, даже если ты победишь.
– А я так полагаю, – вставил Перец, – что, если знать, за что дерешься, тогда не так уж и важно, победишь ты или потерпишь поражение.
– О поражении речи быть не может, – с горячностью возражал Пейн. – Ничего подобного мир еще не видел, это ново и это требует объяснения. Что-то такое в этом есть, только оно пока не наше – и вот представьте, мы терпим поражение, и это нечто уплывает у нас из рук.
– А может, так будет к лучшему, – усмехнулся Бент.
– Ой ли? Не вам судить, вы американцы! А я – оттуда!
– Ну и что? – спросил Бентон. – С королем, что ли, за ручку здоровался?
– Даже в рожу ему не плюнул, не пришлось, – отвечал Пейн хмуро.
– Пока что такие разговоры называют преступлением.
– Серьезно? Многое можно назвать преступлением.
– Легче, легче, – сказал кузнец.
– Да легче некуда, – сказал Пейн. – Поверьте, я не способен кого-то ненавидеть только за место, которое он занимает, пусть это даже будет толстомясый немецкий выродок вроде Георга Третьего. Но я видел, как человека распинают на кресте, распинают на протяжении столетий, приколачивают ложью и гнетом, порохом, мечом. Теперь мне дают в руки топор, дают возможность разнести этот крест в щепки. Я эту возможность не упущу.
Голос Пейна окреп, его речь разносилась по всей кофейне, и под конец по крайней мере половина посетителей стянулась к его столу.
– Вы не о независимости ли толкуете? – спросил один. – Независимость – это всего лишь слово. Похоже, вы обожаете слова.
– И не боюсь их! – гремел Пейн. – Я приезжаю в страну благородных людей и вижу, что они страшатся того единственного слова, которое закрепит их свободу! Если и существует обетованный край – он здесь, и нет другого на земле!
На бумаге он выражал свои мысли спокойнее. Всю жизнь он хотел писать, и вот теперь в его распоряжении был целый журнал. Чем больше ему удавалось написать на пресловутый фунт в неделю, тем довольнее был Эйткен, и Пейну казалось вполне обоснованным желание издателя держаться золотой середины. Писал Пейн с погрешностями но зато из-под его пера буквально ливнем текли на бумагу очерки, неважные стихи, научные статьи и даже изредка письма к знаменитому Бенджамину Франклину. На его счастье, литературный вкус пенсильванских жителей не отличался взыскательностью, и Пейна принимали благосклонно, вместе с его журналом и десятком псевдонимов, которыми он пользовался, подписывая свои сочинения – читателей отчасти даже покорял стремительный напор его энергии. Том Пейн как бы соединял в себе богослова, историка, естествоиспытателя и вкладывал к тому же в журнальный материал обширные познания корсетника, сапожника, ткача и акцизного. Сочетание оказалось удачным, и число подписчиков неуклонно возрастало.
Но душа Пейна при всем том не ведала покоя; слишком много скопилось в ней воспоминаний, слишком много бессонных ночей и тщетных устремлений. Он поднимал глаза и видел, как за окном торгуют белыми рабами, жертвами подневольного труда. А перед мысленным взором вставало и другое, когда, застыв с пером в руке, он вспоминал прожитые годы.
– Ждите скоро прибавку к жалованью, – уронил ему однажды Эйткен.
У него было имя, положение, работа и, однако же, не было ничего. Спасаясь от мучительных раздумий, он шел в бордели, где содержались тупые, с покорным взглядом, невольницы-крестьянки, которых поставляли из Англии и Шотландии солидные торговые компании, дабы здесь продавать всем и каждому их убогие, доморощенные ласки за три шиллинга, из коих шесть пенсов предназначались на их выкуп. На деле же почему-то оборачивалось так, что ни одна из них не получала свободы – все становились холодными, грубыми, размалеванными шлюхами. Пейн в этих домах не находил себе облегчения, и даже когда выкупил двух девиц на свободу, его продолжала мучить совесть.
Ром был надежнее. Пейн вернулся к бутылке, стал напиваться все чаще. Сильно под мухой, он сцепился с Беном Фреди, ярым приверженцем тори, и обоих потянули к мировому.
Эйткен сказал:
– Как был свиньей, так свиньей и остался.
– Молчите, черт бы вас побрал!
– Ну-ну, потише, бунтарь-одиночка. Считайте, что о прибавке к жалованью я вам не говорил.
– Да пошел ты! – заорал Пейн.
А после настала ночь, когда он, сидя при свечах, вдруг стал писать. Писал, и слов искать не приходилось, потому что они шли прямо из сердца. Всю свою ненависть к рабству изливал он на бумаге, всю издавна накопленную ярость. И, зная, что сам это напечатать не может, наутро отослал статью в редакцию журнала конкурента. Через неделю она вышла, и в тот же день, с журналом в руке, к нему ворвался Эйткен.
– Ваша работа? – крикнул он.
– Да, моя, – кивнул Пейн.
– В таком случае вон отсюда, подонок!
– У вас что, другой редактор нашелся за фунт в неделю?
Пейн усмехнулся.
– Предупреждаю, вы через месяц уволены.
– Давайте лучше – через два, – сказал Пейн. – Не то, смотрите, через две недели сам уйду.
В ту ночь, впервые за долгое время, Том Пейн заснул легко и покойно, не прибегая к бутылке.
Было двадцать четвертое апреля тысяча семьсот семьдесят пятого года; неспешно угасал весенний, ясный, свежий день. Длинные густые тени ложились на мощеные улицы, с дальних холмов повеяло пьянящим запахом молодой травы, лопающихся почек, вспаханной влажной земли. В предвечерней тишине улицы Филадельфии огласились внезапно бешеным цокотом копыт, и перед «Сити-таверн» круто осадил запаренного коня взмокший всадник. На крик, что он привез новости, важные новости, потрясающие новости, со всех сторон сбежались люди. Но всадник не прибавил больше ни слова, покуда, как и подобает доброму хозяину, не позаботился, чтобы вытерли и напоили его коня, и сам не осушил кружку пива. Он пил, а тем временем весть о его приезде с быстротою молнии разносилась по городу, и толпа все росла. Пейн, сидя у себя в редакции, услышал крики на улице и побежал следом за всеми.
– Война, братцы, – промолвил всадник, отирая губы. – Война, будь она неладна!
Кто-то протянул ему понюшку табаку; другие осадили толпу.
– Они, понятно, знали, что в Лексингтоне находятся Ханкок и Адамс, – заметил он.
Потребовали, чтобы он все растолковал по порядку: где, что и как произошло.
– Дело было восемнадцатого апреля, – начал приезжий. Все разом примолкли: вести приходят с запозданием, но события совершаются быстро; с побледневшими, испуганными лицами переглядывались люди в толпе.
– Они сидели в доме пастора Кларка, – продолжал он. – Но это чего. Их успели предупредить из Бостона, и времени им хватило, поскольку красные мундиры перли пешком, а наши ребята скакали как черти. Да и пастор Кларк не растерялся, сразу же их спровадил.
– Их не поймали, Ханкока и Адамса?
– Им удалось уйти.
Снова все стихло; яростно строчили газетчики, но остальные молча ждали, слышны были одни лишь тоненькие голоса детей, снующих по-заячьи вокруг толпы. Всадник потребовал еще пива и ему поспешили передать по рукам новую кружку.
– Но целую деревню не отправишь прочь, – сказал вестник. – Людей подняли на ноги, и большинство уже в ту ночь не ложилось спать…
Толпа загудела; опять поплыла по рукам кружка пива; продолжались расспросы. Мало– помалу он им выложил всю историю, то запинаясь, то скороговоркой, а то надолго умолкая, чтобы, неподвижно уставясь в одну точку, сосредоточиться и попытаться осмыслить значение событий, о которых он вел рассказ.
В ночь на девятнадцатое апреля мало кто спал в деревеньке Лексингтон. Почти все, кого уволокли домой жены, потом оделись и, прихватив с собой ружье, пороховой рог и сумку с патронами, потихоньку улизнули к тем, кто расположился в кабачке. Диавол шагал по земле в ту ночь, но от него не отставали ангелы – еще вовек не бывало такой ночи, и ей не суждено было повториться вовеки. В трактире переговаривались шепотом, хотя могли бы и кричать – все равно никто не спал и будить было некого; мужчины тревожно осматривали оружие, пересчитывали патроны и гнали от себя непрошеную мысль, что стрелять в белок и кроликов – совсем не то же самое, что стрелять в человека. Их командир, капитан Паркер, правда, понюхал пороху во французскую войну, но и ему было не по себе, и он не так-то просто находил ответы на вопросы, летящие со всех сторон.
Незадолго до рассвета, из потребности как-то прервать томительное бездействие, Паркер отрядил Зика Садбери ударить в церковные колокола. Зик трезвонил, покамест не переполошил всю деревню и женщины, высовываясь из окон, не забранились:
– Тьфу, как не совестно, взрослые мужчины, а творят невесть чего!
Паркер приказал строиться, и люди подчинились, смущенно пересмеиваясь, поддразнивая друг друга шепотом:
– Ух, Айзек, и бравый же из тебя солдат!
– Щелкни каблуками, Джед. Да приосанься, представь, что на тебе жилетка по последней моде.
И – четырнадцатилетнему Джерри Хиксу:
– Эй, Джерри, шел бы ты домой учить уроки.
– Шагом марш! – гаркнул Паркер, и все затопали на лужок, раскинувшийся перед конгрегационалистской церковью. Доставив туда свое войско, Паркер в раздумье почесал затылок, не в силах, по всей видимости, сообразить, что делать дальше. В эту минуту вышел пастор, держа в руке легонькое охотничье ружье, и произнес:
– Ба, сколько паствы, а ведь нынче не воскресный день.
Хорошо, что он был с ними; у всех отлегло от сердца, послышались оживленные голоса. Серое предрассветное небо нежно розовело, желтело, согревалось; с полей донесся сердитый вороний грай: «Кар, кар!»
Глупый пес Джошуа Ланга, который не мог равнодушно слышать этих звуков, с оглушительным лаем помчался на ворон. Но внезапно разговоры оборвались; люди замерли; люди взглянули друг на друга. Над миром раздался еще один звук. Сначала слабо, хо потом отчетливей и, наконец, громко, резко, возникла и приблизилась барабанная дробь, пронзительный вой волынок, дразнящий ритмичный мотив, призыв то ли к славе, то ли к смерти – одному только Богу известно…
Объяснять, кто это, не понадобилось – все знали, и никто не проронил ни слова. В это ласковое апрельское утро, опираясь на кремневые ружья, перепуганные в большинстве, испытывая впервые в жизни неодолимое желание пуститься наутек, мужчины, подростки, старички и дети – простые люди из простой сельской общины Новой Англии – не уклонились от встречи с судьбой.
У «Сити-таверн» в Филадельфии всадник допил четвертую кружку пива и завершил:
– Стояли как один, ей-Богу.
– В бою? – кто-то спросил.
– Черт побери, парень, слушать надо! Сказано – стояли. От мала до велика стояли перед красными мундирами как вкопанные и плевать на них хотели.
– А потом?
– Где ж это видано, чтобы хоть один поганый рак спокойно прошел мимо человека с оружием, – фыркнул рассказчик.
Английские солдаты были шагах в пятнадцати от жителей деревни, когда офицер дал им команду остановиться; строгими, четкими рядами, в ладно пригнанных ярких мундирах с белыми поясами, в огромных киверах, в белоснежных париках стояли молодцы из Лондона, из Суффолка и Норфолка, из Девона, Уэльса, Шотландии, Ирландии, с любопытством разглядывая неуклюжих фермеров, выходцев из тех же самых мест, откуда были родом они сами, а ныне – безнадежных чужаков, неотесанных и темных. Несколько долгих мгновений отряд и ватага всматривались друг в друга; солдаты были хорошо подготовлены к такой минуте, но у фермеров взмокли ладони, сжимающие оружие.
Но вот майор Питкэрн, командир британского отряда, решив, что пора действовать, вышел вперед и загремел:
– Разойдись!
По кучке фермеров прошел ропот.
– Сложить оружие, сукины дети, мятежники проклятые!
Вот она, жгучая, страшная правда: они – мятежники. Взлелеянная ими мысль, что они вольные люди, имеющие право жить по-своему, – недосягаемая, призрачная мечта о свободе, которой тысячи лет тешили себя люди доброй воли, – внезапно, на зеленом лугу деревушки Лексингтон, созрела и стала грубой явью. Фермеры роптали и вовсе не выказывали намерения сложить оружие; более того – один из них выстрелил; эхо подхватило и унесло грохот тяжелого мушкета, и в краткий миг тишины британский солдат рванул мундир на груди, осел на колени, повернулся рухнул наземь.
О том, что последовало дальше, не сохранилось даже воспоминаний: все смешалось. Красные мундиры дали залп; фермеры, по одному, по двое, отвечали беспорядочной стрельбой. Из домов пронзительными воплями высыпали женщины. Заревели дети, бешеным лаем залились собаки. Потом стрельба затихла; раздавались только стоны раненых да визгливые женские причитанья.
После пятой кружки пива всадник перед «Сити-таверн» в Филадельфии рассказал, что красные мундиры ушли.
– Им не Лексингтон был нужен, а Конкорд, – объяснил он. – Ведь склады-то там.
Кто-то спросил:
– Фермеров они взяли?
– Нет, зачем! Разве бешеную собаку берут с собой? Решили не испытывать судьбу, двинули на Конкорд, вошли в город и часа четыре, если не пять, проторчали там без толку. Потом, ничего ровным счетом не предприняв, как последние идиоты, выступили назад. А когда подошли к мосту, их уже поджидали, да не горсточка, как раньше, а четыре с лишним сотни.
– Вы, скоты! – заорал майор. – Мужичье неумытое! Сию минуту разойтись по домам!
– Они и не шелохнулись, – сказал всадник.
– Очистить мост, сказано, скоты паршивые! – взревел майор.
Они хранили торжественное молчание и не трогались с места; желваки ходили у них на скулах, ружья медленно подымались на прицел, плотней сжимались губы, но с места никто не тронулся. Тогда англичане пошли в атаку, и разверзся ад кромешный. Бухали пушки, один за другим трещали ружейные залпы. Примкнув штыки, англичане устремились на мост; ударами прикладов фермеры оттеснили их назад. Улюлюкая, гикая, чертыхаясь, призывая на помощь Бога, янки согнали англичан с моста обратно, на конкордскую сторону реки. Но закрепить свою удачу не сумели: они были фермеры, не солдаты, и когда улегся первый неистовый порыв, они подались назад, позволили красным мундирам восстановить строй, пропустили их через мост и дальше, к Лексингтону.








