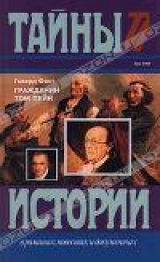
Текст книги "Гражданин Том Пейн"
Автор книги: Говард Фаст
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 20 страниц)
Только тогда, пересчитав своих убитых и оказав помощь раненым, фермеры поняли, что упустили из рук победу. Пыл ярости сменился в них холодным, истинно новоанглийским ожесточением. Они подобрали оружие и бросились бежать – по дороге на Лексингтон.
До Лексингтона было шесть миль – шесть гибельных миль для красных мундиров. Возмущеньем была охвачена вся округа; из-за каждой каменной ограды, каждого плетня, куста и дерева, из каждого встречного дома в этот апрельский день гремело непокорство. Больные ползком подбирались к окнам и оттуда стреляли в захватчиков, подростки прятались в траве, выбирая удобную мишень, женщины за дверьми амбаров заряжали ружья для мужей, и фермеры, перебегая с места на место под защитой каменных новоанглийских оград, стреляли вновь и вновь. Какой-то паренек влез на хлев с парой кавалерийских пистолетов, застрелил проходящего внизу младшего офицера и сам был застрелен. Но вообще залпы в красных мундиров оказались бессильны против таких военных действий – исподтишка, с ножом или топором в руках.
Без руководства, без команды или указа фермеры дрались, как им подсказывало чутье, отчаянно, талантливо, как им больше уже не суждено было драться никогда, – так, будто знали, что здесь, сегодня, весь замученный, бедный простой люд наконец-то ощутил свою силу.
Шесть миль до Лексингтона – только там для англичан наступила передышка. Городок был домом, жильем, там оставались женщины и дети, поэтому мужчины подстерегали врага за пределами городишки, в поле и в лесу. В Лексингтоне красных мундиров ожидало подкрепление, но тем временем к городку, привлеченные эхом перестрелки и вестью о происходящем, быстро облетевшей всю округу, сотнями стягивались фермеры.
Получив подкрепление, англичане выступили вновь – назад, на Бостон, – и в этот раз им досталось еще пуще. С горем пополам они брели обратно, а их кололи, резали, рубили…
– Они дошли до Чарлстона, – сказал всадник, – вернее, то, что от них осталось.
V. Рождение революционера
Из всего этого, из шума и смятенья, из поразительной истории, ввезенной из Новой Англии всадником, нарождалось что-то новое, грандиозное и непостижимое – что-то, побуждающее двигаться, действовать, а не прикидывать да рассуждать. Так думал на другой день Том Пейн, стоя перед городской ратушей среди бушующей толпы, самой большой за всю историю Филадельфии – почти в восемь тысяч человек. Толпа – она и есть толпа, чего с нее возьмешь; она галдела, горланила, волновалась, в ней возникали водовороты; время от времени она затихала, прислушиваясь к ораторам, которые один за другим поднимались на трибуну обличать нов и угнетение – понятия достаточно общие и вполне безопасные. Преобладали пробостонские настроения, но там и сям стояли, многозначительно улыбаясь, тори – тори в последние месяц были склонны многозначительно улыбаться.
Пока ораторы обращались к толпе в целом, краснобаи помельче витийствовали всяк в своем кружке. И Джексон Эрл, колесный мастер, посреди гневных обвинений по адресу королей и тиранов вообще и одного короля в частности, призвал Пейна в свидетели:
– Ну, подтвердите, Том, – потребовал он, – кто нами правит, англичанин или немец?
Пейн пожал плечами. На смену трепетному возбужденью вчерашнего дня к нему сегодня возвращалась прежняя холодная апатия. Лишь на короткий миг ему явилось лучезарное виденье, он бы не взялся объяснить, почему оно таяло сейчас, в этой толпе. Одно только он знал твердо – его все это не касается, он – Пейн редактор; был Пейном-нищим, однако теперь, как и тогда, у него ничего нет. Он может ненавидеть, корчиться в муках, негодовать, но как он может мечтать?
– Я про Георга говорю, – не унимался Эрл.
– Да немец, надо полагать.
– Вот! И какой немец? – вопрошал Эрл, обращаясь к толпе. – Ничтожное ганноверское отродье, отъевшийся хряк – и это он-то наделен правом помазанника Божия? Послушайте-ка, что я вам скажу, друзья мои! Да я б на месте Господа Бога…
Поодаль, взгромоздясь на самодельную трибуну из ящиков, призывал к тишине Куинси Ли. Только что до него квакер Арнольд выступил с предложением создать вооруженную милицию.
– Ну так как же? – пританцовывая от волнения, надрывался во всю мочь нескладный косоглазый верзила Ли. – Что на это скажет народ?
Толпа ревела.
– Кто первым выйдет и вслед за мною заявит, что готов положить жизнь, поднять свое оружие, свой меч во имя святого дела, которое зовется свободой…
У, как взревела толпа!
– Подобно тем, кто пал под Лексингтоном и Конкордом…
Толкаясь, Пейн стал выбираться из толпы, а у него за спиною гремел голос Арнольда:
– Подобно тому, как от века сражались англичане, отстаивая права англичан…
– Выпиваем? – Эйткен сказал Пейну, когда тот шагнул в лавку, оставив за спиной прохладную звездную ночь.
– Выпиваем, – кивнул Пейн.
– Поди, печенка прогнила насквозь, скоро развалится окончательно.
Пейн усмехнулся и снова кивнул.
– Были сегодня на площади?
– Как же, – сказал Пейн и, плюхнувшись в кресло, уставился собственные ноги.
– Порадовались, наверно, что материал для дешевых сенсаций в руки плывет?
– Я не радовался, – сказал Пейн. – Я испугался.
– То-то и хлебнул, я смотрю! Как бумагу марать, так герой, понадобились кулаки – сплоховал, голубчик.
– Я не за себя испугался.
– И правильно. – Долговязый шотландец удобно облокотился прилавок, явно находя жестокое наслаждение в колкостях, которые отпускал своему редактору. – Правильно, говорю вам, поскольку много ли стоит ваша жизнь?
– Да ничего.
– Ага, так вы признаете это?
– Я это знаю, – свирепо проговорил Пейн.
– И тем не менее испугались.
В дверь постучали, и Эйткен, прервав свои нападки, пошел открыть. Это был старый Айзек де Хероз, сторож при синагоге еврейской общины. Пейн видел его не первый раз. Держа под мышкой истрепанный молитвенник, он неторопливо поклонился Пейну и шотландцу и разложил молитвенник на прилавке, любовно, бережно придерживая рассыпающиеся страницы.
– Вы бы такой могли напечатать? – спросил он Эйткена.
Пейн и Эйткен склонились над книгой – с любопытством, впервые в жизни разглядывал Пейн древнееврейские письмена; Эйткен, сощурясь, вглядывался в старинный шрифт.
– У меня и шрифта нет такого, да и не сумею.
– Кой-какие литеры есть у меня – правда, не все. Остальные можно отлить. Набирать будете, как здесь.
– А что здесь? Дьявольские измышленья я набирать не стану.
– Это молитвы, – улыбнулся старик.
– Папскую молитву набирать не буду, – упрямо сказал Эйткен. – и языческую не буду. А вы вдобавок требуете, чтобы я голову ломал над вашими литерами.
– Это простые молитвы, их поймет всякий, – мягко сказал старик.
– Прочтите вот это по-английски. – Эйткен ткнул пальцем в Раскрытую наугад страницу.
Старик прочел:
«– Да, помню я все это: душу
Излить готов в повествование. Вечно
Преследует нас ненависть. И вечно,
Как жадный зверь, невежество терзает
Страдальцев наших. Вечно льется кровь.
Правители над нами возносились,
Свирепые, жестокие безумцы,
Пустою мыслью тешась: уничтожить
То, что Господь взлелеял. Был однажды
Тиран, перелиставший Книгу Бога,
Ища глагола острого, как меч,
Чтоб нас сразить. И вот нашел строку,
Гласящую: „Да будет предан смерти
Укравший смертного, чтобы продать его…“»
Пейн, осторожно тронув старика за руку, остановил его:
– Достаточно, отец, мы это напечатаем.
Эйткен собрался было что-то сказать, но покосился на Пейна и промолчал.
– Вы были сегодня возле ратуши? – спросил Пейн у старика.
– Я там был.
– И что думаете об этом?
– Думаю, что это начало пути, долгого и тяжкого.
За полночь, когда старик давно ушел, Пейн сидел в лавке и наблюдал, как Эйткен, негромко чертыхаясь, сражается с древнееврейскими литерами.
– Идите спать, – в пятый раз повторил ему Эйткен.
– Какой там сон, неохота.
– Надо бы рассчитать вас к свиньям собачьим за то, что втравили меня в эту чертову затею.
Пейну отчаянно хотелось поговорить, хотелось, чтобы родная душа отозвалась на его думы; хотелось услышать смех и слезы, незначащие восклицанья.
– Скажите, вы любили женщину? – спросил он Эйткена и в ответ услышал:
– Совсем сдурел!
А ему просто хотелось найти частицу прошлого, откуда он мог что-то взять и поделиться с другим, пока все это не растаяло как дым.
…Корсетником Пейн перебывал в Тетфорде, Лондоне, Дувре, Сэндвиче; в Порсмуте, Брайтоне на юге, в Бате, Винчестере, Бристоле – он нигде не приживался. Какое бы новое ремесло ни испробовал, всякий раз возвращался к корсетам; ткал ли он, латал ли сапоги, резал ли по дереву, портняжничал, копал землю, пахал или сеял, он возвращался назад к корсетам, они были его судьбой. И когда жил в Сэндвиче, встретил Мэри Ламберт.
Пухленькая, разбитная, хорошенькая на свой лад, с ямочками на щеках, кареглазая, с округлыми руками, на несколько лет моложе его. Ему в то время шел двадцать второй год.
Она служила в прислугах и, когда он впервые увидел ее, покупала у мясника отбивные. Она была не из тех, кто выбирает на глаз; она щупала мясо, разминала его в руках и напоследок объявила:
– Ладно, только смотрите, без обмана. А то наложите один жир.
– Красота отбивные, – сказал мясник. – Лучше не бывает.
– Фью! Мне бы столько шиллингов, сколько раз я видала получше!
– Пожалте за дюжину.
– Ладно, вы жир-то срежьте.
Пейн в это время смотрел на нее во все глаза – причем она это знала, – смотрел и уже не помнил, для чего зашел в эту лавку, то ли мяса купить на ужин, то ли косточку для собаки, которую тогда держа, то ли зная в душе, что найдет здесь ее, и тогда, понятно, ничто на свете не в силах было свернуть его с пути. Она вышла, и он вышел следом, даже не слыша за собою вопрос мясника:
– Эй ты, а тебе чего?
Когда они прошли шагов двадцать, она повернулась к нему:
– А ну, иди своей дорогой.
Пейн стоял и молчал как дурак.
– Ступай, ступай! Я с такими не знаюсь.
– Я ничего плохого не делаю, – проговорил Пейн.
– Фью! – Она фыркнула и, повернувшись на каблуках, пошла дальше, и Пейн – за ней, стараясь идти с ней в ногу, моля отчаянным голосом:
– Скажите, как вас зовут, пожалуйста.
– Как зовут! Еще чего захотел!
– Дайте я помогу вам нести свертки.
– Без тебя справлюсь. Катись, слышал, и больше не лезь ко мне, а то дождешься, хозяину своему пожалуюсь.
Он ее снова увидел, иначе и быть не могло в таком маленьком городке, как Сэндвич. Разузнал о ней кое-что – выяснил, например, что ее зовут Мэри Ламберт. Она все понимала, конечно; он был не в силах держаться на отдаленье, ходил за нею по пятам, подстерегал ее, иной раз ухитрялся даже сказать ей несколько слов. Когда ей случалось улыбнуться ему, а так иногда бывало, он не помнил себя от восторга. Его очередной хозяин Джон Григ взял себе моду подтрунивать над ним, подмигивать, подталкивать локтем в бок.
– Эх, продувной ты малый, Том, да только нам все известно!
Он был отчаянно, дико влюблен и в ответ лишь беспомощно улыбался.
– Поди-ка, уже облапить ее успел, хе-хе? Надо будет тебе накинуть шиллинг.
Иногда она разрешала ему с ней прогуляться. Он стал покупать и подарки, так как заметил, что она мягче с ним обходится, если явиться с подношением. Как-то раз, в тихий вечер, он позвал ее пройтись с ним к реке.
– Фью! Там топко, грязно!
– Там красиво. И вы такая красивая…
– Чудак ты, право, чудак, мастер Пейн. Что, у тебя девчонки никогда, что ли, не было?
Он собрался с духом:
– Такой, чтобы я любил, не было.
Она пожала плечами, тряхнула головой.
– Мэри…
– Я в городе люблю гулять, – сказала она. – Девушке не годится далеко уходить с мужчиной.
– Мэри, я нравлюсь вам хоть немножко?
– Не знаю, все может быть.
– Мэри!
Но она уже затрещала про свое, про дом, в котором служила про хозяйку, горничную, повара – и про лакея, который прямо сходит по ней с ума.
– Вчера как чмокнет меня! – болтала она.
– Мэри, я вас люблю!
– Фью! – она улыбнулась.
Однажды он спросил, каково ей служить.
– А что, я всегда была у хороших господ, – сказала она.
– И тебе по душе быть прислугой?
Она ощетинилась.
– Все лучше, чем некоторые, кто, может, и рад бы пойти в услуженье, да кишка тонка.
– Я это не к тому, чтобы тебя обидеть, – оправдывался он. – Только мне неприятно думать, что ты – и вдруг прислуга.
– Думай не думай – мне-то что.
– Я же люблю тебя.
Она тряхнула головой.
– Неужели это совсем ничего не значит? Пойми ты, я тебя люблю, пойми, я умереть за тебя готов – и я не просто какой-то корсетник. Я другого хочу и сам хочу стать другим – мне целый мир нужен, чтоб отдать его тебе.
– Фью!
– Мне по силам дать тебе целый мир, – сказал он яростно.
Она подбоченилась и сделала реверанс.
– Мастер герцог, ваше высочество…
Он попытался поцеловать ее, и она со всего размаху залепила ему пощечину. Он стоял и глядел на нее, потирая щеку, невольно думая о лакее.
– Ишь, занесся, – бросила она резко. – Сам корсетник несчастный, а прислуга ему не ровня!
– Ты меня ненавидишь, да?
– Все может быть.
Он решил тогда, что больше даже не взглянет на нее, и недели две крепился, не встречаясь с нею, работал, бурча себе что-то под нос, извелся, потемнел.
– Да ты облапь ее покрепче, тюря, – советовал ему хозяин.
– Не лезьте вы ко мне, подите к черту.
– А-а. Ну, считай, что плакал твой шиллинг.
Мрачная подавленность прошла, сменилась приливом необычайной решимости. Он начнет свое собственное дело. Соблюдая бережливость, он уже скопил девятнадцать фунтов, и теперь распростился с Григом, снял старую мастерскую и водворился туда со своим инструментом и рабочим столом. Трудился с утра до поздней ночи, откладывая каждый заработанный грош, урезывая себя в еде, отказывался от малейших удовольствий, от вина, от книг, мечтая только о том дне, когда сможет позволить себе жениться на любимой женщине. И вот наступил день, когда он отыскал ее и спросил, пойдет ли она за него.
– Я знала, что ты вернешься, – сказала она самодовольно.
– Да, я иначе не мог.
– Тогда смотри, веди себя как полагается.
– Я хочу жениться на тебе, – отчаянным голосом сказал он.
– Фью!
– Я тебя люблю, я сделаю для тебя все на свете, ты будешь счастлива со мной…
– Болтай больше.
Но она начинала сдаваться; это было все же лучше, чем пойти за лакея, который, впрочем, с ней и не заговаривал о женитьбе; лучше, чем отвечать на заигрыванья мясника или сносить приставанья хозяина, который норовил при случае поймать ее в темной кладовке, – на мгновенье горящие, неровно посаженные глаза корсетника поманили ее, пленили, заронили в ее пустое сердечко неосознанные, туманные устремления. Она улыбнулась, присела в реверансе, и таким ликующим торжеством наполнилась душа Тома Пейна, что все поплыло у него перед глазами.
– Ладно уж, поцелуй меня, – сказала она.
Он держал ее в объятьях и знал, что больше нечего желать в этом мире.
– И помни, без глупостей насчет того, что я прислуга.
– Нет, нет, ты для меня все на свете! Какая мне разница, кем ты была. Теперь ты будешь женой Тома Пейна – и вот увидишь, тебе еще герцогини позавидуют!
– Болтай знай.
– Я разбогатею. Не вечно мне быть корсетником!
– Опять понесло… ну и чудной ты все же.
– Я все-таки хоть немножко нравлюсь тебе? – допытывался он с мольбой.
– А женишься? Смотри мне.
– Да, да, моя милая, любовь моя.
– Мастер ты на слова, – сказала она с восхищением.
– Слова – пустяки, что слова. У нас будет кое-что поважнее, будут дети.
Она поморщилась.
– Детей кормить надо. А нынче все дорожает.
– Только бы ты меня любила…
Она надула губы.
– Все может быть.
Ему потом приходило в голову, что при других обстоятельствах, в другой обстановке их жизнь, возможно, сложилась бы иначе. Она была не виновата, что она такая и не могла стать другой, он это знал, но от этого не делалось легче. Годы спустя он вспоминал, как пытался научить ее читать и писать, и она, не в силах усвоить простую мысль, через пятнадцать минут с детской яростью накидывалась на него. Иногда он был уверен, что она его ненавидит; порой, обнимая ее, чувствовал на короткий миг, что она его любит. Она была такая как есть, какой выковалась под молотом своего крохотного мира: племенным существом, опутанным тысячью табу. Подчас, осторожно продвигаясь шаг за шагом, отбрасывая по дороге шелуху, он чувствовал, что вот-вот заглянет в ее испуганную маленькую душу, и тогда она взрывалась негодованием:
– Фью! Задаешься, больно важный, больно много об себе понимаешь, что опять смеешься надо мной!
– Нет, Мэри, милая, не задаюсь…
– Скажите, герцог нашелся, а сам всего-то корсетник.
И он, кивнув, пожимал плечами и просил у нее прощения.
– Прислуга, видите, ему не по нраву, а уж я так-то была довольна, в хорошем доме, у господ, – не чета твоим оборванцам грамотеям из грязного свинушника.
Или же, распалясь окончательно, принималась рассказывать ему подробности насчет лакея, хозяина и прочих – выплескивала все это на него и наслаждалась, глядя, как его корежит и ломает.
С делом обстояло из рук вон скверно. Корсетное ремесло требует постоянных заказчиков, и если у тебя нет знатных клиентов, то пиши пропало. В Сэндвиче на двух корсетников работы не набиралось, и, когда Пейну нечем стало платить за помещение, когда у него осталась за душой последняя крона, он опять пошел к Григу.
– На такого, как ты, нельзя положиться, – веско промолвил Григ, и на том разговор был окончен.
Пришло извещение, что их выселяют, и Пейн сказал:
– Попытаем счастья в другом городе.
– А болтал, что мне герцогини будут завидовать, – передразнила она его.
– В жизни всяко бывает, – спокойно сказал Пейн. – Я не собираюсь сдаваться.
А сам впервые в жизни ощутил себя стариком, и это в двадцать два года; затосковал о детстве, которого никогда не знал – запертый в клетке, кружил и кружил по ней, ища выхода, словно белка в колесе. Теперь он уже сам надеялся, что она вернется в прислуги, однако она цеплялась за него, ругая себя за это, а его и подавно кляня на чем свет стоит, и все же не в силах вырвать из сердца мелькнувшее однажды виденье, – ненавидела этого урода, эту нескладную бестолочь, мужчину, который так не умеет устраивать свои дела, и в то же время благоговела перед ним.
В другом городе оказалось не лучше, не лучше и в третьем, откуда они тащились сейчас по пыльной дороге, Пейн – с инструментом на плечах, Мэри – с узлом, в котором находилось все имущество. Пейном всецело владело глубокое, неистребимое чувство вины перед ней, и когда Мэри истошно выкрикивала:
– Все ты, все ты, уж так мне было хорошо у господ, распрекрасно… – Он только молча кивал в ответ. – Крыши над головой и той нету, эх ты! Все идеи, великие идеи! Нос здоровенный свой задирал передо мной, что я прислуга! Мир собирался переделать – это ты-то, фью? Ты, господин Том Пейн, дубина неотесанная, паршивый лентяй?..
К ночи они укладывались где-нибудь под живою изгородью, хладный вечерний туман опускался на них, невидимые ветры приносили вечернее благоухание английской сельской природы, а если становилось холодно, она придвигалась ближе, и на короткое время воцарялся мир. Он мог держать ее в объятьях и твердить себе – здесь моя крепость, мой дом, а у нее слипались глаза и не хватало сил оттолкнуть или выругать его. Так яростна, отчаянна была его любовь, вопиющая к Богу – вот ты ниспослал мне это, она моя, она красива и желанна, я могу сотворить из нее что захочу – что каждое ее движенье, жалобный вздох, дрожь испуга глубокой болью отзывались в душе. Ее он не винил – только себя; что-то глубокое, неистовое в нем наделяло его силой смотреть на мир, постигать, видеть и правду и несправедливость, ощущать душою и принимать на себя удары бича, которым покорялись миллионы. Двадцать два года было ему, а он успел уж состариться, но то в нем, что не сломалось, отвердевало теперь внутри, обращаясь в стальную сердцевину, – она же была просто ребенок, и по ночам, когда она засыпала, он баюкал ее тихонько:
– Спи, маленькая, дитя мое, спи, милая.
Есть было нечего, и он воровал – это давало ей в руки лишнее оружие против него, чтобы выкрикивать в припадке ярости:
– Ты доиграешься, браконьер бесстыжий, сдам тебя шерифу.
Карой за браконьерство была смерть. Он забрался в амбар и унес мешок брюквы. За это виновного привязывали к двум упряжкам и пускали лошадей в разные стороны. Он убил кролика; за это отрезали уши и нос. Но он бы не задумался убить не только зверя – человека, так его грызло, нарастало в нем ожесточение; лишь к ней он проявлял сострадание и ласку.
В Маргите, куда они добрели наконец, измученные, со стертыми ногами, он уговорил местного корсетника сдать ему мастерскую. Мери была беременна, и Пейн, казалось, совсем обезумел от отчаянья. День-деньской, не разгибая спины, он корпел за рабочим столом, а вечерами нанимался на любую работу, какая только подвернется. Ей нездоровилось, и озлобление покинуло ее; она металась и хныкала, как обиженная девочка. Он почти ничего не ел; один за другим он продавал свои бесценные инструменты, лишь купить для нее сливки и птицу, а то и бифштекс с куском пудинга. Полумертвый от голода, он мог думать лишь об одном: У нее была крыша над головой, огонь в очаге и хоть какая-то еда. Того немногого, что ему случалось заработать, едва хватал на плату за помещение, и усилия достать денег на насущные нужды превратились у него в одержимость. Вспомнив дни в лондонском Питейном ряду, он закрыл один глаз повязкой, согнул и подвязал одну ногу и пошел на улицу за подаяньем. Он верил, что лекарь может вылечить его жену, и после долгих угроз и увещаний залучил одного за шиллинг к себе в мастерскую.
– Гнойная лихорадка, – объявил лекарь, а Мэри испуганно глядела на него широко открытыми глазами.
– Чем ей можно помочь? – спросил Пейн, отведя его от кровати.
– В подобных случаях рекомендуется кровопускание, – произнес врач. – Docendo discimus, [2]2
Обучая, учимся (лат.)
[Закрыть]то есть мы наблюдаем действие вредных паров, газов, которые распирают ей сосуды. Houd longis intervallis – или, иначе говоря, в недолгом времени необходим отток крови…
Пейн устало покачал головой.
– Я не знаю латыни.
– Да, но вы понимаете, медицина, у нее свои термины, свои тайны. Двери и окна держите плотно закрытыми. Когда приходит недуг, бесы так и вьются поблизости…
В ту ночь она сказала:
– Томми, Томми, настало мне время помирать…
– Нет, нет, врач говорит, ты поправишься.
От ее злости не осталось и следа, она вцепилась ему в руку, словно это было последнее, что для нее еще существовало на земле. И той же ночью, белая как воск от бесконечных кровопусканий, закрыла глаза и отвернулась от Пейна.
Весь день назавтра он просидел молча, уставясь в одну точку, а в доме тем временем толпились любопытные, приходили и уходили соседи, которым прежде никогда не было до них никакого дела. Не горе ощущал он теперь, а только жгучий гнев, которому суждено было отныне гореть в нем вечно.
К западу от города Филадельфии раскинулся зеленый и холмистый луг под названием Коммонз; туда направился Том Пейн поглядеть, как обучается ополчение. Шагая в этот мирный полдень по весеннему солнышку, он ждал, что увидит сборище, толпу – однако не толпа предстала его глазам. И не армия, хотя бы даже в зачатке; то было нечто особое, такого до сих пор мир не видели, как это скопление мужчин, подростков, подмастерьев, ремесленников, мастеров, чиновников и студентов, кузнецов и мельников, плотников, ткачей, брадобреев, печатников, гончаров, людей в рабочих передниках и со следами рабочей грязи на руках. Все они были жители Филадельфии, но не все ее жители представлены были тут. Он затруднился бы определить, что именно их отличает, и все-таки отличие было. Притом нельзя сказать, что собралось одно лишь трудовое население – были и люди состоятельные, хозяева, не только те, кто работал на других: банкир, два торговца зерном и бархатом, журналист Том Джафферс, богатый человек, который мог бы вообще ничего не делать: три пастора, спекулятор-зерноторговец, скупщик мехов. Были пацифисты-квакеры, методисты, пуритане, баптисты, католики, пресвитериане, были евреи, конгрегационалисты и диссентеры, деисты, агностики и атеисты. Бок о бок с белыми – вольные чернокожие, рядом с совладельцами – негры-рабы.
Что движет ими, спрашивал себя Пейн. В чем состоит их особенность? Что их объединило?
Он не спеша двинулся вокруг поля, чувствуя, как бешено бьется сердце от возбужденья, тревожных предчувствий, страха, а превыше всего – от пьянящей, доселе неведомой надежды. Наблюдал, как, вооруженная чем придется, неловкая, неумелая, нескладная, проходит ученья первая в мире гражданская армия, как выполняет приемы, держа в руках кремневые ружья, громоздкие старинные мушкеты, мушкеты с фитильным замком и дулом-раструбом, какие появились в стране более ста лет назад или, изредка, – длинноствольные изящные винтовки, вывезенные из глубинных графств, или же алебарды, топоры, пики, абордажные сабли, рапиры, двуручные музейные мечи, а те, у кого не нашлось дома ничего, пускай хотя бы кавалерийского пистолета, – просто палки, сжимая их, как сжимают смертоносное оружие. Любители пофасонить – те из них, у кого водился в кармане лишний шиллинг – уже щеголяли в униформе, фантастических расцветок обмундировке с внушительным патронташем, на коем выведено было: «Свобода», или: «Вольность», или: «Смерть Тиранам» либо иной подобный девиз, дабы у мира не оставалось сомнений относительно умонастроения его владельца. Имелись у них и свои офицеры: дородный старый Фриц ван Гоорт – за полковника, маленький Джимми Гейнсуэй и мельник Джейкоб Раст – за капитанов, и это только лишь немногие, перечень всех офицеров занял бы на бумаге целую милю, и всяк из них вразнобой, нимало этим не смущаясь, выкрикивал свою команду: налево, кругом, шагом марш, стой, шагом марш; солдаты натыкались друг на друга, сбивались с ноги, спотыкались и падали, опрокидывались шеренгами, точно кегли, перекрикивались; там и сям гремел случайный выстрел мушкета – каждый, конечно же, позаботился зарядить свое оружие, и, естественно, дробью.
Пейн продолжал совершать свой обход, притом не в одиночестве. Добрая половина города явилась поглазеть на ополчение в первый день учений. Живописными группами стояли женщины, прикрываясь от солнца под зонтиками, с визгом туда-сюда носились дети; старички, попыхивая трубками, рассуждали о том, что творится на свете. А ополченцы, углядев среди зрителей жену, сестру или невесту, останавливались посреди учений, чтобы свистнуть или махать рукой. Вокруг сэра Арнольда Фицхью, где сбились в кучку тори, мелькали вежливые усмешки, переходили из рук в руки серебряные табакерки, взрывы грубого смеха то и дело оповещали о том, что граждане солдаты в очередной раз допустили вопиющую оплошность. А когда подошел Пейн, Фицхью весело окликнул его.
– Ну как, писарь, что вы скажете о наших мятежниках?
– Я пока еще не составил мнения.
– Ах ты, черт, он, видите ли, еще не составил мнения.
Пастор Блейн, квакер, сказал:
– Ты, я вижу, не с ними, Том.
– Да нет…
– Что, угрызения совести?
– Скорее – сомнения, – отвечал Пейн медленно, думая про себя, что если сделать сейчас этот шаг, то пути назад уже не будет.
– А у них, видишь, как обстоит дело с совестью, – не то с печалью, не то с укором сказал пастор. – Восемнадцать человек здесь из моей паствы. Господь сказал «не убий», но легко ли отказать себе в жестоких забавах – вот и вышагивают здесь со своими палками, будто нету для человека имущества достойней, чем оружие.
– Самое удивительное в Америке, – проговорил Пейн негромко, – это что у людей есть оружие. Когда они пустят его в ход…
– Что-то я тебя не пойму.
– Я и сам себя не понимаю, – пожал плечами Пейн.
Джейкоб Раст пришел в печатню и объявил:
– Томас, друг, я хочу, чтоб ты был в моей роте. – Толстый, низенький, он говорил раскатистым, зычным басом.
– Да?
– Отличная подбирается команда, черт возьми.
– Я подумаю, – кивнул Пейн.
– А что, тут есть над чем думать?
– Да. Сейчас такое время, что надо думать об очень многом.
– Послушай, милый мой, ты уже сколько месяцев как пожаловал сюда из Англии. Люди спросят, он за кого – за Англию или за Пенсильванию? Добрый товар или с гнильцой?
– Я к себе не принюхиваюсь, – усмехнулся Пейн.
– А вот мы к тебе – да!
– Я не из тех, кто движется, куда ветер дует, – ровно сказал Пейн. – Я сам знаю, что мне делать, вернее – начинаю узнавать. Вот знаешь ли ты, Раст, – это вопрос. Большой вопрос, сознаешь ли ты, что все это означает.
– Означает, будь я проклят, что мы как свободные англичане постоим за свои права!
– Ой ли?
– И сразимся за них, коль придется!
Пейн пожал плечами и отвернулся.
Были и такие, для которых ничто не изменилось. Пейн побывал однажды на балу в доме Фэрвьюзов, богатых импортеров, близких по своим взглядам к тори. Его пригласили, так как он представлял «Пенсильвания мэгэзин»; он согласился, так как искал – повсюду, только можно, – ответы на свои бессчетные сомнения, свои бдения, молитвы; на свою ненависть. Четыре фунта потратил на камзол коричневого тонкого сукна – такой одежды он еще не знавал на своих плечах.
Жабо на груди, новый белый парик, панталоны хорошей кожи, словом, джентльмен по всей форме, при трости и треуголке, в числе приглашенных вступает в лучшее общество, как в круг себе равных, в зал, освещенный четырьмястами свечами, где чернокожий раб певуче объявляет:
– Господин Томас Пейн!
Четыреста свечей – где и какие небеса освещались столь ярко? Черные слуги расхаживают с серебряными подносами, серебряными чашами для пунша, разносят горы изысканнейшего печенья и пирожного, подают холодную дичь двенадцати сортов, обносят красным вином, мадерой, портвейном в таких количествах, что хватит затопить все корабли британского флота. Дамы в тяжелых парчовых нарядах, шитых золотом и серебром, мужчины в кружевах, в атласе и бархате, а он здесь – господин Томас Пейн, которого, о чем бы ни зашла речь, поминутно просят высказать свое мнение.
– Эта история в Лексингтоне – деревенская потасовка, разумеется, не более того, но здесь, в городе, – вы видели? – эти оборванцы пытаются устраивать ученья!
Каждый из них побывал на своем веку в европах.
– Каково это наблюдать тому, кто видел королевскую гвардию!
– Но какую позицию, господин Пейн, должен при этом избрать редактор, то есть человек мыслящий, я хочу сказать?
– Бунт? Нет, не представляю себе, – ну пошумят, покричат, и только.
Господин Пейн на все на это по преимуществу отмалчивался.
– Торговле это не на пользу, во всяком случае.
– Э, не скажите. С перепугу народ кидается раскупать все подряд.
– Как бы то ни было, это предупреждение. Я полагаю, лорд Норт перестанет хвост распускать после того, как ему пообщиплют перья.
– Я с неизменным вниманием читаю ваш журнал, господин Пейн, – говорила молодая, прелестная, изысканно одетая женщина, глядя на него с восхищением – на него, корсетника Пейна. – И читаю ваши стихотворенья, – продолжала она. – Я нахожу, что они прекрасны, и потом, если мужчина причастен к поэзии, значит, он непременно должен быть человек с душою, вам не кажется?








