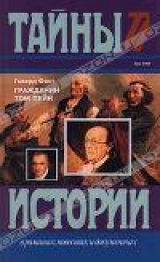
Текст книги "Гражданин Том Пейн"
Автор книги: Говард Фаст
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 20 страниц)
Говард Фаст
ГРАЖДАНИН ТОМ ПЕЙН
Часть первая. Америка
Посвящается Бетт
Как часто смешивают понятия «американская революция» и «американская война». Американская война кончилась, но далеко не так обстоит дело с американской революцией. Наоборот, завершен лишь первый акт этой великой драмы.
Бенджамин Раш. 1787 г.
I. Меня зовут Пейн
Прохладным погожим утром ранней осени 1774 года доктору Бенджамину Франклину доложили, что его уже почти час дожидается Томас Пейн. Доктор Франклин жил в Англии не первый год, известен был всему цивилизованному миру как великий ученый, остроумный философ, человек просвещенный и вообще во многих отношениях замечательный, знал в Англии всякого, кто был того достоин, и многих, у кого единственное достоинство состояло в громком имени. О Томасе Пейне, однако, ему слышать не приходилось.
Старик слуга, докладывавший о посетителе, заметил, что мистер Пейн – не джентльмен.
Принимать посетителей, ничем не напоминающих джентльменов, доктору Франклину случалось, и не однажды, но по презрительной усмешке старого слуги он понял, что случай исключительный. Сморщив нос, чтобы поправить съехавшие очки, Франклин покрутил большой косматой головой и, продолжая писать, сказал:
– Ну и впустите – что же вы! – И прибавил с оттенком досады: – Почему не сказали, что он ждет? Почему сразу о нем не доложили?
– Уж больно грязен, – недовольно проворчал старик, выходя из комнаты; через минуту он вернулся с посетителем, – тот, став в дверях, едва ли не с вызовом бросил:
– Меня зовут Пейн, сударь!
Доктор Франклин отложил перо, с минуту молча изучал посетителя, потом улыбнулся и сказал:
– А меня – Франклин, сударь. Сожалею, что заставил вас ждать. – И кивком головы отпустил слугу.
– А я сожалею, что ждал, – воинственно отозвался Пейн. – У вас ведь не было других посетителей. В вашей воле послать меня к чертям, и я уберусь отсюда. Только я не к королю пришел, всего лишь к доктору Франклину. А вы меня вон сколько продержали.
Доктор Франклин, все с тою же улыбкой, продолжал разглядывать незнакомца. Неказист, да и непрезентабелен, думал он, на вид лет за тридцать, к тому же и крючковатый длинный нос его старит. Острый подбородок, толстые губы, в странных, неровно посаженных глазах затаилась горечь, ожесточение; порок ли, добродетель в этом лице – судить трудно, но одно можно сказать: в нем нет, и давно уже, ни радости, ни надежды. Похоже, что с неделю небрит, и помыться бы тоже не мешало. Дешевый камзол лопнул под мышками, штаны на коленях протерлись, чулки изодраны в клочья и из дрянных башмаков, которые совсем прохудились, выглядывают наружу голые пальцы.
– Давно вы ели последний раз? – спросил его Франклин.
– Не ваше собачье дело! К вам не за милостыней пришли.
– Да вы присядьте, – невозмутимо пригласил его Франклин и, отлучась минуты на две из комнаты, пришел назад с кувшином пива, хлебом, мясом. Поставил все это на стол, а сам снова принялся за письмо и не поднял головы, покуда Пейн, смущенный, немного пристыженный, не встал, кончив есть.
– Ну как, полегче? – спросил Франклин.
Пейн кивнул. Он чувствовал жгучую неловкость, босые пальцы поджимались, прячась в дырявых башмаках, и он, засунув руки в карманы, попытался сразить Франклина пристальным взглядом.
– Вот тридцать гиней. – Он вытащил из кармана пригоршню серебра и грязных бумажек. – Я к вам не за милостыней пришел.
– А я этого и не думал. Да сядьте вы, в самом деле! Пускай, господин Пейн, мир движется своим путем – зачем вы тщитесь взвалить его себе на плечи? Я одобряю бережливость, и если человек предпочитает носить платье, которое не стоит и шиллинга, но зато иметь тридцать гиней в кармане, мне это кажется вполне разумным. А вот отвергать гостеприимство – негоже, и преломить с ближним хлеб – не значит получить милостыню. Кто вы, господин Пейн, что я могу для вас сделать?
– Я хочу уехать в Америку, – выпалил Пейн. – Вы – американец. Я слышал, вы человек негордый, простой и, пусть я для вас никто, не откажете в просьбе, которая вам ни гроша не будет стоить. Я и подумал – вы бы не написали мне рекомендательное письмо?
– Напишу.
Все еще сжимая деньги в руке, Пейн медленно кивнул головой, спрятал деньги, попробовал что-то сказать, но смог выдавить из себя лишь несколько бессвязных слов. И сел, прикрывая широкими ладонями протертые колени. Потрогал свой заросший подбородок. Не обращая на него внимания, Франклин деловито заклеил письмо и лишь мельком покосился на Пейна, когда спросил, чем он занимается.
– Корсетник, – ответил Пейн. – Да, шью женские корсеты, камзолы для мужчин. Был акцизным, – прибавил он, – винные бочки промерял за пятьдесят фунтов в год. Плотничал с грехом пополам, латал сапоги за шесть пенсов в день, жить-то надо, хотя зачем – пес его знает. У одного ткача прибирался в доме, так половины того не зарабатывал, а лентами торговал – случалось, выручал вдвое больше… Пишу иногда. – Он умолк.
– Пишете? – переспросил спокойно Франклин. – О чем же?
– О чем не скажешь вслух, потому что не хватает духу.
Они проговорили целый час. Пейн незаметно для себя осушил кварту пива. Неровно посаженные глаза его блестели, большие руки машинально сжимались в кулаки и разжимались снова. Он позабыл, что плохо одет, давно немыт, зарос щетиной, – забыл о прошлом и всей душой отдался обаянию этого старика, на удивление молодого, полного жизни и – не солгала молва – редкой мудрости.
– Какая она, Америка? – спрашивал он Франклина.
– Для одних – земля обетованная, для других – родная Шотландия, Суссекс, Уэльс, для третьих – ни на что не похожа, и потому один влачит ее, как ярмо на шее, другой лихо носит на голове, как шляпу, это смотря какой человек.
– Большая она?
– Без конца и без края, – сказал Франклин. – Никем пока не исследована, не изучена… – В его голосе слышалось сожаленье, как будто он назвал дело, которым охотно занялся бы, но как-то упустил.
– Я так об ней и думал.
– Заработать там можно. Никто не голодает, коль не гнушается работой.
– Никто не голодает, – эхом повторил за ним Пейн.
– Ну а гореть – полное раздолье, – Франклин улыбнулся. – Огонь никого не опалит.
– Какое уж горенье, – сказал Пейн глухо. – Хватит с меня. Мне бы теперь одежонку на плечи да крепкие башмаки. И чтоб зайти в трактир, швырнуть на прилавок гинею и сказать, что сдачи не требуется – как человек, который знаком с гинеями не только по запаху.
– Кстати, с латынью вы знакомы?
– Немного.
– Вы ведь из квакеров, верно?
– Был квакер, теперь – сам не знаю. Попробовал пробиться на волю, да башку себе расшиб. Простите, доктор Франклин, я захмелел сейчас слегка, и у меня язык развязался, но я вам вот что скажу – худо в этой стране, она прогнила и смердит, как навозная куча, я хочу выбраться отсюда, уехать и больше ее не видеть, а так мне много не нужно, хлеба кусок, крышу над головой, какую-нибудь работу.
– Это-то вы найдете, – задумчиво проговорил Франклин. – Я дам вам письмо, раз вы полагаете, что оно вам поможет. А вы не старайтесь прошибить стену лбом, лучше скопите понемногу денег, подыщите участок в Пенсильвании – там земля дешева – и приложите к ней руки.
Пейн кивнул.
– Я напишу своему зятю, он что-нибудь для вас придумает.
Пейн все кивал головой, пытаясь найти слова в ответ на такую доброту. Он устал и был слегка пьян, его остроконечная голова клонилась книзу, неровно посаженные глаза закрывались, и весь он, в своей убогой одежде, грязный, обросший бородой, с необычными резкими чертами лица, казался загадкой, которая долгие годы продолжала волновать Франклина всякий раз, когда он вспоминал Тома Пейна. Загадки всегда привлекали Франклина, но эту ему не суждено было разгадать.
– Убирайся в Америку, если ничего не желаешь делать, – объявил Пейну отец, когда мальчику сравнялось тринадцать и позади уже всякого было вдоволь: учился ремеслу, мечтал, бродил по сочным тетфордским лугам, лазил по развалинам старого замка, сам строил замки в воздухе – и детству, казалось, не будет конца.
– Корсеты – не желаю, – твердил он упрямо.
– Молод еще рассуждать – корсеты не корсеты!
– Корсеты – ни за что.
– Щенок упрямый, невежа! А другое ремесло ты знаешь?
Он был подмастерьем – его учили, как должен работать мастер своего дела, артист. Пришла примерить корсет миссис Харди, дама, так скажем, знатная если учесть, что в те дни границы знатного общества не были определены столь строго, как четверть века спустя. Весила миссис Харди фунтов двести – за счет того в основном, что располагалось вокруг пояса и выше: грудь ее воздымалась, как вересковые холмы Шотландии, чрево вмещало больше эля, нежели погреб в трактире «Собачья голова». Ванну она в последний раз принимала четырнадцать месяцев назад, когда ездила на воды в Бат, и Тому в первый же день работы пришлось буквально лбом упереться ей в живот. Пришлось соприкоснуться с потаенным, тянуть изо всех сил, засупонивать, пока она верещала, как свинья.
– Старайся, Томас, приналяг! – скомандовал отец. Он крепче натянул шнурки, а миссис Харди рычала:
– Пейн, ты, негодник, не дорос – двенадцати дюймов не хватает.
Это ты вымахала на двенадцать дюймов лишку, думал с отчаяньем подросток. Он напряг мускулы – и рука его утонула в чудовищной груди.
– Приналяг, Томас, – повторил отец невозмутимо, отчужденно и вышел на минуту. Томас погиб; рука все глубже погружалась в омут плоти; охваченный ужасом, жарким стыдом, он забыл о шнурках – корсет с треском распахнулся и плоть хлынула наружу, на него.
– Ишь ты, негодник, ишь, плутишка! – хихикая, миссис Харди схватила его в объятья. Он рванулся, на миг увяз еще сильней, забарахтался, осатанело отбиваясь, освободился, выскочил из мастерской и кинулся бежать через поле, покуда, отдуваясь по-собачьи, не повалился наземь в тени старых развалин.
Дюжина горячих – и его исполосованная задница стала кровоточащей раной: ему судьба стать корсетником, раз у него корсетник отец, а не то – убирайся в Америку! Старик Пейн не был жестоким человеком, но в мире существует заведенный порядок, и сыну положено идти по стопам отца; земная жизнь сурова, беспощадна – слава Богу если тебе удастся заработать на хлеб честным трудом; на большее рассчитывать нечего. И вот Том Пейн все-таки уезжает в Америку, а позади порушено куда больше, чем набор корсетных костяшек, да и упомнишь ли, сказать правду, что там и как было, в тринадцать-то отроческих лет… Он, кажется, задремал, а очнувшись, услышал, что Бенджамин Франклин читает вслух письмо, которое с такой готовностью написал своему зятю Ричарду Бейчу, влиятельному лицу из далекого города Филадельфия:
«…Подателя сего, господина Томаса Пейна (вот она вам, Америка, – грязного оборванца величают господином Пейном, и притом не кто-нибудь, а сам доктор Франклин, мудрец из мудрецов, какие только есть на свете), мне рекомендовали как толкового, достойного молодого человека (нет, вы послушайте только, достойного!). Он направляется в Пенсильванию с намерением там обосноваться. Прошу тебя поддержать его, помочь добрым советом, ведь он человек совсем новый в ваших местах. Хорошо бы ты пособил ему определиться на должность письмоводителя или младшего наставника в школе либо таможенного инспектора – полагаю, он отлично бы с этим справился, – чтобы он мог хотя бы заработать на жизнь, покуда не освоится в чужой стране и не заведет свой круг знакомства; ты бы весьма тем обязал твоего любящего отца…»
– Мне хочется для вас что-то сделать, – сказал Пейн. – Ко мне никто не был так добр, у меня нет друзей. Вздумай я предложить вам денег, вы бы, верно, меня на смех подняли?
II. Америка – земля обетованная
То был долгий путь по воде; девять недель с востока на запад, а после – за край света, как думали старики в Тетфорде, которым вовеки не приводилось бывать далее двух-трех миль от родимой вересковой пустоши. Он – не им чета, он – Том Пейн, не корсетник, не подмастерье у ткача, а путешественник и искатель приключений, и его девять недель болтало на судне, где свирепствовала лихорадка. А теперь он умирал; никто не знал об этом, никому не было дела: капитан и сам едва дышал, где уж тут заботиться о других. Залитое безмятежным солнцем судно тихо покачивалось на волнах реки Делавэр, до красных крыш Филадельфии было рукой подать, а во тьме корабельного лазарета к Тому Пейну с каждым стоном все ближе подступала смерть.
И плевать, говорил он себе. «И довольно себя жалеть», – это Франклин так сказал. Пропади он пропадом, этот Франклин, ему что, живет себе в Англии, не тужит, старый черт, кой-кому в этом мире живется славно, да только таких раз-два и обчелся, а для прочих он – каторга, пустыня, тюрьма. Потрепыхаешься, словно муха на булавке, помрешь – и нет ничего, ни до тебя, ни после. Так чего ради Тому Пейну сопротивляться? Пытаться побороть болезнь и голод, одиночество, отчаянье?
Он не станет сопротивляться, подошло, видно, время умирать – и огромная жалость к себе, мысль о том, какое зрелище он должен являть собой, потрясла, поразила его. Он заплакал; потом вытер слезы, и к нему незаметно подступили безоблачные воспоминанья о далеком прошлом. Вот мальчик в Тетфорде бредет по цветущему склону холма. Мэй Адамс, девочка с длинными косами, обогнав его, первой вбежала в развалины замка, увитые диким виноградом, и упала, и разбила колено, а он вылизал из ранки грязь и поцеловал девочку. Нехорошо, сказала она, и на его вопрос почему лишь повторила – нехорошо, грех; и все же сделалась его подружкой, и об этом никто не знал. Но в скором времени она умерла от оспы, и он хранил свое горе молча, только работал как проклятый – сидел и шил корсет для Дженни Литертон, не отрываясь, не вставая даже, чтобы поесть, а отец похваливал его:
– Вот молодец парень, работник, не лоботряс, как раньше.
Все это было и ушло; теперь уходил он сам, потому что Франклину вздумалось заслать его в Америку.
Корабль, пораженный лихорадкой, очень быстро оказался в центре внимания; суток не прошло с тех пор, как судно ошвартовалось в Филадельфии, а уж полгорода побывало в порту поглядеть на него. Ходили слухи, будто за девять недель в море сброшено пять мертвецов, хотя по виду на борту все было в порядке; больные, выздоравливающие, изнуренные пассажиры нетвердыми шагами сходили на берег, и каждый рассказывал жуткую повесть на свой лад. Кто-то вспомнил, что в лазарете лежит мужчина с рекомендательным письмом от Франклина, и доктор Кирсли – который пытался основать в великом городе Америки свою практику и находил это непростой задачей – почуял гонорар.
– А имя его известно?
– Пейн, по-моему.
– И вы видели письмо? – осторожно спросил Кирсли.
– Да нет, слышал только.
– А вы? – спросил Кирсли у другого.
– И я не видал.
Гонорар – это одно дело, но подниматься на борт зараженного судна за так ни один врач не обязан.
– Он что, прибыл в трюме?
– В каюте.
Трюм был битком набит завербованной прислугой, среди этого люда и вспыхнула болезнь, и капитан, едва только начав передвигаться, договаривался уже об их продаже с двумя богатыми филадельфийскими купцами.
– Ну что же, долг есть долг, – сказал доктор и направился на палубу.
Тяжек показался ему этот долг, когда он спустился в вонючий лазарет и, натыкаясь на тела, чертыхаясь, принялся, перекрывая стоны, выкликать господина Пейна.
Господин Пейн отозвался. Доктор держал свечу, пламя ее колебалось и мигало в спертом воздухе, но и со свечой отыскать Тома Пейна оказалось трудновато, а когда доктор, наконец, нашел его, то подумал, что и трудиться не стоило. Те же лохмотья, что у всех, запущенная борода, грязи, пожалуй, наросло даже больше, а в целом – отвратительный клубок страданий и рваного тряпья, который шепотом попросил врача уйти и дать ему умереть спокойно.
М-да, умереть тебе придется, это точно, сказал про себя доктор.
– Уходите же, – простонал Пейн.
– У вас есть, кажется, письмо от Франклина? – хватаясь за последнюю соломинку, спросил Кирсли.
– Есть, будь он неладен!
– Хм… ну а деньги, старина?
– Три фунта семь шиллингов, – прохрипел Пейн.
– Вот как! Ну, завтра же станете на ноги. Деньги у вас с собой? Багаж имеется?
– Вы что, не видите – я умираю…
Доктор пошел за лодочником; тот запросил с него три шиллинга и лишь тогда нехотя поднялся на корабль. Взяв Тома Пейна за руки и за ноги, они вдвоем выволокли его наружу и, словно кучу хлама, сбросили на дно лодки.
С последним проблеском сознания и гнева Пейн обозвал доктора и лодочника скотами и пожелал узнать, почему его не могут оставить в покое. Доктор ответил откровенностью на откровенность – покамест лодочник греб к берегу, он наклонился к изнемогающему, покрытому испариной больному и объяснил:
– А потому, что три фунта семь шиллингов на дороге не валяются, во всяком случае, у начинающего врача. Я не вор, я эти деньги заработаю, и жить вы будете, а уж для чего – это только Богу известно.
– Господь дает, Господь и берет, да славится имя Господне, – произнесла соседка-квакерша, принеся Пейну коробку домашнего печенья и мешочек с ароматическими травами, который повесила ему на шею. Она прослышала, что у Кирсли обретается некий бездомный и что он грязен и сквернослов, а Кирсли якобы поспорил на двадцать фунтов со знаменитым доктором Джеймсом, что его пациент не умрет. Это был нечестивый поступок. Вдобавок Пейн ей признался, что родился и вырос в квакерской семье, а Кирсли, стоя в ногах его постели, насмешливо заржал на это – что было вообще уже выше сил.
– Молись, – говорила она Пейну. – Моли Господа о прощении, Бог милостив.
– Ну, теперь-то он выздоровеет, – фыркнул Кирсли.
– Молись, молись! – бросила она напоследок, поспешно спасаясь бегством, и Кирсли привалился к спинке кровати, помирая со смеху.
– Ох и грязная же вы личность, – проворчал Пейн.
– На себя посмотрите. И не я ли первый отмыл вас от грязи?
– Да катитесь вы…
– Кстати, я пришел вам напомнить, что вы задолжали мне десять фунтов, – сказал доктор. – Вы седьмую неделю у меня, так что это еще по-божески. Я вам жизнь, между прочим, спас, чего бы там она ни стоила, и вообще, маловато вы проявляете благодарности. Сколько стоит человеческая жизнь?
– Моя – немного, – буркнул Пейн. – Да нет, я благодарен. Заплачу вам, когда найду работу.
– Это какую же?
Пейн пожал плечами.
– Я бы мог вас упрятать в долговую тюрьму, – размышлял вслух врач.
– Это да, могли бы, – согласился Пейн.
Он исхудал и осунулся за время болезни; неровно посаженные карие глаза на бледном лице запали, смотрели тяжело, вопросительно, одежда болталась на костлявых плечах, как на вешалке. Кирсли утверждал, что он здоров, но возражать, упираться у Пейна не было сил.
– Даю вам месяц сроку, – неожиданно сказал Кирсли. – Уходить можете хоть завтра.
Пейн благодарно кивнул головой и закрыл глаза…
Он, должно быть, проспал довольно долго – во всяком случае, врача теперь уже не было рядом, а каморку заполнял мягкий сумеречный свет. В единственное слуховое оконце ему с постели видны были черепичные крыши Филадельфии. За ними, на фоне серого неба, возносился ввысь церковный шпиль, и Томас Пейн увидел, как за окном пошел снег; чистые белые хлопья лениво опускались вниз, потом повалили гуще, быстрее, и, наконец, маленькое окошко задернулось сплошной белой пеленой. В камине тлели угли; Кирсли был человек невредный, он просто устал от бедности, от невежества – все это Пейн мог теперь понять, мог даже посочувствовать ему. В конце концов, Кирсли его вылечил, вернул ему жизнь, а десять фунтов – не такой уж тяжкий камень на шее. К нему возвращались силы; не очень уверенно, но все же чувствуя, что может держаться на ногах, он встал с постели и шагнул к окну. Вот она перед ним, Америка, вот она какая, он глядел на нее в первый раз – церковный шпиль вдалеке, пяток крыш, опушенных белыми хлопьями, пяток прохожих на мощеной улице; город братской любви, Америка, земля, мечта, империя – это и многое другое, передуманное когда-то, вновь прихлынуло к нему вместе с волей к жизни, желанием снова быть самим собой, Томом Пейном. Зимний вечер был так мягок и тих, что защемило сердце; еле слышно зазвонили церковные колокола, и Пейну почудилось, будто люди на улице ускорили шаг.
Жизнь теперь казалась милой, как старая песня. Его охватила дрожь нетерпения; он лег обратно в постель, но так и не уснул в эту ночь.
А Бенджамин Франклин, оказывается, сказал пророческие слова: письмо, которое он дал Пейну, почернело от сырости, измялось, протерлось на сгибах до дыр, однако Бейч, зять Франклина, расправил его, внимательно прочел и сказал, что – да, он постарается помочь Пейну. Ничего особенного, правда, не обещает, но здесь, в Америке, жить хорошо, и Пенсильвания – край хороший, а Филадельфия, слава Богу и королю Георгу, – хороший город. С голоду не помрешь, была бы твердость духа. Он ничего не хочет сказать худого о старой Англии, но все же здесь во многом лучше.
– И мне так кажется, – кивнул Пейн.
Знает ли Пейн какое-нибудь ремесло? Что он умеет делать?
– Корсеты, – признался Пейн. Но только чем делать корсеты, он бы скорее пошел сапожничать или же ткать, это работа по нему, хоть не требует большого искусства. Беда лишь в том, что он недавно был болен, и потому – Пейн покраснел – ему бы сейчас поработать некоторое время головой, а не руками. Он не заносится далеко в своих желаниях, поскольку настоящего образования у него нет. Но писать он грамотно может, и считать, немного знает по-гречески, по-латыни. Лицо Бейча продолжало хранить уклончивое выражение, и Пейн отчаянным голосом прибавил:
– Faber est quisque suae fortunae. [1]1
Каждый – творец своего счастья (лат.).
[Закрыть]
Бейч – благополучный, толстый, одних с Пейном лет, но источающий уверенность в себе, какая Пейну и не снилась, – потрепал его по плечу и уронил:
– Ну что же, ладно, подыщем вам местечко.
На первые же свои деньги – несколько шиллингов – Пейн, который уже два дня почти ничего не ел, отправился в кофейню и взял себе булочки, и масло, и целый кофейник густого черного кофе. Вокруг сидели люди преуспевающие, дельцы вроде Бейча, – в Лондоне его бы в такой одежде и близко не подпустили к порядочной харчевне, здесь никто даже не взглянул на него. Да, никто, а вон в углу сидит дикого вида человек в куртке из оленьей кожи и длинных кожаных чулках, в меховой шапке – охотник из глуши, и карабин зажал в коленях, и ест руками, будто не видывал отродясь ножа и вилки. А когда так, то велика ли важность, если его работа – учить двух маленьких Доланов, что дважды два – четыре, что к-о-т читается как «кот» и если в полдень приходит госпожа Долан со словами: «Чайку бы, что ли, выпили, сударь», а завтра он будет учить ребятишек Смита – двух мальчиков и девочку.
Два месяца назад он бы кипел, пылал негодованием, но здесь была Америка, ему вернули жизнь, а детей учить все же лучше, чем заниматься ремеслом корсетника. Или, быть может, что-то перегорело в нем, угасло, и он доволен, что плывет себе по течению, не задумываясь о завтрашнем дне, утешаясь сознанием, что он – Том Пейн, и не более того.
Человеку свойственно меняться; он – не старик, но и не молод, и даже Кирсли, грубоватый, прямолинейный, а временами обдуманно жестокий, испытывал что-то вроде жалости к Пейну. Он дал это понять куда как ясно, когда Пейн зашел к нему подтвердить, что помнит о долге.
– Чего там, – сказал Кирсли. – Забудьте про долг. Я и без этого заработал на вас двадцать фунтов.
– Как же, слышали, – отозвался Пейн беззлобно.
– Я не хочу сказать, что вы не стоите большего, – примирительно прибавил доктор. – Не мне судить, чего стоит человек. Вы, говорят, учительствуете?
– Верно.
– Тогда желаю вам успеха, – сказал доктор Кирсли, на этот раз искренне.
Том Пейн пожал плечами: шиллинга в день ему хватало, от двух – еще и оставалось, и когда госпожа Крейдл пожертвовала ему старые мужнины штаны, он их взял. Он не слишком утруждал себя работой – были дни, когда он совсем ничего не делал, просто слонялся по Филадельфии, глазея с детским любопытством на красочную, не по-европейски живописную толпу на улицах. Были тут краснокожие индейцы с лесистых гор, закутанные в свои яркие и грязные одеяла и с непременной глиняной трубкой в зубах; были датчане в деревянных башмаках, приплывшие на плоскодонных лодках из Джерси, востроглазые янки из Бостона, долговязые шведы из Делавэра, чумазые охотники из дальних графств, затянутые в оленью кожу, не расстающиеся ни на миг со своими шестифутовыми карабинами; рабовладельцы-южане в атласе и в шелку; чернокожие и белые, меднолицые, смуглые; одетые в серое квакеры избранного круга – Пенны, Дарли, Родмонты. Вверх по Первой улице, вниз по Спрус, вокруг городской площади, вдоль по Брод-стрит бродил он медленно и бесцельно, словно в тумане, словно бы отрешенный от мира, отрезанный от своего прошлого, не помышляя о будущем, – грошовый учителишка, предмет непристойных сплетен; жил в непогоду то в одном трактире, то в другом, укрываясь от снега, от дождя и пронизывающего ветра, а если денек выдался погожий, не прочь был заночевать где-нибудь на сеновале в кваверском сарае и тем сберечь себе шесть пенсов, платя за самую дешевую комнатенку.
Если и приводилось ему размышлять о себе, то неизменно с жалостью, и когда в его кармане случались деньги на бутылку вина, он допивал ее обычно в хмельных слезах от сострадания к себе. Пить в одиночку приходилось редко: в трактире всегда найдется пьянчужка, который рад составить тебе компанию. Вы посмотрите, что творит судьба, разглагольствовал Том Пейн. Взять хоть его, к примеру. Что он мог? С самого детства – корсетник, женщину полюбил – тут же и потерял ее, тянул постылую лямку в трясине, что у английского среднего сословия зовется жизнью, неделями глушил скверный джин, пытаясь в призрачном, смутном мире, который плыл и кружился перед ним, найти хоть чуточку красоты, забыть о собственном убожестве, грубости, уродстве.
Он понимал, что не глупцом рожден – хотя бы потому, как не однажды отмечал он про себя, что столь многого хочет, что так непримирим, так люто ненавидит королей, вельмож, знатных дам и господ, попрошаек и воров, отъевшихся толстосумов-купцов, уличных девок и потаскух, да и порядочных женщин тоже, – а впрочем, кого вообще он любил?..
Он знал, что была когда-то на свете женщина, которую он любил.
Теперь он не чувствовал ни любви, ни ненависти; одно великое дело он совершил – пересек океан, дабы попасть в колонии, тонкой полоской окаймляющие американский материк; на том и поставил точку. Никто не позаботился предложить ему башмаки, а его собственные окончательно развалились, от чулок осталась одна видимость, на плечах болтался подаренный кем-то ветхий сюртучок – так, нагнув голову навстречу резкому ветру, он слонялся по улицам, и люди в маленьком городке, каким была тогда Филадельфия, уже начали узнавать его по необычному виду.
– Вон идет Том Пейн, – говорили они друг другу.
Его посетила делегация горожанок-квакеров. Они принесли ему новый сюртук и жилет.
– Ты позоришь нас, – увещали они его. – Не одумаешься – Господь отвернется от тебя.
Он отвечал им бессмысленной, пьяной улыбкой.
– А я за это лизну Господа в пузо.
Этот случай стал известен всему городу, и Пейн лишился половины своих уроков.
Тот месяц, январь 1775-го, положил начало году, которому предначертано было изменить судьбы человечества, и, однако же, Этот был обычный январь, какие у нас в центральной части страны бывают сплошь да рядом: то дождь, то снег, порою дождь со снегом, а то случится вдруг теплый, ясный, прямо-таки июньский денек. Начало года явилось началом новой эры, и одному Христу, может статься, посильно было, шагая по земле, подвигнуть человека, после долгого молчания, возвысить голос столь неистовый и нежный. А между тем сами люди, по большей части, ничего об этом не ведали – людям было не до того за сотнями насущных дел: они продавали и покупали, заботились о своей семье, любили и ненавидели, богатели и разорялись.
В Филадельфии год обещал быть удачным. Городок на глазах становился городом; расположенный на ключевом месте по пути, ведущем с побережья в Виргинию, Мэриленд, Пенсильванию, Нью-Йорк, Массачусетс и так далее, он таил в себе зачатки одного из значительных городских поселений на карте мира. На его улицах, в его кофейнях, этих своеобразных коммерческих клубах, заключались торговые сделки; через его склады и пристани потоком шли товары из всех английских колоний в Америке и некоторых европейских стран. Правда, еще год назад в Филадельфии собралась довольно рыхлая организация, именующая себя Первый Континентальный конгресс, – однако собралась безрезультатно, так что добропорядочные горожане не верили, чтобы Конгресс мог представлять собой угрозу благополучию и процветанию колоний. Да, наблюдались беспорядки и недовольство, по преимуществу в Бостоне и прочих северных городах, где жили янки, но кто назовет такое время, когда бы не наблюдались беспорядки? Да, неспокойно было и в дальних южных графствах, но чего еще ожидать от лесных дикарей, которые мотаются повсюду как очумелые с шестифутовыми карабинами?
С другой стороны, много было такого, чему поистине можно радоваться. В нагорных дебрях бобры плодились, точно кролики, и сухопарые шотландцы, чернобородые евреи тянулись в город, поставляя глянцевитые шкурки. Табачные плантации на юге дали такой урожай, что лучше и желать невозможно; в Джерси рынки ломились от продуктов, а вниз по Делавэру один за другим шли плоты, груженные отборной белой сосной. Никогда еще свиньи в немецких графствах не нагуливали столько жиру, никогда не паслись на холмистых пастбищах к северу от города овцы с такой густой и длинной шерстью. В дремучих лесах, на аллеганских склонах, в озерном крае и на Финкаслском взгорье резвились нечетные стада оленей, оленина шла в Филадельфии по четыре пенса за фунт, а медвежатину отдавали почти задаром. Оленьи шкуры тысячами громоздились на пристани в зловонных кипах, готовые изменить мужскую моду во всей Европе. Мастера-краснодеревщики сражались против пристрастия своих сограждан к изделиям Чиппендейла, Шератона и других английских мебельщиков; не довольствуясь подражанием, придумывали тут новый изгиб, там петлю или птичью лапу, изящную форму ножки, стройную спинку – создавали подлинно американский стиль. Рабочему люду Филадельфии силы было не занимать, их руки сами тянулись к делу. Вставали новые дома, и зачастую не только кирпич, но и цемент был свой, не привозной.
И беспорядки были, и ропот, но и хорошего – в изобилии. Вдоволь зрело недовольство, но и довольных было предостаточно. В воздухе, хотя и слабо, попахивало войной, но люди не хотели войны. И свободой тоже веяло в воздухе, но большинству никакого дела не было до свободы.








