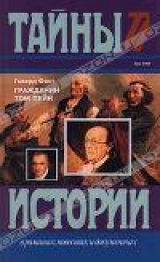
Текст книги "Гражданин Том Пейн"
Автор книги: Говард Фаст
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 20 страниц)
В долгие дни выздоровления после болезни Пейн часто задумывался о том, что случилось за эти годы с Америкой. Тяжелей всего было допустить мысль, что ты ошибся в том, кого на протяжении стольких лет считал надежнейшим и лучшим из людей – в Джордже Вашингтоне.
Но вот и для него забрезжила надежда. Гувернер Моррис лишился должности посланника во Франции; его сменил Джеймс Монро, демократ, приверженец Джефферсона. Пейн с нетерпением ждал его прибытия и, когда Монро приступил к своим обязанностям, послал ему письмо, в котором подробно излагал все обстоятельства своего дела и просил, чтобы Монро предпринял что-нибудь для его освобожденья. Монро ответил бодрым, обнадеживающим уведомленьем, что он займется этим делом и Пейн может вскоре рассчитывать на свободу.
Но свобода не приходила; минуло лето, наступила новая зима; почти всех, кто сидел в Люксембурге вместе с Пейном, выпустили на волю – а он все оставался. Его опять трепала лихорадка; на боку появились пролежни, большое, сильное тело после десяти долгих месяцев заключенья стало, наконец, сдавать. Едва удерживая перо в руке, он снова написал Монро.
Его пришел навестить Барлоу; Пейн, глядя на американца потухшими глазами, проронил, может быть, два-три слова.
– Ну что вы, Пейн?
– Умереть я никогда не боялся, – прошептал Пейн. – Но умирать вот так, мало-помалу, – это выше моих сил.
Наконец Монро направил в Комитет общественной безопасности письмо:
«Услуги, которые он (Пейн) оказал ему (американскому народу) в его борьбе за свободу, оставили след благодарности, который до тех пор будет неизгладим, покуда американцы не утратят право называться справедливым и великодушным народом. В настоящее время он находится в тюрьме, томимый недугом, который в заключении неминуемо должен усугубиться. А потому позвольте мне обратить ваше внимание на его бедственное положенье и потребовать, чтобы судебное разбирательство его дела, ежели против него имеются обвиненья, было ускорено, а если таковые отсутствуют, чтобы его выпустили на свободу».
Что и произошло; в ноябре 1794 года Том Пейн вышел из Люксембургского дворца – не тем, каким его привели сюда, но седым, немощным стариком.
XIV. Наполеон Бонапарт
Пейна приютили у себя супруги Монро; силы все же возвращались к нему, но так медленно, что он вновь и вновь отчаивался выкарабкаться когда-либо из своего инвалидного положения. Никто не верил, что он выживет – убежденье, что он умрет, было столь велико, что в Америку уже отправили сообщение о его смерти.
Но он не умер. Крепкое, жилистое тело, сколько его ни калечила судьба, оказалось неимоверно выносливым, и вот наступил день, когда Пейн почувствовал себя настолько лучше, что попросил вернуть ему «Век разума».
Он перечел рукопись с восторгом; местами попадались слабоватые страницы, зато сильные были хороши, зажигательны, – звонкое напоминанье о том, каков он был когда-то. Кое-что требовалось добавить, но пока что он опубликует эту часть, пускай безбожники прочтут и обнаружат для себя кое-что достойное веры. Мысли его между тем все чаще обращались к Америке. Ему мало что оставалось делать во Франции – а может, и вовсе ничего, революция швырнула его в застенок, отвергла его, отступила от принципов, которые он проповедовал. Другое дело – Америка; он не так уж стар, он еще повоюет; ступит вновь на возлюбленную землю и еще раз сразится за свободу против черной реакции, наступившей, как ни странно, с приходом к власти администрации Вашингтона. Сейчас пока зима, но к весне он окрепнет окончательно и тронется в путь.
И тут его призвал обратно Национальный Конвент; ему вернули его место, вновь сделали депутатом Франции. Монро ликовал.
– Ну сами посудите, Пейн, – говорил он, – это же полная реабилитация – последнее неопровержимое признанье совершенной по отношению к вам несправедливости. Вы вновь как гражданин Пейн, как лидер либерально-демократического движения во всем мире по праву займете место в представительной палате Республики Франции.
Сам Пейн, однако, не испытывал торжества – чувство, которое он испытывал, больше напоминало страх. Десять месяцев в заключении сделали свое дело – не только подорвали в нем телесную силу, но истощили также душевные запасы. Перенести еще один Террор он бы не смог; еще раз увидеть, как рушат то, на что он положил все свои труды, было бы хуже смерти. Он сел писать ответ Конвенту:
«Сообщаю вам, что я намерен принять приглашение высокого Собранья. Ибо желаю поставить мир в известность, что я, став жертвой несправедливости, все же не отношу моих страданий на счет тех, которые в них неповинны и, более того, далек от мысли о возмездии даже тем, кто мне их причинил. Я только, ввиду того, что мне этой весною необходимо будет воротиться в Америку, просил бы вас принять это во внимание, дабы согласие вернуться в Конвент не означало, что я лишаюсь права вернуться в Америку»,
Но именно этого права его лишили. Через некоторое время Монро хотел отправить с Пейном в Америку кой-какие важные бумаги. Из Комитета общественной безопасности ответили, что Пейна отпустить не могут.
И он остался заседать в Конвенте; старый, слабый, седой; вставал изредка с места, чтобы сказать несколько слов, которых никто не слушал. Он чувствовал себя пойманным в неволю и бессильным оттуда вырваться.
А потом в Англии и в Америке вышел «Век разума».
Можно было подумать, что к нему вновь вернулась молодость, когда он работал бок о бок со своим издателем-французом, разыскивал вместе с ним хорошего английского наборщика, снова вдыхал восхитительный запах мокрой типографской краски, такой знакомый, пробуждающий воспоминанья о самом дорогом и прекрасном, что ему выпало испытать.
То был его символ веры, последний его труд, его приношенье Богу и добрым людям. В нем он наносил удар атеизму, провозглашал свою горячую веру в божество доброе и милосердное – в способность человека приблизиться к этому божеству без принуждения и без суеверья. И вот книга напечатана; одна партия экземпляров послана в Англию, другая послана в Америку – а дальше разразилась катастрофа.
До сих пор Дьявол был един; отныне он существовал в двух лицах: нечистый как таковой – и Том Пейн. Вероисповеданья самых различных толков объединились супротив нечестивца, дерзнувшего подвергнуть сомнению всю систему организованной религии. Отголоски словоизвержений докатывались до самой Франции, обрушиваясь камнепадами на усталого старого бойца. Не было ни сочувствия, ни попытки понять – ничего, кроме лавины злобной ругани. Такое разнообразие бранных имен исторгали из своей груди служители Господни применительно к Пейну, такие каскады эпитетов, что, право же, свет не видывал, – придя в итоге к единодушному заключению, что существа более гнусного и зловредного, чем Пейн, не было с сотворенья мира. На все это Пейн, большею частью, не отвечал; если был он был не прав, все обстояло бы иначе – когда бы он был не прав, его бы принялись уличать в неправоте, а не поливать грязью. Убежденный, что он прав, он не видел надобности приводить в подтвержденье этого новые аргументы.
И все же время от времени он был не в силах удержаться от ответа – как, например, когда против него выступил англичанин-унитарий Уэйкфилд. Ему Пейн отвечал:
«Когда то, что вами написано так же послужит миру, как написанное мною, и вы за это примете столько же мук, сколько я, – тогда и будете вправе диктовать мне…»
Он страшно устал; его опять свалила болезнь, когда пришла весть о том, как книгу приняли в Америке: там, в отличие от Англии, поток оскорблений был пожиже; нашлись такие, кто поддержал его точку зрения, оставались еще его старые товарищи, старые революционеры, которые пока не разучились мыслить, – они раскупали его книгу.
Он повторял Монро:
– Я так устал. Я хочу домой.
Теперь у него был дом на этой земле – весь мир был его селеньем, но теперь он постоянно думал о зеленых холмах и долинах Америки. Он был старик; он был в чужой стране. Кому еще на свете досталось от людей столько ненависти – а от немногих, пожалуй, и столько любви, – как ему? Двадцать лет его широкие плечи выдерживали бремя оскорблений; теперь они устали.
Монро заметил как-то:
– Не знаю, Пейн, было ли разумно с вашей стороны издавать «Век разума». В Америке…
– Когда я поступал разумно? – вырвалось у Пейна. – Разумно было связать свою судьбу с горсткой фермеров, которых мир приговорил к пораженью еще до того, как они стали воевать? Разумно было кликнуть клич о независимости, когда никто из ваших великих мужей еще и помыслить о ней не смел? Разумно преподнести Англии революционное кредо, а после из-за этого бежать оттуда, спасая свою жизнь? Разумно было жить десять месяцев под сенью гильотины? Я много кем перебывал на своем веку, но только не осмотрительным разумником. Героям, великим людям такое удается, корсетнику – куда там!
В Англии многие вешали у себя дома изображенье Пейна, украшенного рогами. В трактирах пошла мода на пивные кружки с физиономией Пейна и надписью внизу: «Выпей – и Черт с тобой!» В сотнях церквей сотни воскресных проповедей посвящались вероотступнику Тому Пейну. В Лондоне, Ливерпуле, Ноттингеме и Шеффилде книжки Пейна сваливали в кучу, поджигали и всей толпою плясали вокруг костра, вопя:
Том Пейн, будь проклят навсегда,
Ступай с позором за порог!
Тебе не скрыться от суда.
Тебя навеки проклял Бог!
И он, в который раз лежа в лихорадке, вспоминал, и тосковал, и думал о том, что умирает. Думал без сожаленья. Перебирал поочередно в уме те ужасы, которые пережил за время своего заключенья, и постепенно чувство незаслуженной обиды целиком сосредоточилось у него на одном человеке: Джордже Вашингтоне.
Да, были и другие – Моррис, Гамильтон вкупе со всею сворой противников революции, – но разве других он боготворил, как боготворил Джорджа Вашингтона? Разве он мог забыть, как Вашингтон – аристократ, первый богач Америки – не погнушался протянуть руку Пейну, который был никто? Забыть, как Вашингтон в Валли-Фордж молил его поехать и призвать к нему на помощь Конгресс? Забыть, как сам он, Пейн, написал: «Два имени будут жить в веках: имя Фабия и имя Вашингтона»?..
А потому другие не имели значенья – только Джордж Вашингтон; другие его не предавали, у него не было основанья рассчитывать на них. Это Вашингтон назначил послом в Республику Францию надменного Морриса, – это Вашингтон послал в Англию Джея и тем запятнал честь Америки, и это Вашингтон не удостоил своим вниманием посвященных ему «Прав Человека», переданного ему в дар ключа от Бастилии, – Вашингтон отвернулся от демократии и от народа.
Больной, усталый, он не доискивался причин, которые могли бы пролить свет на события. Не знал и знать не хотел, кто и что мог о нем наговорить Вашингтону, – жаждал лишь выплеснуть все то, что у него наболело в лицо человеку, который, по мнению Пейна, предал своего друга и свое дело. И, убежденный, что умирает, излил свой гнев на этого человека – любимого некогда больше всех на свете – в письме.
Монро умолял его не отправлять письмо.
– Вы этим ничего не добьетесь, – урезонивал он Пейна. – Поверьте – ничего, только наживете себе новых врагов. Сколько лет прошло с тех пор, как вы покинули Америку? То-то. Вашингтон – всего лишь человек, а людям свойственно забывать.
– Но я не забыл, – отвечал Пейн.
Какое-то время он держал письмо у себя – потом отослал, с распоряжением опубликовать.
Пейн продолжал заседать в Конвенте как делегат от Кале. Когда термидорианцы силой оружия подавили народное восстание и лишили народ голоса в новом правительстве введеньем имущественного ценза, против них поднялся в Конвенте немощный старик. Надолго Пейну запомнилась мучительная боль в изъязвленном боку, когда он стоял перед рядами враждебных лиц. Ни горластой галереи, где с шумом разворачиваются бумажные свертки с едой, шикают, хлопают, не переставая жевать; ни неистовых радикалов, требующих смерти для тех, кто противится воле народа, – вместо этого ряды упитанных, уравновешенных законодателей, стряпающих выгодное дельце из подгнивших останков того, что было прежде движением за свободу человека. Они глядели на Пейна, перешептывались:
– Что же он, старый дурень, совсем ничего не смыслит? Мало ему, что отсидел десять месяцев в Люксембурге? Или опять туда захотелось, уже насовсем?
– Чего он добивается?
– Всеобщего участия в голосованьи.
– Ну да, желает, чтоб народ голосовал. Дай только каждому забулдыге право голоса, и завтра наступит конец света.
– Надо бы его все же осадить.
Кто-то скучающим голосом протянул:
– Пусть его говорит. Все равно никто не слушает.
И он стал говорить – о праве каждого человека участвовать в голосовании. Он обладал редкой способностью наживать врагов, редкой способностью сказать не то и не ко времени, способностью вызывать такую ненависть к себе, какую люди не испытывали ни к кому другому. Но сейчас в гуле сотен враждебных голосов прозвучал один чей-то голос:
– Неужели трудно терпимо отнестись к человеку, который в жизни ни к кому не проявил хоть капли нетерпимости?..
Нет, он не изверился, не отступился от демократии, это она от него отступилась; постепенно и неотвратимо – сперва термидорианцы, потом Директория – наступал полный крах революции.
Он начал сдавать, останавливаться понемногу, как часы, когда кончается завод; переставал действовать в том единственном качестве, на какое был пригоден, то есть как революционер. Все шло отсюда, и эта хилость, и эта его растерянность – не буря негодованья из-за «Века разума» была причиной, не его хворобы, не молчанье старых товарищей в Америке – просто тот факт, что он перестал исполнять свое предназначенье.
Пописывал кое-что; он был писатель и, покуда жил, должен был царапать пером по бумаге. Вспоминал старого Бена Франклина, который до последнего дня оставался философом и ученым; так отчего бы и ему, думал Пейн, тоже не баловаться философией, наукой – несложные механизмы, модели, маленькие изобретенья, небезыскусные, может быть, – жалкий лепет вместо голоса, звучавшего некогда твердо и сильно; что ж, раз судьба еще не заглушила этот голос окончательно, он, сколько ему отпущено, полепечет о пустяках.
Так для него начался процесс распада. Забыт; занималась новая эра – начинался девятнадцатый век. Кто это говорил однажды, дайте мне семь лет, и я для каждого народа в Европе напишу «Здравый смысл»? Глупец. Впрочем, это тоже забыто. Волна, разбуженная им – тяга простого человека ввысь, – не исчезнет, движение продолжится волнообразно, то опадая, то вздымаясь с новой силой. Беда только, что для него, Томаса Пейна, революционера, это слабое утешенье – он потерпел неудачу, и силы тьмы смыкались вкруг него.
Ему и прежде-то несвойственно было особенно следить за своей внешностью; теперь он ее и вовсе запустил. Брился хорошо если раз в неделю – случалось, что и реже. Ходил в несвежем белье, в старых войлочных шлепанцах, из которых сиротливо выглядывали наружу босые пальцы. Шаркал туда-сюда по своей неубранной комнате, иногда останавливался, склонив набок голову, словно бы силясь припомнить что-то, совсем недавно забытое.
Что ж это он забыл? Что в Лексингтоне звонят церковные колокола?..
Бутылка – вот что издавна его выручало; бутылочка, испытанный друг, когда никого больше из друзей не осталось. Пусть трезвенники хоть глотки надорвут, возмущаясь, – своему телу он, слава Богу, сам хозяин; было оно и крепким, и сильным, и выносливым – он понуждал его нещадно, и не ради себя; ну, а теперь оно износилось, одряхлело, пришло в негодность, и если можно выпивкой облегчить себе боль и одиночество, то это его частное дело и никого другого не касается.
Еще оставались, правда, немногие друзья среди парижан; славный народ, французы; простой народ, стойкий, – цивилизованный народ. Они понимали такие вещи: человек есть человек, в конце концов, не ангел – и когда видели, как Пейн, заросший, немытый, тащится по улице, то не смеялись над ним, не улюлюкали – здоровались ласково с человеком, который был когда-то великим.
– День добрый, гражданин Пейн.
Они не так легко забывали. За столиком у кабачка пять голов, склоненных над захватанной парижской газетенкой в усилии разобраться в хитросплетеньях Талейрановой политики, поднимались уважительно, когда подходил гражданин Пейн.
– Наше почтенье, гражданин, тут, вы понимаете, с этим Тайлераном…
– А, – ну как же, я с ним знаком, – говорил Пейн.
И что, и ничего особенного, что этот бедолага не так давно водил знакомство с Тайлераном.
– Советоваться приходил ко мне, – пояснял Пейн. – Не люблю я его.
И тоже ничего особенного. Король становится нищим, нищий – диктатором – что, разве они не пережили такие времена, разве не знали, как умеет петлять колесо Фортуны?
Внутри хозяин кабачка – само непоказное радушие. Было время, обслуживал Дантона, Кондорсе; теперь обслуживал гражданина Пейна. Видел, глядя на посетителя, славные дела недавних дней и старался не видеть неопрятного старика.
– Самого лучшего, – конечно, – кивал он, и скашивал с цены, в ущерб собственному тощему кошельку, один франк.
Так сходил с политической арены Франции гражданин Томас Пейн…
У четы Бонневилей завелся жилец, старик по имени Пейн, довольно-таки никчемный старичок; ковылял бесцельно по дому, натыкаясь на встречные предметы, – иногда, посреди какого-нибудь пустячного занятия, вдруг застывал неподвижно, с отсутствующим, вопросительным выраженьем на морщинистом лице. Память у старика пошаливала; он не отличался опрятностью.
Порою уходил слоняться по Парижу и заявлялся домой, неся под мышкой бутылку коньяку, завернутую в газету, после чего закрывался у себя и за час выдувал полбутылки. Во хмелю, случалось, куролесил – все это Бонневили сносили с величайшим терпением. Когда какой-нибудь сосед спрашивал из любопытства – чего ради, они отвечали просто:
– Видите ли, это великий человек, один из самых великих с сотворенья мира. Но мир устроен так, что несется вскачь, за ним знай поспевай, иначе не угонишься. А он для этой суеты слишком стар и не может скакать как заяц, поэтому мир его забыл. Но мы – не забыли.
Николя де Бонневиль был редактор газеты, либерал и республиканец. Жена его, добродушная и молодая, горячо верила во все, во что бы ни верил ее муж. Она была родом из деревни, по-крестьянски терпеливо относилась к причудам старости, а потому – и потому еще, что так велел ей муж, – мирилась с присутствием неряшливого старика, чья комната была завалена газетами, книгами, мелкой механикой собственного изобретенья, пустыми бутылками из-под спиртного и ворохами рукописей, из коих иные изредка появлялись в газете ее мужа.
Однажды, осенним утром 1797 года, у парадной двери Бонневилей появился невысокий полный незнакомец и спросил гражданина Томаса Пейна. Госпожа Бонневиль в первую минуту покосилась на него подозрительно – присмотрелась – узнала – разразилась бессвязными взволнованными приветствиями, повела в гостиную, предложила стакан вина, от которого он отказался, сунулась туда-сюда, плохо соображая от волненья, и, наконец, застучала каблуками вверх по лестнице звать гражданина Пейна.
Пейн, погруженный в работу над рукописью, поднял брови, когда она влетела в комнату, и осведомился, не пожар ли в доме. Хозяйка дома пропустила эту несерьезную реплику мимо ушей.
– Мсье, там у нас внизу Бонапарт! – выпалила она, не дыша.
– Кто?
– Слушайте, мсье, слушайте меня очень внимательно. У меня в гостиной, внизу, сидит сейчас, вот в эту самую минуту, Наполеон Бонапарт и ждет, когда он сможет поговорить с гражданином Томасом Пейном. Вы меня поняли? Пришел сюда, один, переговорить с гражданином Томасом Пейном – только для этого!
– Понимаю, конечно, чего тут не понять, – проворчал Пейн. – Не кричите, пожалуйста. Ступайте вниз и скажите ему, пусть уходит.
– Что? Мсье, вы все же, очевидно, не так поняли. Я говорю…
– Да знаю я, что вы говорите. Идите скажите ему, у меня для бандитов и злодеев нет времени.
– Нет-нет-нет-нет, – вздохнула мадам Бонневиль. – Нет-нет, этого я вам не позволю – этого здесь, под моей крышей, не будет. Я много с чем мирилась, и грязь спускала вам, и пьянство, и шум, но чтобы ко мне в дом пришел генерал Франции, знаменитый человек, и его прогнали – этого я не допущу.
– Я, кажется, плачу за стол и за квартиру, – буркнул Пейн.
– Нет, мсье, тут дело не в деньгах, хоть вы платили бы вдвое больше. Вы примете Бонапарта, иначе…
– Ну ладно, хорошо, приму, – фыркнул Пейн. – Давайте его сюда.
– Сюда? В этот…
– А чем тут плохо? Я-то живу здесь, и ничего.
– Нет, нет и нет, мсье, – вы спуститесь в гостиную.
Пейн пожал плечами.
– В гостиную так в гостиную. – И за нею следом спустился вниз.
Когда они вошли в гостиную, Бонапарт встал и поклонился, и Пейна тотчас поразила внешняя незначительность этого человека, коротконогое полное туловище при неожиданно худом лице; лавочник – да, пожалуй, но уж никак не великий генерал, воитель, злой гений, кромсающий последние остатки Французской Республики, а с ними вместе – все надежды и упованья людей доброй воли.
Как прискорбно, подумалось старику, что величайшие в мире герои физически реализуются столь неудачно!
– Вы – гражданин Пейн, – произнес Наполеон. – Я – Бонапарт… Ждал этого дня с надеждой и нетерпеньем. Не часто нам дано увидеть воочию великих всех времен. Они уходят, и нам остается довольствоваться легендами. Но вот я стою лицом к лицу с величайшей из легенд – гражданином Пейном!
Такого Пейн не ожидал; это обезоружило его, пробило брешь в его броне, в панцире обдуманной вражды к этому человеку, олицетворяющему все, что Пейн считал злом. Он был старик, он устал от одиночества, от бесконечных поношений – здесь ему отдавали дань признанья.
Он сказал:
– Благодарю, генерал.
– Не генерал, для гражданина Пейна – гражданин Бонапарт. Друг мой, садитесь, сделайте одолженье. – Привычка повелевать сказывалась даже в просьбе, в незначащем проявлении любезности.
Пейн опустился на стул; Наполеон во время разговора прохаживался взад-вперед, наклонив голову, сцепив руки на спине жестом, уже неотделимым от его образа.
– Гражданин Пейн, – начал Наполеон, – что бы вы ни думали обо мне, скажу вам, что я о вас думаю, – думаю, что в каждом городе на земле надлежит воздвигнуть ваше изваянье из чистого золота, что труды ваши должно хранить как святыню – святыню, говорю я. Мне ли это не знать? Я ли не читал «Здравый смысл», «Права Человека», «Век разума»? Читал и перечитывал – поверьте! Я ложусь спать и кладу под подушку «Права Человека», дабы, если случится, что ночь пройдет без сна, бессонница не обокрала меня, но, напротив, обогатила. Только мы двое, вы да я, – истинные республиканцы, лишь нашему с вам взору открыты заоблачные дали! Соединенные Штаты Земли? Согласен с вами. Я говорю – долой самодержавие, долой диктатуру! Я подхвачу факел, зажженный вами!
Пейну лишь оставалось сидеть и не верить своим ушам. Слова… Много ли они значат? Возможно ли, что он составил неверное мнение об этом приземистом человечке? Возможно ли, что вот так, под хвастливую трескотню, и сбывается утопия – или все же как-то иначе? Он не знал; у него голова шла кругом. Быть может, он вранья наслушался про Бонапарта, ведь и о нем самом столько врут.
– Вы мне нужны, – говорил Наполеон. – Мы с вами оба посвятили себя человечеству, Французской Республике – и если станем работать вместе, как знать, к каким высотам приведут мечты гражданина Пейна и гражданина Бонапарта?.. Я созываю в скором времени военный совет, и, если б вы в нем согласились принять участие, это мне было бы честью и наградой.
Старик смотрел на него во все глаза.
– Так вы согласны? – Бонапарт улыбнулся; он умел улыбнуться неотразимо, надо было отдать ему справедливость.
– Я подумаю. – Пейн покивал головой. – Подумаю.
Когда Наполеон ушел, Пейн поднялся к себе, отмахнувшись от госпожи Бонневиль, которой не терпелось услышать дословный отчет о разговоре. Он хотел побыть один, хотел оглянуться назад и посмотреть, что привело его к нынешнему положенью. И первое, что очень ясно увидел, закрыв за собою дверь, было, каков он сам – мусор и грязь вокруг, старый засаленный халат на плечах, траур под ногтями, взлохмаченные седые патлы. Отыскал гребень и стал расчесывать редеющие пряди, стараясь мысленно подытожить свои последние годы в республиканской Франции.
Так – чтó, откликнуться ему на зов Бонапарта? А почему бы и нет, спрашивал он себя. Вернулся же он в Конвент? Не он отступился от людей – это люди отступились от него и его принципов. Если единственной надеждой оставался Бонапарт, значит, он пойдет к Бонапарту.
Вновь возвратилась надежда, вернулось будущее; он был опять Томас Пейн, поборник человечества. Он будет заседать в военном совете, созванном Бонапартом.
Сбрив щетину, придирчиво оглядел себя в зеркале. Помолодел на десять лет – неважно, сколько ты прожил; важно, каким себя ощущаешь. Когда Франклин был в его возрасте, еще и революция не начиналась. О Пейне будут говорить, что он начал жизнь заново в шестьдесят лет, наглядно доказал миру, что мозг не подвластен старости.
Деньги у него были – его книги охотно покупали – и он азартно набил ими бумажник. К чертям заботы о будущем. Первое дело – платье, и уж потом – парикмахер; к парикмахеру не пойдешь в лохмотьях.
У портного его встретили надменно поднятой бровью, и он вспылил:
– Это еще что такое? Я – гражданин Пейн, понятно, каналья? А ну, показывайте ваши моды.
– Парадное что-нибудь изволите? Для торжественных случаев?
Что-нибудь, в чем пойти на военный совет, – уронил он со всей небрежностью, на которую был способен. – Там будет Бонапарт.
Поднялась торопливая возня, забегали приказчики.
– Я думаю, что-то простое, черное.
– Натурально, черное, гражданин. В подобном случае уместно рекомендовать костюм черной шерсти, в соответствии с вашими данными – ну и, пожалуй, кое-где подпустить атласу для большей представительности…
Он накупил рубашек, башмаков, чулок: у генералов Франции не будет повода морщить нос при виде Тома Пейна. Затем, облачась во все новое, отправился к парикмахеру. От парижского парикмахера секретов не бывает.
– Я выгляжу слишком старым, – сказал Пейн, – непозволительно старым. Когда вам предстоит работа, предстоят встречи – важные встречи с важными людьми, – то вам желательно производить определенное впечатленье.
Наивно пытаться сбросить бремя лет такими ухищреньями; когда Пейн вернулся вновь в дом Бонневилей, наступила реакция. Разодетый с иголочки, он сидел в гостиной, уставясь неподвижным взглядом туда, где давеча был Бонапарт; коротконогий человечек с худым лицом и повелительным голосом; спаситель рода человеческого…
Вошел Бонневиль, взглянул на Пейна с удивлением, но вежливо воздержался от замечаний.
– Вырядился, ровно попугай, – усмехнулся Пейн, сокрушенно покрутив головой. – Ну как, нравится вам, Николя?
– Очень, – кивнул Бонневиль.
– Необходимость, – передернул плечами Пейн. – Начинаю новую карьеру. Когда все пропало и развеялось прахом, ко мне является сам великий Наполеон Бонапарт, исповедуется мне, сообщает, что каждую ночь ложится спать с «Правами Человека» под подушкой. Либо у него подушка слишком плоская, либо я в этом человека ошибался… – Пейн откинулся на спинку стула, на мгновенье закрыл глаза и прошептал: – Николя, мне страшно. Это последняя моя надежда. Что, если она окажется ложной?
Когда он вошел в комнату, где должен был происходить совет, каждый из присутствующих – будь то армейский чин, офицер инженерной службы, адмирал, генерал, политический советник, – встал и раскланялся с ним под зорким оком Бонапарта, который, со знакомой уже неотразимой улыбкой, повторял:
– Перед вами гражданин Пейн, господа, о котором вы, без сомненья, слышали. Ежели вам в военных походах случалось видеть меня с книжкой в руках, то можете быть уверены, это было одно из сочинений гражданина Пейна. Представляю вам, господа, первого республиканца.
Каждый из них был счастлив познакомиться с гражданином Пейном. Кое-кого он знал, о большинстве – слышал, об этих генералах и советниках Бонапарта; одни были интриганы, другие – с открытыми, честными лицами – начинали свой путь в синих блузах национальной милиции, еще в далекие, окутанные дымкой дни Республики, и были ныне несколько смущены – хоть, впрочем, и безмерно польщены тем, что поднялись так высоко. Некоторые были в прошлом приближенными Робеспьера и поглядывали на Пейна не слишком дружелюбно; иные первоначально принадлежали к жирондистам. Протяженность времени с тех пор исчислялась скорее событиями, не годами; почти все члены совета были молоды, и Пейн среди них стоял неловко, точно некий осколок прошлого.
Впервые в кругу руководителей Франции он ощущал такую подчеркнутую, резкую отчужденность. Прежде Франция не отделяла себя от мира; Париж был средоточием цивилизации, и революция ни от кого не отгораживалась. Даже в самые страшные дни террора, когда революция, словно обезумев, разила вслепую направо и налево, это делалось с целью самозащиты, а не утвержденья своей исключительности. И с самого начала много, очень много иностранцев заседало вместе с французами в Национальном Конвенте. Светловолосые, с серьезными и усталыми лицами поляки-радикалы приезжали в Париж, отвоевав плечом к плечу с американцами в их революции; сотнями приезжали также изгнанники-англичане; пруссаки, возненавидев то, чему стала олицетвореньем Пруссия; итальянцы с мечтою о свободной Италии; испанцы с мечтою о свободной Испании – всех свел воедино Париж, ибо Париж был душой и сердцем революции, и всех их радостно принимали парижане.
Все это теперь осталось в прошлом; здесь собрался замкнутый, узкий кружок, и объяснялись здесь на одном-единственном языке – языке военного захвата. Довольно; наболтались о свободе, равенстве, братстве и прочей чепухе; пришел Наполеон Бонапарт.
Ему говорили, рады приветствовать вас, гражданин Пейн, а сами думали – и он это знал, – как бы использовать этого англичанина в наших интересах.
Когда он отваживался сказать что-нибудь – а его французский, даже по истеченьи стольких лет, прожитых во Франции, все-таки оставался ужасен, – они не могли сдержаться и кривили рот, заслышав его произношение; когда же сами хотели сказать то, что ему было, по их мнению, знать не обязательно, – переходили на летучую, порхающую местную скороговорку, представляющую для Пейна набор звуков, полностью лишенных смысла.
Наконец все собрались, и в совете воцарился порядок. Расселись как бы подковой, у открытого конца которой стоял за маленьким столиком Наполеон. Рядом был стул, однако за все время заседанья он так ни разу и не присел. Большею частью расхаживал взад-вперед, как бы снедаемый нервной энергией, не дающей ему ни минуты покоя. Когда он говорил, то по-птичьи выставлял вперед голову; изредка выбрасывал руку, указывая на того, к кому обращался. У Пейна было ощущенье, что, рассчитывая, замышляя, обдумывая, принимая молниеносные решенья, он одновременно ни на миг не забывал о том, как низок ростом, полнотел, как мало соответствует физически образу великого завоевателя. Французский язык его был не таков, как у других; он скрежетал, резал слух, а не ласкал его; слова выскакивали отрывисто и сыпались трескучими очередями. Он мог держаться властно, а через мгновенье становиться смиренным и кротким; в минуты гнева он стряхивал на высокий белый лоб, на глаза прядь черных волос. Противоречить ему возможно было лишь в тех случаях, когда он давал понять, что сам хочет этого.








