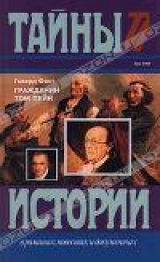
Текст книги "Гражданин Том Пейн"
Автор книги: Говард Фаст
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 20 страниц)
– Отец такую будет читать с удовольствием, – сказала она.
О любви между ними не было сказано ни слова; он ни разу не поцеловал ее. Если он засиживался до вечера, когда детей укладывали спать, они могли прогуляться вдвоем по тропинке, покуда Джейкоб курил на крыльце свою трубку. Светила луна, то полная то на ущербе, птицы любезничали в потемках и состязались со сверчками в хоровом пении; издали доносился лай собак. И все же он не удивился, когда в один такой вечер она сказала:
– Вы хотите просить моей руки, Том?
И прибавила, как будто отвечая ему на вопрос:
– Мать говорит, очень уж велика разница в годах, но я на это не погляжу. Вы пришлись мне по сердцу, Том, и я, кажется, полюбила вас всей душой.
Простая душа, решил он, простушка, только и всего, – но волна боли окатила его, палящей, безнадежной боли, и он понял, что ничего в жизни так не желал, как эту светловолосую девушку. Сделалось вдруг неважно, любит он ее или нет, она была ему первой и последней доброй надеждой – была тем единственным, что пробуждает человеческое в мужчине, а с этих пор ничто человеческое для него существовать уже не будет, он с этих пор обречен идти своей дорогой в молчании и один.
Они прошли немного дальше, сели на каменную ограду; он сказал ей:
– Я уже был женат два раза.
Она взглянула на него без упрека, и он рассказал ей, кто была его первая жена и как она умерла.
– Это горестная история, – сказала она, по-прежнему без упрека, но он понял, что все кончено, бесповоротно и навсегда, что Сара снова ожила, освободилась от горбоносого, странного бродяги. Ему бы надо было уйти, но он хотел рассказать ей, хотел оправдаться в том, чему не требовались оправданья. Чтобы она поняла, как бывает, когда ты сломлен и ищешь себе убежища, словно зверь – норы, но только у таких, как она, с таким образом жизни и мыслей, чувство достоинства сломить нельзя, можно лишь уничтожить вместе с человеком. Рассказывал мучительно долго, с остановками, о том, что произошло через девять лет после того, как умерла его первая жена, когда он опустился на самое дно, но что могла знать о тех, кто очутился на дне, такая, как она, с ее здоровьем и щедрой жизненной силой? Он пытался ей рассказать, чем вынужден был заниматься те девять лет и каким адом для бедняков был Лондон; о яростной, не находящей себе исхода жажде быть свободным, о профессиях, которые он перепробовал, об унижениях, нищете, о быстротечных приливах надежды, когда он вместе с методистами проповедовал на лесных полянах: «Отриньте грех и придите в объятья Господни…» – а после надежда исчезала, и ступени вели все ниже, покуда наконец не достигли дна, когда ниже уже некуда, где полная безнадежность и нет впереди ничего, кроме смерти.
– И тогда меня приютил один человек, – рассказал он. – Хороший человек. Он содержал табачную лавчонку и почти ничего не имел за душой, но все же приютил меня. Подобно Христу, он различал людей не по добру и злу, а лишь по слабости и силе. Я, видит Бог, принадлежал к слабым. Я умирал.
Но чего стоила твоя жизнь, подумала она, быть может, увидев перед собою на мгновенье эти картины ада.
– Так был я перед ним в долгу? – спросил он ее.
– Да.
– Потом он умер. Остались его жена и дочь. Я хотел заботиться о них и продолжал жить в их доме. А там пошли разговоры, и ради спокойствия матери я женился на девушке, которую не любил…
Это она могла понять.
Он старался рассказать ей о том, как захирела их торговлишка, и без того-то убогая, жалкая; как его постепенно возненавидела жена, как пробовал он помогать другим, делать добро по мере сил. Но слова больше ничего не значили. Словами нельзя было передать, как жена презирала его, как она его бросила, как он страшился долговой тюрьмы, как бежал. Он стремился ничего не приукрасить, но чем безжалостнее разоблачал он себя в своем смиренье, тем меньше Сара была способна понять. Этот – даже не мир, а полумир, страшный сумеречный край безнадежности был для нее столь же далек и нереален, как песчаные пустыни Египта. Для нее человек был существом из плоти и крови, а не из боли, ужаса и страданий.
Когда он пожелал ей доброй ночи, он знал, что уже не вернется назад, – он уходил, и, глядя ему вслед без облегченья и без горечи, она стояла и думала о том, как он напишет небольшую книжку, чтобы людям было ясно, что к чему.
В Филадельфии стало поспокойней. Члены Второго Континентального конгресса, высказав все, что только возможно, и ничего, по сути, не достигнув, вспомнили о своих фермах и имениях, о своих мельницах, лавках и винокурнях и, по одному, по двое, незаметно удалились из Филадельфии. Новый виргинец-главнокомандующий, генерал Джордж Вашингтон, не спеша тронулся на север, к Бостону, дабы возглавить несколько тысяч янки, которые теперь рыхлым кольцом сомкнулись вокруг города, образуя своего Рода осаду. Кровавая битва, известная впоследствии под именем Банкерхилльской, хотя в то время это место называлось Бридс-хилл, была еще достаточно свежа в памяти англичан, что побуждало их действовать с сугубой осторожностью, – словом, то было положение вещей, когда каждая сторона ждала, чтобы следующий шаг предприняла другая.
В Филадельфии медлительно тянулось знойное лето. Предусмотрительные лавочники, чувствуя, что очередная буря развеяла пути, убрали ставни со своих витрин, и вообще горожане были вполне довольны, что события не дошли до крайней черты.
Пейн тем временем не отрывался от города, жил его жизнью ощущал его пульс. Он больше не бывал у Рамплов после тот памятного вечера и испытывал мрачное удовлетворение оттого, что этот случай не выбил снова почву у него из-под ног. Кропотливо и трудно строил он из бесформенных, грязных осколков своей жизни некий план, направление, метод. Его не смущало теперь, что он идет в одиночку, – он уже отчетливо знал, что хочет делать, и с тревожной уверенностью предчувствовал, что со временем эта определенность лишь усилится. В мирной жизни процветающей фермы судьба явила ему образ света, добра, покоя – и все же он был ей, пожалуй, благодарен, что она ему в этом отказала.
В его маленькой комнатке помещались кровать с изголовьем, комод, вешалка с двумя парами вполне приличного платья, стол, на нем – чернила и бумага. И довольно, большего человеку не требуется. Разве что еще мелкие деньги на свечи, на еду, на выпивку. Он в это время не разрешал себе больше напиваться, но и не видел смысла в том, чтобы вовсе лишать себя спиртного. Ром помогал; очень мало заботясь о себе самом и о том, что с ним станется, Пейн готов был прибегнуть к любому средству, лишь бы перо легче двигалось по бумаге.
Он искал воплощенья своим мыслям, он созидал нечто из ничего, и после пяти, шести, семи часов такой работы стены комнатки начинали надвигаться на него. Помогал ром; он пил, движения его замедлялись, тяжелели, но зато перо продолжало царапать бумагу, а только это одно и имело значение. Он не предавался самообману: то, что он напишет, прочтут, возможно, человек десять, не более, но лишь это он мог – и это должен был сделать. Новый мир не построишь за день, за два, его возводят по кирпичику, и труд это долгий и неимоверно мучительный.
Сам того не замечая, он запустил свою внешность, по целым суткам подчас не выходил из комнаты, стал реже бриться; стараясь подольше растянуть свой скудный денежный запас, снашивал чулки до дыр, одежду до лохмотьев. Жители Филадельфии, когда им случалось обратить внимание на эту перемену, говорили, что Эйткен умно поступил, рассчитав его. Говорили, еще удачно отделался от эдакого сокровища. Денег оставалось всего ничего, и Пейн просидел ночь, сочиняя стихи, а назавтра отнес их к Эйткену, который дал ему за них фунт стерлингов – явно больше, чем они стоили. Твердокаменный шотландец таил в глубине души нежность к этому человеку, корпящему над бумагой с бычьим упорством и детской верой в то, что мир захочет услышать, какой найден путь для его избавления.
– Как подвигается шедевр? – спросил его Эйткен.
– Это не шедевр. Это попытка прибегнуть к здравому смыслу, которого мне самому, видит Бог, ой как недостает.
– У меня напечатать не надейтесь, зря только будете просить.
Пейн усмехнулся.
– Поужинать не останетесь у меня?
– Это можно, – кивнул Пейн.
Он уже и не помнил, когда последний раз ел по-человечески, и потом, его вдруг потянуло побыть среди знакомых людей. У Эйткена за столом был Джошуа Крейг, торговец полотном, который вернулся недавно из Англии, переполненный впечатлениями о том, как относятся к восстанию в Лондоне.
– На стороне колоний больше народу, чем против, – говорил Крейг. – Можно подумать, восстание зреет там, а не здесь.
– Да, наверное, так оно и есть, – задумчиво сказал Пейн.
– То есть как это, уважаемый, понимать?
Пейн пожал плечами и уклонился от ответа. Лишь смутно рисовалась ему картина обновленного мира, мечта о братстве столь всеобъемлющем и полном, что даже от неясного представления о нем захватывало дух и слова не шли на язык.
Джефферсон решительно не замечал бедности Пейна, его погрешностей в вопросах туалета; Джефферсон переживал период влюбленности в простого человека и был в свои тридцать два года еще столь молод, что верил в осуществимость своих воззрений. Аристократ чистой воды, он поражался – хоть поражаться бы не следовало – тому, что Пейн на основании житейского опыта пришел примерно к тем же выводам, что и он, Джефферсон, основываясь на книгах и философских учениях. Однако если взлелеянная в мечтах идея демократии приобрела для Джефферсона реальные очертания, то принять идею революции он до конца не мог. С Пейном же обстояло как раз наоборот, и он по своим мыслям и взглядам стоял куда ближе к простому труженику, нежели мог когда-либо стать Джефферсон. Слушая, как Пейн читает отрывки из того, что им написано, Джефферсон спрашивал себя, сознает ли Пейн, какую бомбу бросает в тихий мир восемнадцатого века. Пейн читал хрипло, напряженно, стесняясь перед Джефферсоном:
– «Дéла более славного еще не видел подзвездный мир. Не отдельного Города дело, не отдельного Графства, Провинции или Королевства, но континента – по крайне мере, одной восьмой части обитаемой земли. Не на один день забота, не на год, не на столетье: в противоборство вовлечены, по сути, будущие поколения, от нынешнего его исхода зависят так или иначе судьбы людей до скончания времен. Наступила пора сеять зерна единства на континенте, зерна веры и чести. Малейший раскол теперь подобен был бы имени, нацарапанному острием булавки на нежной коре молодого дуба; рана будет расти вместе с деревцем и предстанет глазам потомков для прочтения в полный рост…»
Стиль отсутствовал, слова звучали резко и нестройно, будто в проповеди священника-методиста, вбивались в сознание неистовыми ударами молота. Они легко запоминались, под их железный ритм удобно было стучать молотком, толкать перед собою плуг…
– «О вы, кому дорог род человеческий! Кто смеет противостоять не только тирании, но и тирану, – вперед! Нет в Старом Свете уголка, где люди не задыхались бы от гнета. Свобода изгнана из всех краев Земли. В Азии и Африке ее давно истребили, в Европе отвергают как чужестранку, а в Англии ей угрожают депортацией. Примите же изгнанницу, и вы построите для человечества в будущем прибежище на все времена».
Джефферсон слушал, не улыбаясь; ремесленник, обязанный Библии своими крохами познаний о стиле, хрипло выкрикивающий человечеству новый символ веры на языке, каким пользуется захолустный проповедник, говорил тем не менее то, о чем никто не дерзал сказать открыто.
– И как это будет называться? – спросил Джефферсон.
– Я думаю, «Здравый смысл». Тут, кроме этого, и нет ничего.
О том, что надумал Пейн, стало известно.
– Здраво мыслит, – говорили люди.
– К расколу призывает, – говорили. – К ненависти и смуте. К отделению от метрополии.
Или:
– Ишь, еще один «Здравый смысл» объявился, – когда кто-нибудь высказывался в пользу независимости тринадцати американских колоний.
Небольшая книжка, чтобы люди научились думать.
– Разумеется, отделение – в должное время, – сказал ему как-то старик Бен Франклин. – Пока же смотрите, Пейн, будьте осторожны.
Рукопись он повсюду таскал с собой – измятые, перепачканные чернилами листки бумаги – и, сидя за плошкой рома в трактире, писал, правил, опять писал, вымарывал: составлял по крупицам будущее Америки.
– Все доискиваетесь здравого смысла? – спрашивали у него.
Во все, что он писал, он вплетал Библию. К чертям господ эстетов, говорил он себе. За оружие возьмется человек, который ходит за плугом, а тот, кто ходит за плугом, читает одну лишь книгу и верит только ей. И он, когда возможно, брал из Библий все, что возможно, и вплетал в ткань своих слов. Однажды вечером в кофейне, хватив лишнего, стал читать вслух. Конечно, в этом был здравый смысл, и Пейн собрал толпу, и, видно, недаром говорится, что нечистый и на Писание сошлется, когда надобно.
– Провались вы все, будь вы прокляты! – гремел он, обращаясь к хорошо одетым, вальяжным филадельфийским купцам.
Ну и в итоге, возвращаясь из кофейни домой, подвергся нападению – человек десять молодых лиходеев в клочья изорвали его рукопись, а его самого вываляли в грязи и избили, спустили ему штаны и отвесили плетью по заднице три десятка горячих.
Он об этом звука никому не проронил, а когда к нему зашел Эйткен и сказал, что, пожалуй, догадывается, кто учинил эту расправу, Пейн только покачал головой.
– Неважно. Те несколько страничек, что они порвали, я помню наизусть.
– Но вы-то, вы сами, чудак!
– Да ничего, – сказал Пейн коротко. – Выживу.
Преподобный Джард Хит из квакерского «Общества друзей» изложил Пейну то же самое иным способом.
Хит, маленький, со слезящимися глазками, сказал Пейну проникновенно:
– Ты, Томас, не ведаешь, что творишь.
– Что же это я такое творю, о чем сам не ведаю? – осведомился Пейн.
– Ты вот пишешь про независимость, но тем восстанавливаешь брата против брата, отца против сына, работника против хозяина. Кто, Томас, ратует за независимость? Да будет тебе известно, не добрые люди, не сердобольные, не кроткие, а те, кто вечно недоволен, кто подвергает осмеянию Бога – чужие среди нас. Ты принадлежишь к таким, как мы, и, однако же, пишешь вещи, которые влекут нас к кровопролитию.
– Я и ко многим другим принадлежу, – устало сказал Пейн, не желая обидеть маленького человечка, вызывающего в нем воспоминания об отце, о дядьях, о старом молельном доме в Тетфорде.
– Приди к нам и молись, и ты узришь свет…
Лето прошло; багряная, рыжая, бурая листва, шурша, ложилась на булыжные мостовые Филадельфии, с северо-запада подули холодные чистые ветры, а Пейн по-прежнему сидел и черкал листы бумаги. Вещь была завершена – или ей не было завершенья, он не знал. Он написал небольшую книжку, чтобы людям стало ясно, что к чему, – и она взывала о независимости. С обдуманной злобой он разнес в пух и прах самую идею монархии. Он говорил о том, как долго человека распинали на кресте, и в выражениях, доступных пониманию любого крестьянина, призывал создать на этой доброй новой земле новый и добрый мир. Он даже решился предложить одну из возможных форм правления. И без конца, с томительным упорством, возвращался к главному: что – пусть ценою горестей, мук, кровопролития – здесь должна родиться новая, независимая страна.
На первой странице вывел, как бы заглаживая свое преступление: «Здравый смысл; писано англичанином».
Итак – завершенье; кипа бумаги, исписанной каракулями. Никто этого не прочтет – никто, вероятно, и печатать-то не возьмется; но то, ради чего он трудился, было сделано.
Им овладели усталость и безразличие; не было даже желания напиться зачарованный прохладой, знаменующей наступление осени, он лениво бродил по узким улочкам Старого города, вдыхая воздух, принесенный ветрами с просторов грозного и таинственного Запада. Никогда так не совершалась в Англии перемена времени года – круто и резко, чтобы воздух, омыв целый континент, звонко рушился любителей прибрежных прогулок, беглецов из Старого Света.
Обнаружилось – столь коротка людская память, хотя бы и на мишени грубых шуток, – что уже мало кто помнит его прозвище, Здравый Смысл, и немногим приходит в голову подтрунивать над ним. Его оставили в покое – что ж, тем лучше, говорил он себе то и дело.
Он дал прочесть готовую рукопись Эйткену; ни следа вражды между ними не оставалось, и Эйткен, вздев очки на нос, внимательно, ничего не пропуская, вчитывался в корявые строчки. Наконец он сказал:
– Недурная вещица, Томас, но ох и опасная, парень.
– Если прочтет кто-нибудь, – сказал Пейн.
– Я печатать не стану, но хотите – можно отнести к Бобби Беллу, он охоч до такого добра.
– Как скажете, – кивнул Пейн.
Белл, тоже шотландец, с носатым длинным лицом и руками, навек перепачканными типографской краской, поздоровался с Пейном и, приняв от него рукопись, облокотился на прилавок и погрузился в чтение. Пейн присел на стул, потом закрыл глаза, потом вздремнул немного и, очнувшись, увидел, что шотландец начал снова читать с первой страницы. Лицо его ни разу не дрогнуло, не изменило выражения, пока он перечитывал рукопись. Потом он аккуратно собрал ее, положил на прилавок и придавил сверху пресс-папье, чтобы не разлетелись листки.
– Не возьмете, – сказал Пейн.
– Да нет…
Пейн поднялся было, но шотландец остановил его:
– Погодите. Дохода обещать не могу, но набрать – наберу и напечатаю. Кто знает, разойдется или нет, а у меня закон – своим интересом не поступаться. И худого я в том не вижу.
– Не надо мне денег, – сказал Пейн. – Я написал это потому, что иначе не мог, вот и все. Если книжка принесет деньги, забирайте себе, мне не нужно.
– Ну что ж, если кому вздумалось положить мне в карман монету, я с таким человеком не спорю.
– То есть, значит, напечатаете.
– Сделаем, – сказал Белл скучным голосом.
Пейн встал и вышел из мастерской с тем же небрежным видом, с каким в ней появился.
VII. Здравый смысл
Бенджамин Раш, молодой врач из Филадельфии, давно уже пришедший к заключению, что человечество страдает не одними телесными недугами, рассказывал Бену Франклину о том, как Белл охладел к идее напечатать книжку Пейна.
– Струсил, по-моему, – говорил Раш. – И я его не виню. Он, как и сотни тысяч других, не понимает своей же пользы – иных забот хватает, как, впрочем, и всем нам, грешным, наверно… Черт, просто чем дольше думаешь, чем больше приходится поражаться, как это у лексингтонских фермеров хватило духу выстоять.
– А читали вы его книжку? – спросил Франклин.
– Читал.
– Ну и как, понравилось?
– О таком не говорят, нравится или не нравится. Так же как о порохе или кровопускании.
– Вы, конечно, добились того, чтобы Белл ее все-таки печатал.
– А что? Во-первых, он мой должник – ну и потом, я, признаться, слегка задел его за чувствительную струну.
– Таких понятий, как хорошо и дурно, больше не существует, – меланхолически размышлял вслух Франклин. – Мы эти соображения оставили позади и – вперед!
– Такие понятия очень даже существуют!
– Ну да. – Франклин пожал плечами. – Тысячу лет миром правят короли, и считалось, что это хорошо. Хорошо и справедливо, что маленькие люди страдают и гибнут. Что из них делают рабов – до того справедливо, что в цепях даже и надобности не было. – Он помолчал в нерешительности и прибавил: – Жалко, что я стар. Поглядеть бы…
– Если хотите прочесть книжку, – сказал Раш, – то она выходит на днях. Вы, вероятно, какие-то места смотрели в рукописи. Чем-чем, а скрытностью этот Пейн не отличается.
– Принесите мне экземплярчик, – кивнул головою Франклин, думая, что не без его участия открылся этот ящик Пандоры, и охваченный молодым нетерпеньем узнать, что-то собрался поведать людям Пейн, замыслив потрясти основы мирозданья.
Только что из печати, едва лишь сброшюрованная, она еще хранила запах краски и испачкала Пейну пальцы – тоненькая книжечка с клейкими, когда их перелистываешь страницами с крупными буквами заглавия на обложке: «Здравый смысл, писано англичанином».
– Вот вам, – сказал Белл.
Пейн сказал ему:
– Не хотелось бы, чтобы вы из-за нее пострадали.
На что Белл пожал плечами.
– Мне бы нужно купить несколько штук, – сказал Пейн.
Белл кивнул.
– Друзьям показать.
– Это можно.
– Вы мне уступите подешевле против обычной цены? – спросил Пейн, не в силах утаить беспокойство, нащупывая рук в кармане весь капитал, которым обладал.
– И это можно.
– Симпатичная получилась книжечка, – сказал Пейн.
Пакет отправлялся в Балтимор почтовым дилижансом, и не значилось на нем ни имени отправителя, ни указания о содержимом а только лишь место назначения: лавка мелкого книготорговца Маркуса Лида. Но кучера дилижанса, дабы заручиться его молчанием, Белл снабдил дюжиной экземпляров книжки и дозволеньем продавать ее самолично по два шиллинга всякому, кто пожелает. Пассажиры взяли одну на всех, коротать с нею время в пути, и очкастый толстый пастор Амос Калвуди, методист-проповедник, звучным голосом читал им вслух:
– «Есть в структуре Монархии нечто чрезвычайно нелепое. – Это пастор и сам всегда ощущал. – Она сначала изолирует человека от источников всякой информации, а затем наделяет властью действовать в случаях, когда требуется величайшая осведомленность…»
Мельник Джейкоб Статц, сидящий рядом с пастором, твердо знал, что хотя и не хлебом единым жив человек, но и без хлеба человеку тоже нельзя, и подумал сейчас, есть ли такой король на земле, чтоб хотя бы умел отличить один сорт муки от другого.
Путь не близкий, а шум в экипаже не утихал. Пастор лишний раз утвердился для всех в качестве правой руки Создателя, когда прочел:
– «Каким же образом досталась королю эта власть, которой люди боятся доверять и всегда вынуждены ставить ограниченья?»
– А действительно – каким? – спросила миссис Родерик Клуз. Пастор, из почтения к даме, снял шляпу.
– Право на это от Бога человеку не дано, – заявил он решительно.
– Никакого?
– Никакого, сударыня, говорю вам. У священника, возможно, – призвание, вдохновение, озаренье, ощущение близости к Создателю. Но право от Бога – нечто такое, сударыня, что, вы уж мне поверьте, исходит от Сатаны.
В старой кофейне Бракмейера собралась по зову доктора Раша необычная компания: Дэвид Риттенхаус, Джеймс Каннон, Кристофер Маршалл, Людвиг Рис и Амбертон Сент-Аллен – люди высокого и низкого звания, объединенные отчаянным чувством, что назад пути уже нет. Сознание, что их повесят одними из первых, когда в Филадельфию войдут красные мундиры, наполняло их ощущением романтики, ощущением жизни яркой, стремительной, доблестной. При всем том их подход был, скорее, умозрительным – идеалом им служил Бен Франклин, а не братья Адамс. Когда Раш сообщил, что созвал их, чтобы почитать им одну брошюрку, они кивнули в ответ, потребовали вина и приготовились слушать.
– Кто это написал – не столь важно, – сказал Раш и читал потом три часа, внятно, неторопливо, изредка отрываясь, чтобы ответить на вопрос по ходу дела, хотя ближе к концу его уже слушали молча, с пожирающим вниманием.
– Называется «Здравый смысл», – сказал он, когда закончил.
– Ну понятно, творенье Пейна, – кивнул Риттенхаус.
– Вот именно.
– «А если это государственное преступленье…» – переиначил кто-то Шекспира.
– Черт, сразу и не распознаешь – так безобидно, казалось бы.
– И почем она?
– Два шиллинга.
– Эх, подешевле бы надо.
– Думаете, будут покупать?
– Кто ж такое не купит, интересно? Он сущий дьявол, этот человек, он гений.
– Да нет, он крестьянин. Видели вы, какие у него руки – мясистые, тяжелые. Крестьянин, оттого-то и понимает нас, ведь мы – нация крестьян, лавочников, мастеровых. Появился у нас год назад, и уже знает, что у нас сидит в печенках. Не для вас он пишет и не для меня, а для тех, кто пашет землю и стоит у верстака, и, Боже ты мой, как он им льстит, как он умеет влезть им в нутро, ублажить их, как он их искушает, говорит с ними на их языке, убеждает их: «Разве это не разумно? Разве не подсказывает это здравый смысл? Почему вы не сделали это давным-давно? Да свершится для мира омовенье в крови тиранов! Вы, я, все остальные – отчего мы рабы, когда можем быть свободны?» Кто он – Христос или Сатана? Я не знаю. Знаю только, что когда эту штуку прочтут, с мирной жизнью придется проститься надолго.
– На сколько же?
– Не на десяток лет – возможно, на столетие, на два. А может, и навсегда, – как знать, рожден ли человек быть рабом или быть свободным.
Абрахам Мара вел торговлю с индейцами – нелюдимый мужчина, полный силы, но сумрачный, с тяжелым взглядом. Когда он мальчиком приехал в эту страну, его звали Абрахам бен-Ашер, а Марой, то есть горьким, [4]4
Ветхий Завет. Книга Руфь, 1, 20.
[Закрыть]прозвали за то, что характер у него был не сахар, и когда он с возрастом начал все больше жить в темных лесах, то стал и сам, как здесь принято, называть себя по прозвищу: Абрахам Мара. Он был еврей, но в синагоге его считали крамольником.
– Я человек свободный, – говорил он, – и Богу не обязан ничем.
Но когда собирали пожертвования на храм, он не скупился. И на что ему деньги, говорили люди. Ни дома, ни жены, ни хозяйства – один тюк на плечо, на другое – длинноствольное охотничье ружье, и пошел скитаться месяцами невесть где. Он хорошо знал индейцев – шони, майами, вияндотов, гуронов, – и они его знали. Все они охотились на пушного зверя, и случалось, исчезнув на полгода в глухие леса, он возвращался с целым состоянием в шкурках, навьюченных на спины своих мулов. Теперь, снаряжаясь снова в путь, он зашел к Беллу и купил двадцать экземпляров книжки Пейна.
Зачем вам столько, Абрахам? – спросил Белл.
Потому что я ее читал и потому что в тех местах, где бываю, имеют привычку семь раз отмерить и в конце концов все ж остаться дома на печи.
Первую книжку он принес в Форт-Питт. Форт уже захватил Джон Невилл с отрядом виргинских ополченцев, и сейчас люди сидели здесь без дела, от безделья пьянствовали и подумывали, не вернуться ли по домам и стоило ли вообще браться за оружие, когда что-то в этом не видно ни цели, ни смысла. Народ подобрался рослый, суровый, большинство – в охотничьих кожаных фуфайках, потемневших от грязи; большинство последние десять лет не имело дела с печатным словом. Но, как отметил лейтенант Кеп Хеди, если еврей что-то отдает задаром, значит, это неспроста. При свете бивачного костра Хеди читал вслух:
– «Королю в Англии мало что приходится делать, разве что развязывать войны и раздавать теплые местечки – то есть, проще говоря, разорять нацию и сеять в ней раздор. Поистине славное занятие для человека, которому причитается за это восемьсот тысяч в год серебром и в придачу – всеобщее поклонение! В глазах общества, как и в очах Всевышнего, один честный человек стоит больше, чем все коронованные мерзавцы с сотворения света».
Все это были вещи, какие виргинцу слышать любо-дорого.
– Валяйте дальше, – говорили ополченцы лейтенанту.
Путь Мары был долог и извилист. Одна книжка задержалась в кентукском укреплении, другая – в одном из укреплений Огайо; экземпляр был оставлен в приозерной хижине в обмен на обещание передать его по прочтении дальше. Три штуки он приберег для канадцев с пушных факторий, подданных Франции, которым отдавал предпочтение перед всеми прочими жителями Америки, а один экземпляр «Здравого смысла» Мара, отдуваясь от натуги, переводил страницу за страницей на язык индейцев, сидя в ирокезском вигваме.
У генерала Джорджа Вашингтона, виргинца, было смутно на душе: он покинул свой Маунт-Вернон, свою любимую Виргинию, широкий и величавый Потомак, расстался с милыми сердцу земными радостями, составляющими его жизнь: с сочными лугами, фруктовыми садами, добрым вином в своих богатых погребах – и вот застрял тут под Бостоном во главе нескольких тысяч своевольных, ленивых, не поддающихся никакой дисциплине янки из Новой Англии. Война, по сути дела, приостановилась, однако сомненья у людей мыслящих, но не слишком представляющих себе, чтó все это означает и куда их может завести, продолжались. У Вашингтона, который ввязался в эту историю без четких представлений о цели ее и средствах – просто из страстной любви к земле, которую возделывал, из свойственного порядочному человеку уважения к собственному достоинству и достоинству своих друзей, а также из отвращения к тем способам, какими пользовались англичане, скупая у него табак, – сомнения возрастали неуклонно с каждым днем. Слишком уж часто повторялось слово «независимость», слишком в нем явственно звучал призыв к насилию: жги, грабь, убивай – переделывай мир! Вашингтон любил тот мир, в котором жил; земля была хороша, плоды ее – и того лучше. И переделывать этот совсем неплохой мир ради пугающего своей неопределенностью будущего…
В этом-то умонастроении и сел он за книжку, доставленную с нарочным из Филадельфии. Называлась книжка «Здравый смысл». «…Вам любопытно будет узнать, – писал ему Джефферсон, – что она принадлежит перу Пейна, я думаю, вы помните его. У него и правда есть здравые мысли насчет того, как создать сильную и единую нацию, и он считает, что мы уже вступили в войну за свою свободу…»
Чудной народ жил в Вермонте. «Вот уж истинно грешники, – отзывался о них один пастор из Виргинии. – Слишком много берут на себя. Столбы для заборов ставят из тесаного камня, как бы говоря, что не сочтены для человека дни земной его жизни». Неразговорчивый к тому же народ и зябкий, носы себе кутают от холода и нипочем не истратят гроша, покуда его прежде не заработают. Недаром ходила пословица, что, дескать, хоть и круты мужчины в Мэне, а в Вермонте – того круче; что, дескать, в Мэне прижимистые живут, а в Вермонте – и вовсе скареды. А те, кто был не весьма разборчив в выражениях, прибавляли: девчонку из Вермонта голыми руками не возьмешь.
Вермонтец уважал цифирь; он любил знать, что дважды два – четыре, и с подозрением относился к болтовне об идеалах. Независимость – что ж, недурно, но чтобы кто-нибудь в Вермонте схватился за оружие и сломя голову кинулся на выручку чужакам из Нью-Йорка и Нью-Джерси – это дудки. Да и вообще, утверждала молва на зеленых холмах, средние области – они вроде как не наши, а голландские, неделями будешь бродить по ихней земле и английского словечка не услышишь.
«Здравый смысл» они приняли настороженно. Через несколько недель после выхода книжки Хайрам Джексон, торговец кожами, привез дюжину экземпляров через нью-гэмпширскую границу в Вермонт и роздал фермерам, у которых скупал шкуры.
– Бостонская стряпня, – объявил он, что было на его языке общим названием для всего хотя бы мало-мальски подстрекательского.
Читали их внимательно; там, где Пейн указывал, что среди жителей Пенсильвании выходцы из Англии составляют меньше трети, видели подтверждение тому, о чем сами давно догадывались; когда дошли до места, где утверждалось, что и с деловой точки зрения выгодней отделиться от Империи, их потянуло читать дальше. Один экземпляр попал в руки Иеремии Корниша, печатника из Беннигтона. Потолковав о новинке дня три с соседями, он сделал для себя благоприятное заключение и, рассудив, что Пенсильвания достаточно далеко – во всяком случае, чтобы не приносить автору извинения и не выплачивать гонорар, – набрал книжку сам. Первый тираж в тысячу экземпляров разошелся по шиллингу четыре пенса за штуку с быстротою молнии, и Иеремия, почуяв невдалеке возможность скромной, но вполне приличной наживы, выпустил еще пятьсот экземпляров и послал их в Нью-Гэмпшир. В Нью-Гэмпшире печатник Икебод Льюис, хорошо знакомый с нравами вермонтцев, заподозрил, что Корниш переиздал книгу незаконно, а раз так, то и ему тоже можно – только он напечатал уже три тысячи экземпляров и тысячу двести из них послал в Мэн. В Мэне люди славились бережливостью, но памфлет им понравился, в нем излагались разумные мысли, они странным образом перекликались с их собственными соображениями – и любопытно, что точно так же они перекликались с тем, что думали люди в Вермонте, Нью-Гэмпшире, Массачусетсе, Нью-Йорке и всех других колониях, кончая крайним Югом. Очень подходящая вещь для жарких споров вечерком после работы, да и за работой о ней невредно помозговать. А в Мэне книжку все же перепечатывать не стали; передавали из рук в руки, покамест не зачитали до дыр.








