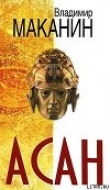Текст книги "Путешествие души [Журнальный вариант]"
Автор книги: Георгий Семенов
Жанр:
Разное
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 17 страниц)
«Аппарат обедает», звучало в его голове, «аппарат обедает». И с каждым новым повтором эта фраза обретала фантастический смысл и значение. «Аппарат обедает... Как это может „аппарат? обедать? – думал Темляков. – Чушь какая-то собачья. „Аппарат обедает. – Он представлял себе некий сложный, состоящий из множества железных, медных, пластмассовых деталей аппарат, разевающий резиновый рот, мигающий лампочками и поглощающий духовную пищу, запах которой Темляков вдруг уловил чутким, как у покойного отца, носом. – Да, действительно, „аппарат обедает– подумал он с улыбкой. – Но при чем тут я? Зачем я здесь?»
Женщина на высоких каблуках бесшумно появилась на лестничной площадке, объявилась силуэтом на фоне светлого окна, и взглянула вниз, обшаривая глазами вестибюль.
Темляков узрел в ней Брянскую.
– Товарищ Темляков? – услышал он голос из поднебесья и, отметив про себя с удивлением, что его никто еще и никогда не называл так официально, тронулся в нелегкий свой путь.
Это была немолодая женщина в строгом клетчатом жакете, черном с белой искрой, из ворота которого вырастала довольно смешливая головка. Она сразу же смутила Темлякова, задав ему странный, насмешливый по тону, непонятный вопрос:
– Тоже мимическое?
Она подбородком кивнула в сторону его лица и повторила вопрос с улыбкой:
– Я спрашиваю, морщины мимические? Вы человек как – веселый? Как и я?
– А-а-а... Морщинки... Ясно. В общем-то... не очень... А вообще...
Он ничего не понимал, и это его непонимание заставило Брянскую перейти на серьезный тон. Она досадливо нахмурилась, зашуршала бумагами, разбирая их, на столе, выхватила из стопки две страницы, защепленные металлической скрепкой.
А Темляков именно в этот момент понял наконец, о каких мимических морщинах спрашивала его Брянская, заискрился в поздней догадке:
– Ах, бросьте, Зинаида Петровна, какие у вас! Это я как печеное яблоко.
Но она уже далека была от шутливого послеобеденного настроения.
– Ваша речь, – утвердительно сказала она, пробегая напечатанный текст подслеповатыми, дальнозоркими глазами.
Верхняя губа ее – полумесяцем вниз, – обметанная, будто цветочной пыльцой, золотистым пушком, была посечена вертикальными морщинами, кожа вокруг глаз – полумесяцем вверх – вся морщилась в мельчайшей сеточке, придавая строгому ее лицу смешливое выражение театральной маски.
Брянская держала на весу листки дрожащей бумаги, протягивая их Темлякову, который опять ничего не понимал, нервно переживая неловкость своего положения. Хотя в то же время все хорошо уже понял, не веря еще, что он понял все это правильно.
– Я работаю в культуре, – говорила между тем Зинаида Петровна. – Но не смогу. Вас будет слушать инструктор райкома, товарищ Каширин. К сожалению, я сама не смогу выслушать вас. Он просил зайти завтра, он будет ждать вас в четырнадцать часов в пятнадцатом кабинете.
Листы бумаги с текстом речи были уже в руках Темлякова, он согласно кивал...
– А если мне, – начал он было, но в этот момент зазвонил телефон.
– Брянская, – по-военному сказала Брянская, подняв трубку. – Нет, еще не подошел... Когда подойдет? Часика через полтора... Пожалуйста. – Трубка клацнула на рычагах. – Договорились? – спросила она Темлякова.
«Еще не подошел? – подумал Темляков, пребывая в нервной, леденящей мозг лихорадке. – Подошел или не подошел? Подходит тесто? А кто не подошел? Я? Нет, конечно... Кто-то».
– Хорошо, – сказал он и жалко улыбнулся. – Могу ли я что-нибудь поправить, если покажется?.. – спросил он, глазами скользнув по бумаге в своих руках. – Стилистически, – добавил он.
– Товарищ Темляков! Я в культуре работаю уже больше двенадцати лет. За стиль и содержание отвечаю я. Странный вы человек... – Брянская прищурила глаза, как зло курящая, лицо которой окутал дым, губы ее строго сморщились. – Ваша задача – изучить текст речи и хорошо произнести его с трибуны. А стилистика пусть не волнует вас.
«Вздор! – взорвался вдруг изнутри Темляков. – Какой вздор!»
– Хорошо, – сказал он. – Я постараюсь. Можно ли эти листы сложить? У меня с собой ни папки, ни портфеля.
Брянская хмуро порылась в ящике, достала картонную папку с черными буквами, составлявшими слово «Дело», выпотрошила ее, вывалив на стол какие-то бумажки, протянула молча Темлякову.
– Спасибо, – сказал он и усмехнулся виновато. – Вы знаете, я думаю иногда, – говорил он, поднимаясь, – думаю по-стариковски. Есть путь смертного человека, а есть путь бессмертной души. Эти пути...
– Товарищ Темляков, я вас с удовольствием выслушаю в другой раз. Сегодня никак не позволяет время, – сказала Брянская, разводя руками и тоже поднимаясь и протягивая руку на прощанье. – Не забудьте, пожалуйста: завтра в четырнадцать в пятнадцатый кабинет к товарищу Каширину.
Темляков пожал руку Брянской, ощутив ладонью жалкую костистость ее пальцев и неожиданно их женственную безвольность.
– Завтра в четырнадцать в пятнадцатый, – сказал он с вежливой улыбкой, – очень просто запомнить: четырнадцать, пятнадцать... Проще пареной репы...
– Я ж говорила, – сказала она с бурно вдруг ворвавшейся во все ее лицо пушистой улыбкой, – мимические морщинки. Мимика нас с вами подводит!
– Ах, Зинаида Петровна! Это не самое страшное. Не самое! – воскликнул Темляков.
Они расстались друзьями: партийная женщина и беспартийный мужчина, задействованные в некое дело, исполняя роли в некоей странной пьесе, которую надо было сыграть Темлякову в ближайшее время, изучив кем-то написанный текст загадочной роли.
«Вздор! – то и дело взрывался Темляков по дороге домой. – Вздор невообразимый... Я – и вдруг доверенное лицо. Он и я – рядом? Ничего себе положеньице. Вздор какой-то! А у него, – вспоминал он предвыборный плакат, висевший в кабинете Брянской, – кожа натянута за уши. Как будто кто-то за уши схватил его сзади, а он вырваться не может. Натянут струной... Да! Но это ничего не меняет. Может, и в самом деле хороший человек? Так же вот, как и я... Сначала одно поручение... Пожалуйста. Спасибо. Потом второе. И пошло, и пошло... Смотришь, а уже выше и некуда. Ах, какой вздор! При чем тут я?»
– Попался я сегодня! – сказал он Дуняше, целуя ее в щеку, дряблую, чуть теплую, как подошедшее тесто. – Влип, можно сказать, в историю!
Она внимательно смотрела на него, ожидая объяснения, и, готовясь к слезам или радости, переливала в глазах и то и другое, как бы улыбаясь сквозь слезы и плача сквозь улыбку. Он ее очень встревожил. Она-то уж знала мужа, он мог бы и не говорить ей ничего, она с первого взгляда поняла, что случилось с ним что-то необычное, что-то очень неприятное.
– Что? – спросила она, теряя терпение и улыбаясь с надеждой на лучшее.
Темляков не принадлежал к тем мужчинам, которые оберегают жен от волнений, скрывая от них свои неприятности. Он доверял жене, зная, что Дуняша не захотела бы остаться в неведении ради собственного покоя, не простила бы ему, если бы он что-нибудь скрывал от нее. Он это хорошо знал. А потому и рассказ его о случившемся был безукоризненно точен, изобилуя подробностями, уточнениями, повторами по просьбе Дуняши и объяснениями, напоминая исповедь больного человека пытливому доктору. Он, как больной, сохранивший чувство юмора, посмеивался над своими казусами, иронизировал над опасной хворью, преодолевая собственную тревогу, проникшую в душу, и как бы предупреждал доктора, что готов выслушать любой его приговор, каким бы жестоким и немилосердным он ни был. Он с особенным удовольствием высмеивал выражения, которые услышал в райкоме: «аппарат обедает», «он еще не подошел»., «я работаю в культуре», – стараясь вызвать улыбку на лице обеспокоенной Дуняши.
Но приговор, который она вынесла ему, был слишком жесток и суров.
– Ты не должен этого делать, – тихо сказала она, рассматривая его отрешенным взглядом. – Тебе надо отказаться.
Случилось то, что должно было случиться: он обиделся и безумно разозлился на жену, чувствуя себя смертельно оскорбленным ею. Исповедуясь, он рассчитывал в глубине сознания, что Дуняша учтет его иронию, насмешку над опасной болезнью, оценит жизненную силу его организма и посмеется вместе с ним над минутными его недугами, даст ему надежду на скорое выздоровление. Но вместо этого услышал смертельный приговор.
– Дура! – вскрикнул он. – Ты! Ты хоть понимаешь, что говоришь? Как я могу отказаться?! Ты хоть представляешь себе, что будет, если я откажусь?! Вот уж не знал, что ты такая дура!! – вскрикивал он в отчаянии и готов был рвать на себе волосы, бить кулаком по столу, швырять посуду на пол. – Меня!
– кричал он ей в лицо. – Впервые пригласили! Впервые доверили! Участвовать! А ты опять! Упрятать хочешь! Под юбку! Ты дура! Клуша несчастная! Не люблю тебя!
Ему казалось, что она с жестокостью паучихи ощупывала его, рвущегося на свободу, своей добродушной жестокостью и спокойно ожидала, когда силы его иссякнут, чтобы нанести ему ядовитый парализующий укус. Он ненавидел ее, как может ненавидеть поверженный своего торжествующего врага, лицо которого распустилось в улыбке при виде страданий жертвы.
– Дай мне прочитать твою речь, – сказала она, нанеся наконец парализующий укус, подчеркнув, что речь эта – именно его речь. – Дай, пожалуйста.
– Шиш! – крикнул он, сдерживая себя из последних сил. – Я жалею! Я зря рассказал! Твой куриный мозг! Ты всегда была!.. – Он чуть было не выкрикнул, задыхаясь, что она всегда была против советской власти, но вовремя спохватился и в страхе перед самим собой неожиданно притих. – Учти, – сказал он, переводя полыхающее дыхание, – я сделаю все так, как надо. Это надо не кому-нибудь, а мне. Поняла? Мне надо! Мне надоело жить в загоне, я на волю хочу... И ты! – гневно прошептал он, испепеляя ее своим ненавидящим, углистым взглядом. – Ты у меня под ногами не путайся!
– Хорошо, – согласилась она. – Только прошу тебя, дай мне прочитать. Я должна знать, что ты там будешь говорить. Это мне не все равно.
– Ей не все равно! – воскликнул он чуть ли не со слезами отчаяния. – А мне? Мне все равно. Ну кто я такой? Кто? Да никто! Господи, мне все равно!
– говорил он с язвительной, рыдающей усмешкой. – Не все ли равно – я это прочту или кто-то другой? Ты хоть понимаешь, что всерьез к этому нельзя относиться? Ты это не в силах понять, нет! Формальность ты готова возвести в ранг черт знает какого откровения... Это анекдот! Неужели непонятно? Вместо того чтобы посмеяться, ты... ты готова... черт знает что! Ну что там написано? «Верный ленинец. Герой. Кажется, дважды... Идеолог международного рабочего движения» Господи! Все это можно прочитать в любом листке. Все это известно! Надо быть идиоткой... полной, чтобы сказать: мне это не все равно! Почему это тебе не все равно? Вот ответь мне, пожалуйста, почему это тебе не все равно? Я там пытался, – говорил он, не дожидаясь ее ответа, который ему не был нужен. – Я там сказал что-то насчет стилистики, так надо мной посмеялись. Мы с тобой так отстали от жизни, что... Господи, нет... Мне пора на пенсию! Зачем тянуть?! Я и так переработал достаточно. Пора! – Темляков, паясничая, развел руками, осклабился в дурацкой маске смеха. – Пора!
Ему было очень жалко себя в этот печальный вечер. Он завидовал людям, у которых есть другие, наверное, жены, которые порадовавшись бы, конечно, узнав, что мужа отличили доверием, улыбнулись бы ласково, поздравили бы... Во всяком случае, повели бы себя совершенно иначе, чем эта серьезная дуреха. Он все время хотел сказать ей то, что начал было говорить Брянской и чего она ему не дала договорить. «Есть путь живого человека, – проговаривал он про себя, – а есть путь бессмертной души. Эти пути редко совпадают. Чаще расходятся в разные, стороны. Вот тогда и трагедия! Человек не познал путь своей души и страдает, потому что душа зовет его, а он не слышит, грешит, думая, что так душа хочет... Может ли быть грех на душе, если она бессмертна? Господи, что это я совсем запутался, – думал он. – Да! Но если душа бессмертна? Или ее можно загубить? Нет! Душа может только страдать... Тело, конечно, бренно. А душа?»
Ничего в этот вечер у него не получалось, все рушилось, рассыпалось спичечным домиком.
По радио звучал голос Михайлова, горячий, кипящий, как смола в котле, бас.
Темляков весь вечер промолчал. Дуняша Тоже не проронила ни слова, подавая ему чай с бутербродами, хотя и была в отличие от него добра к нему и предельно внимательна, как если бы он и в самом деле смертельно заболел.
Перед сном он мрачно спросил у нее, чувствуя непроходящую досаду, не дававшую ему покоя.
– Что тебе от меня надо? – спросил грубо, будто Дуняша мучила его все это время, требуя от него чего-то сверхъестественного.
Она даже вздрогнула от неожиданности, лицо ее шевельнулось в невольном испуге, как если бы он ударил ее.
– Мне? – удивленно, но строго спросила она и, пожав плечами, ответила: – Ничего.
– Зачем же ты хочешь сделать мне больно? Ты все время ведешь себя так, чтобы... Ты что ж думаешь, мне приятна эта дурацкая роль? Но что я могу сделать, если жребий выпал мне? Что? Подскажи, если ты такая умная. Отказаться, да? Послать всех к черту и хлопнуть дверью?
Она смотрела на него с сожалением и, как в юности, с тем же участием, словно бы спрашивала потускневшим взглядом: «Почему вы такой странный? Все время отводите глаза. У вас есть какая-нибудь страшная тайна?»
На следующий день в два часа пополудни он беспрепятственно поднялся на второй этаж и с твердым намерением отказаться требовательно постучал костяшкой пальца в дверь пятнадцатого кабинета. Веселый голос откликнулся, приглашая войти, и Темляков увидел инструктора Каширина.
Это был крепкий и гладкий, как кабачок, плотный человечек в ярко-желтой рубашке, ростом едва ли на десять сантиметров превысивший полутораметровую отметку. На лице его торжествовала улыбка, одна из тех спелых улыбок, когда белые зерна нижних зубов добродушно оскалены, а верхние спрятаны под толстой губой. Он чуть ли дерриком приветствовал Темлякова, поднявшись навстречу, и долго тряс его руку с преданностью лучшего друга. В глазах Каширина что-то ртутно переливалось, светилось, как лесная паутина, колеблемая ветром в солнечном луче. Из тесной полости рта, набитой зубами и толстым языком, влажно и сыро выплескивались шмякающие слова, словно Каширин был голоден, а Темляков, которого он ждал, внес ему на блюде изысканные лакомства, при виде которых у инструктора потекли слюнки.
– Я человек законопослушный, – шутливо говорил инструктор Каширин, – а потому приступаю к делу не мешкая. Вы изучили свою речь?
– Моя речь! – усмехнулся Темляков. – Не речь, а реляция... Донесение с поля боя... Все не по-человечески. Я, наверно, не смогу-такую прочесть.
В глазах Каширина; который не переставал улыбаться, что-то опять перелилось, какая-то паутинная нить протянулась в сознание Темлякова, за что-то там уцепилась, и Темляков, невольно подчиняясь немому приказу, добавил:
– Во всяком случае, в таком виде.
– Василий?.. – спросил Каширин, дожидаясь в паузе, когда Темляков назовет ему свое отчество.
– Дмитриевич, – подсказал тот, почему-то уверенный, что Каширин и сам помнил его отчество.
– Василий Дмитриевич! У нас готовность – раз! Летчики так говорят: готовность – раз. Какие могут быть сомнения?! Реляция! Что ж, у нас вечный бой! Это верно, наши речи и доклады похожи на донесения с поля боя, и я не. вижу в том ничего плохого. Вас это смущает? Ах, Василий Дмитриевич! Рано еще расслабляться. Вы думаете, мне доставляет удовольствие сидеть тут и требовать от людей законопослушания? Люблю это слово, заметили? Законопослушный человек. Не послушный, нет! Послушных терпеть не могу, а именно законопослушный. А впрочем, что, мы тут время теряем! Пойдемте, пойдемте. Конференц-зал свободен, микрофоны включены, и мы сейчас быстренько все провернем.
– Как! – воскликнул Темляков. – Разве сегодня? Мне сказали – двадцать третьего.
– Конечно, двадцать третьего! – откликнулся Каширин, выходя следом за Темляковым из кабинета и запирая дверь на ключ. – Сегодня отрепетируем, – весело сказал он и пружинисто, бойко зашагал по коридору, чувствуя себя здесь дома, в своей тарелке, среди своих, – Знаете, сколько на земле зарегистрировано кошек? – громко спрашивал он на ходу. – Четыреста миллионов! Представляете, сколько они поедают мышей! А птичек всяких? Вот тебе и хорошенькая зверюшка! Хорошенькая, когда спит, да еще зубами к стенке. Конечно, Василий Дмитриевич, я вас понимаю, я сам всегда оставляю место в своих речах для различного толкования того или иного пункта. Я не бог, пускай со мной поспорят, я этому буду только рад. Я вам искренне это говорю... Но! Ваша речь – это речь представителя общественности. Это не совсем то же, что речь доверенного лица, но близка по сути. Ваша речь никак не может оставить впечатления двойственности. А потом! Вы себе представляете, какого человека будете рекомендовать в депутаты?! Вот ведь в чем дело! Я вам скажу, тут не то что слова, тут запятая неприкосновенна. Под этой речью, если уж совсем как на духу, не один ответственно мыслящий товарищ поставил свою подпись. Вы учтите, речь эта не ваша личная речь – это голос общественности. Вы представитель общественности. Ваша задача выражать не свое личное мнение о товарище Фуфлове, а мнение общественности. Улавливаете разницу? Ваше мнение в учет не принимается в данном случае.
– Да, конечно, – согласился с ним Темляков, чувствуя себя покорным и лишенным всякой воли к сопротивлению.
Каширин, гремя связкой ключей, вставил один из них в замочную скважину двери, окрашенной под дуб, с извивами древесной текстуры4, напоминающей своей небрежностью крышку дешевого гроба, открыл и, пропустив вперед себя Темлякова, запер опять дверь на ключ.
Зал средних размеров был пугающе пуст. Ряды откидных светло-желтых стульев, застыв в строгой напряженности, как солдатики, взявшие ружья на плечо, готовы были к подвигу во имя дружного коллектива и, казалось Темлякову, ждали от него приказа. Пустая трибуна и безголовая плоскость стола президиума, микрофоны, направленные в пустоту, – все это безлюдье толкнуло вдруг Темлякова в голову, он пошатнулся от мгновенного испуга.
– Ах, боже мой, – сказал он чуть внятно, – зачем все это?
– Что? – откликнулся Каширин. – Что-то сказали? А что это вы остановились? Прошу!
Он уже поднимался по ступеням на обширную сцену, в глубине которой щурился гипсовый бюст вождя.
Фигурка Каширина, плотненькая, как бахчевый овощ с цветочком, юркнула за высокую трибуну, голова вынырнула из-за микрофонов, рука помахала Темлякову, крик через усилитель громом наполнил полутемный зал:
– Как слышите?
Слышимость была страшная в сумеречной пустоте зала. Темляков не мог поверить, что сейчас, подчиняясь самоуверенному инструктору, он поднимется ка трибуну и, репетируя, произнесет «свою» речь. Душа протестовала против насилия, но улыбка уже размягчила волю, и Темляков, напутствуемый Кашириным, который, сцепив на животе короткопалые, для какой-то иной, тяжелой работы задуманные Богом руки, уже сидел посреди зала, зная, что его подопечный сейчас поднимется и будет читать то, что написано на двух страницах, – Темляков не помня себя все сделал так, как велел ему инструктор: поднялся, разложил на скошенной доске страницы, надел очки и стал читать.
– Дорогие товарищи! – хрипло сказал он. – Мы с вами собрались...
– Ну что это, что?! – закричал из зала взбесившийся вдруг инструктор. – Что за дикция! Где металл?!
«Это он-то о дикции, – подумал Темляков, откашливаясь. – Он и металла требует, господи!»
. – Дорогие товарищи, – повторил он и, взглянув в пустой зал, посреди которого сидел желтеющий рубашкой инструктор, почувствовал, что сейчас ему сделается плохо. – Дорогие товарищи, – еще раз повторил он, едва различая плывущие, перед глазами строки. – Мы с вами собрались... – И умолк, теряя силы.
– Слушайте, Темляков! – выкрикнул из зала инструктор. – Вы хоть читали текст?
«Да как он смеет орать на меня! – подумал Темляков, ладонью вытирая пот со лба. – Негодяй!»
"– Читал, – ответил он хмуро, – но ведь я же не артист! Странный вы человек, честное слово.
– Ладно, ладно! – примирительно прокричал Каширин, ерзая на стуле. – Успокойтесь. И все сначала! Поживее, погромче, поувереннее. Считайте, что в зале дети, а вы говорите им простую истину, о которой они еще ничего не •знают: Земля имеет форму шара, например. Поняли меня? Смелее надо.
– Но ведь не дети будут.
– Не дети, – согласился инструктор. – Но и вы, Темляков, не ребенок. Давайте работать. Что-то вы раскисли.
Темляков, не понимая, что с ним происходит, старательно произнес:
– Дорогие товарищи! Мы с вами собрались...
Он дочитал речь до конца, и ему показалось, что он справился со своей задачей, но инструктор Каширин был беспощаден – морщился, недовольно ворчал и просил прочитать еще раз. Темляков прочел, осваивая свое необычное положение, свою роль представителя общественности, которому надо было донести до масс, по словам Каширина, мнение большинства избирателей.
– Немножко лучше, – сказал Каширин, все еще чем-то недовольный. – Больше воздуху набирайте в легкие, – советовал он. – И не глотайте окончания слов, а особенно фраз. Давайте-ка еще раз. Поехали.
И еще раз прочел Темляков речь, все отчетливее понимая, как это ни странно, свою возрастающую ответственность, свое исключительное положение представителя общественности, которому надо было донести до масс всю серьезность намерения этих же самых масс видеть своим избранником, своим депутатом Михаила Андреевича, верного ленинца, теоретика марксизма-ленинизма на новом этапе развития социализма... Темляков сам уже не замечал своего старания, произнося с каждым разом все яснее и звучнее слова речи, выдерживая многозначительные паузы там, где советовал это ему инструктор, расставляя ударения на особенно важных, с точки зрения Каширина, положениях речи, делая акценты усилением голоса там, где это было необходимо.
– А говорили, не артист! – весело сказал наконец инструктор Каширин, выключая микрофоны. – Вот так примерно и надо выступать двадцать третьего. В общем плане.
Страшная усталость навалилась на Темлякова, когда он вышел из здания райкома. Ломота в груди, которая тупым нытьем разлилась по всему телу, заставила его остановиться. Но и это не помогло – стоять было еще труднее. Он увидел общественную уборную, глубокий спуск в подвал по крутой лестнице, и, подумав, что там есть, наверное, умывальник, решил зайти освежить холодной водой лицо, снять дурноту.
«Так вот в чем дело!»– с вялым удивлением подумал он, придерживаясь за железный поручень, сваренный из толстой водопроводной трубы. – Мы подчинились биологическим законам, выбрали себе матку, служим ей, кормим, не щадя живота. Звезды бросили жребий, и он пал на меня! Я бездумное насекомое. Живу в красивой помойной яме... Чей это голос из помойки? А-а, понятно, понятно... Бросьте, это голос из помойки... В общем плане».
Его перегнали на лестнице двое пареньков, скользя по ступеням с акробатической легкостью, какая и ему когда-то была доступна. Сознание его, обогнав усталое тело, ринулось вдруг за парнями, стараясь воспроизвести утраченные возможности тела, воплотить их в фантастической ситуации и вновь пережить блаженное то состояние легкости, которое молодость отторгала как необязательное, ненужное.
Он знал в эту минуту, что не так жил и что его жизнь останется на земле грязной оплеухой, серым пятном.
«Жаль, – думал он, превозмогая усталостную боль. – Ах, как жаль! Но все-таки какой нахал! Могу ли я представить себя на его месте? Вот так встретить человека, как он меня встретил, и, ничуть не смущаясь, заставить читать в пустой зал... Ах, какая досада!»
Ему было очень плохо," силы совсем покидали его, голова кружилась. Если бы не парни, что обогнали его на крутой лестнице, он мог бы и упасть, но ребята спасли его, к нему вернулась жизнь, и он даже рассмеялся среди белых стен подземелья, залитых светом матовых стеклянных трубок.
Дело-то пустяковое, глупое, а вот поди ж ты – выручило его, рассмешив, и дало силы не упасть. Пьяный мужчина, забредший в это белое подземелье, привалился в углу, а ребята всего-то-навсего сказали ему, или, точнее, один из них сказал пьянчужке:
– Директор, подвинься, могу задеть.
– А ты кто? – спросил пьяный с мраком в глазах.
– Я? – спросил животрепещущий паренек. – Я гегемон.
– Замолкни, – проворчал пьяный, чернея лицом.
А паренек всего-то-навсего рассмеялся и уж очень как-то смешливо сказал своему приятелю:
– Во! Не верит! Думает, я министр и приехал сюда с комиссией...
Оба они посмеялись и ушли.
А Темляков, который с не шутейным уже испугом видел тьму перед глазами, страшась резкого сияния керамических плиток, вдруг почувствовал после этих слов, как родилось в его животе что-то вроде мягкого комочка, что-то вроде легкого потряхивания ощутил он там, как будто возникла новая жизнь, шевельнулась и заколотила ножками в стенки живота. Он беззвучно затрясся в смехе, слушая ворчание пьяницы, над которым посмеялись ребята, и, ополаскивая лицо холодной водой, постепенно пришел в себя.
Он так и вышел с этим утробным, никому не заметным смехом на поверхность земли и, поймав такси, приехал домой живым.
И в глубокой старости Темляков с тоскою оглядывался на себя, в жгучем стыде видел, как поднимался он на трибуну и вслед за оратором., представлявшим Фуфлова от имени другого какого-то коллектива, взволнованно кидал в переполненный зал слова наизусть вызубренной речи, написанной и утвержденной незнакомыми людьми, вполне, наверно, человечными, обыкновенными в своей личной жизни, шумливыми и озабоченными, ничем особенным не отличающимися от остальных жителей земли. Ряды сидящих людей проводили его рукоплесканием, а инструктор Каширин благодарно пожал сильными пальцами острый его локоть, как бы сказав этим пожатием «молодец, Темляков», когда он; оглушенный и ослепленный, спустился в зал и опять сел рядом со своим искусителем.
Все его дикие вопросы о том, кто убил больного брата и каков этот «кто», как выглядит внешне, звериное ли у него обличье, или он тоже похож на обыкновенного человека, на какого-нибудь тихого дедушку, нянчащего внуков, остались с тех пор вопросами без ответов.
В эти тяжелые минуты жизни душа Темлякова лопалась в истошном крике, он слышал в себе привычный уже оклик насмешника, поселившегося в нем с той первой военной весны.
«Эй ты, подосиновик! Скажи, а ведь хочется иной раз шлепнуть двуногого, сознайся! – спрашивал язвительный голос. – Хочется ужас увидеть в глазах, вопль услышать, мольбу о помиловании: не надо, не надо! А ты с пистолетом в руке, увесистым и очень удобным, влитым в руку, пинаешь этого двуногого ногой и в лоб ему, падающему, или, того интереснее, в живот, в кишки, чтоб не сразу подох, а в страхе помучился, повертелся ужом... А? Разве не хочется? А то и в ногу первым выстрелом, чтоб пуля в кости засела или раздробила ее в щепки и чтоб у обезьяны этой, в которую ты вогнал свинец, никаких надежд на спасение, никаких сомнений, что это не шутка и что ты на все решился, что не пугач у тебя в пятерне зажат, а настоящий, битком набитый промасленными патронами. Он вопит: не надо, не надо! – а тебе этот вопль бальзам на душу. Наслаждение! Надежда гаснет у него в глазах и лишь ужас, один ужас перед концом! Мразь, а не человек! Сознайся, бывали ведь такие минуты? Воображение-то рисовало тебе картину возмездия, а? Если скажешь «нет», ни за что не поверю! Ни за что! Где-нибудь в глухом лесу, в моховом местечке приболоченном... И лопата под руками: А ты труп закапываешь, выравниваешь землю над ним, дерном маскируешь и какую-нибудь маленькую березу сверху, чтоб росла и ни о чем не рассказывала никому. Пропал двуногий! Жил зачем-то, чтобы потом умереть по твоей воле. Разве не было такого желания, воли такой в душе? Соврешь небось! Скажешь – не было. А я не поверю тебе. Врешь, скажу. Ей-богу врешь, я же вижу. Чего ты боишься? Разве ты уже убил, если мысль такая в голову пришла? Брось! Это игра азартная. Возьми, например, деньги. У нас больше пятисот в месяц никто зарабатывать не хочет. Зачем? Зачем человеку тысяча? Товаров в магазинах нет, одно барахло. Так один начальничек говорил: зачем, дескать, человеку тысяча? Врет! Или не понимает ничего. Человеку тысяча нужна для игры. Разве не для игры рождается человек? Для игры, конечно. Все играют. Одни в карты, другие в шашки и шахматы, третьи козла забивают, а иные с мячом в грязи бултыхаются. С детства до старости играет человек и играет. А вот с деньгами наш человек не знает, что делать. Миллионером – не смей и думать. Пустить деньги в оборот, акции купить никто не может, не имеет права, вот и не нужна тысяча. Игру-то отменили! А человек с рожденья своего играет в игрушки, чтоб потом сыграть главную свою игру. В деньги-то! Главная игра. А в убийстве врага? В убийстве негодяя, сволочи двуногой – разве плохая игра? Почему ж ты боишься сказать, что играешь в эту игру? Странно! Играй, голубчик! Это помогает разобраться в людях и в самом себе».
«Какая тыща? Какая игра? Господи! Мне не нужна тыща в месяц? Бред какой-то!»– плакался Темляков.
«А ты кто? И зачем ты? Разве это не условия игры? Кого ты любишь до донышка, а кого убить готов, – продолжал насмешник, не обращая внимания на жалобы Темлякова. – Убить, как вредное насекомое, сосущее кровь. Когда так играешь, то и в жизни будешь знать" кого любить, а кого отторгнуть от себя. А то ведь как у нас: «постепенное улучшение жизненных условий» приобрело такую скучную постепенность, что хоть в петлю от тоски. Да и кто это говорит? Говорит тот, кто никакой постепенности не соблюдает, сразу берет все, что ему надо для этих «жизненных условий». Это он тебя уговаривает. Нет, дорогой мой подосиновик, воображенным убийством стыдиться нельзя! Ты убей его в мыслях, а потом и в жизни взгляни на него как на труп. Он тогда бессилен перед тобой. Он только пугать тебя может, и все. А ты его уже убил. Понял меня? В тебе нет игры никакой, вот и слаб ты перед всякими инструкторами... Ты его не перечеркнул заранее, а он это по глазам твоим видит, знает, что он сильнее тебя».
Темляков готов был в эти минуты заткнуть уши и не слышать ничего, кричать готов был, чтоб заглушить язвительный голос насмешника, орать бесконечно и истошно: «А-а-а-а-а-а! Уйди-и-и-и! Какой я тебе подосиновик!»
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
8
Он бежал от своих страхов с паническим ощущением, что за спиною пыхтит погоня, и только в старом «рафе» с бледно-зелеными занавесками на окнах, который дожидался его на обочине дороги, чувствовал себя в безопасности.