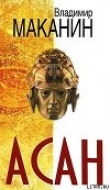Текст книги "Путешествие души [Журнальный вариант]"
Автор книги: Георгий Семенов
Жанр:
Разное
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 17 страниц)
Пузыреву не дали говорить, прервав его дружными аплодисментами, но он прорвался сквозь шум рукоплесканий и торжественным дискантом продолжил:
– Я вижу счастливых людей, сидящих в этом теплом в холод и прохладном в зной помещении, где можно открыть и небольшой буфет, чтоб человек мог в спокойной обстановке, пока продвигается его очередь, выпить чашечку кофе и поговорить о насущных делах, рассказать что-нибудь, послушать. Я даже слышу эти голоса удовлетворенных граждан, слышу и тихую музыку, разливающую свои мелодии, вижу цветущие яблони, которые необходимо высадить рядом с этим маленьким и своеобразным клубом, вижу спелые плоды, окропленные дождем, налитые солнечной энергией и лунным светом. И вот что мне вдруг пришло в голову, други мои! Можно ведь назвать эти сооружения, которыми украсится наш город в скором будущем, в чем у меня нет никакого сомнения, – можно назвать их «каплями»... В каком смысле? А вот в каком. Это будет аббревиатура очень логичного названия: культурно-административный пункт льющихся яств. Это надо, конечно, смотреть, надо думать, но, по-моему, звучит неплохо. Во всяком случае, не настаивая на своем варианте, я призываю вас всех подумать над этим и внести на рассмотрение конкурсной комиссии, или как это будет называться, я не знаю, свои соображения. Лишь бы это были благозвучные сочетания, которые ласкают ухо и, может быть, даже рождают шутливую улыбку у человека, который собрал пустые бутылки и отправился... Куда? В этом весь и вопрос. В «каплю», например. Нас никто не упрекнет в легкомыслии, потому что это всего лишь аббревиатура, вполне официальная и понятная, но при этом несет она и шутливый оттенок, что в некотором роде необходимо сделать, имея в виду особенность этого пункта. Не государственное же учреждение мы собираемся строить! А «капля», как всем известно, имеет свой смысл, потому что в каждой пустой бутылке всегда остается последняя капля влаги. Или терпения! – добавил он многозначительно и, опустив кулак, самоуничтожился, сплющился в улыбке, слыша одобрительный смех и шум в зале и понимая, что его остроумное замечание про каплю запало в души благородных слушателей.
Под этот радостный и возбужденный шум Пузырев сошел с трибуны и виляющей походкой толстых ног пошел было к своему месту за столом, но хриплый бас Петра Аверьяновича остановил его.
– Ты, Пузырев, хоть и любишь белое вино и жену, а ведь хочешь ограбить нас. Во что нам твоя музыка обойдется, подумал? А потом, – говорил в полной тишине богомазный лидер, – учти, людям некогда рассиживаться за чашечкой, как ты говоришь, кофе. У нас живут труженики, а не лодыри. И ты неправильно понял задачу. Задача в том и состоит, чтобы не было очередей. А ты, братец, что предлагаешь? Опять очереди? Нет, это не наш путь. Народ устал от очередей, и мы должны рассосать их с учетом строительства новых объектов по приему пустых бутылок, чтоб труженик не терял времени на это дело. Понятно, Пузырев?
– Но, Петр Аверьянович! – взмолился растерявшийся Пузырев. – Я подходил с чисто нравственных позиций к этому вопросу, с позиций общей культуры, так сказать, я не имел в виду очереди. Но если есть свободный часок, потому бы не...
– Свободного часочка у человека нет, Пузырев! – перебил его Петр Аверьянович. – Все свои свободные часочки люди тратят на дело строительства нового образа жизни. Вот когда построим, тогда и будем рассуждать, как потратить свободный часок. А сейчас работать надо. И никаких шуток! Шутка ему нужна... Ты шути со своей женой.
– Я понимаю, я все понимаю... Но все-таки хотелось бы! Я, как теоретик, хотел...
– Какой ты теоретик, Пузырев! Садись уж, теоретик. Нам теоретики не нужны. Мы люди практичные. А вот насчет последней капли ты зря ввернул. Зря! Что ты имел в виду? – гневно спросил старец у Пузырева, который очень смущен был и смешон в младенческом своем непонимании. – Последняя капля терпения! Надо же додуматься до такой штуковины. Садись, садись, теоретик! Мы с тобой поговорим потом. Теория без практики – знаешь? Мертва! – добавил он зловеще и повторил сырым, болезненным голосом: – Мертва, Пузырев, мертва. Запомни.
Пузырев был убит, зато Клавдия Ивановна ликовала. Телеса ее волновались, она покусывала губы и словно бы рвалась в бой, чтобы добить Пузырева, лягнувшего ее в своем ошибочном, как выяснилось, и даже идейно порочном выступлении, осужденном самим Петром Аверьяновичем. Руки ее тряслись, когда она, не дождавшись пришибленных мужиков, наливала в свою рюмку водки. Сливина, не утерпев, поднялась, опрокинув загрохотавший стул, и чревом своим выкрикнула на весь зал:
– Предлагается тост! За Петра, великого! За дорогого нашего Петра Аверьяновича!
Люди зашумели, стали подниматься, чокаться рюмками, тянуться друг к другу, снимая мрак напряжения, в какой ввел их Петр Аверьянович разносом Пузырева. Каждый из них невольно чувствовал себя на месте несчастного, но каждый тоже знал про себя, что Петр Аверьянович прав, конечно, и как бы чувствовал себя одновременно на месте строгого, но справедливого Петра Аверьяновича. Каждый словно бы говорил, чокаясь с соседом и виновато улыбаясь: «Здорово он его подсек! Так подсек, что Пузыреву долго теперь не оправиться. А мужик был неплохой. Жалко. Но... не лезь со своими теориями в серьезные дела».
Темляков, как ни странно, тоже чувствовал справедливость, какая прозвучала в словах Петра Аверьяновича, и хотя он понимал, что Клавдия Ивановна слишком возвеличила его, назвав Петром великим, и что это вряд ли понравилось кому-нибудь из присутствующих, не говоря уж о самом Петре Аверьяновиче, при всем при том ему было жалко бедного Пузырева. Он глазами отыскал его за соседним столом и поразился перемене, какая произошла с ним.
Пузырев стоял, держа в руке фужер с золотистым вином, смотрел в одну точку и, одинокий среди шумных сподвижников, покинутый и отторгнутый ими, никем из них не замечаемый, как будто его и не было тут никогда или как будто он превратился в стеклянное изваяние, был бледен и страшен в своем отупении. На лице его, которое стало вдруг дряблым, брыластым, застыла недоуменная улыбка, похожая на гримасу боли и отчаяния.
Его можно было, конечно, понять и пожалеть как человека, который всю свою жизнь доказывал преданность высшему руководству и который на сей раз тоже вышел на трибуну, чтоб еще раз верноподданно послужить ему, но был жестоко не понят в этом своем рвении и расценен чуть ли не как подрывной элемент, против чего сам он всю жизнь боролся и готов был бороться и дальше, не помышляя ни о каком своем особом мнении или ослушании.
Темляков видел в нем несчастного, душа которого наверняка в эти минуты вопила сплошное «не-ет!» не в силах понять, что же произошло в жизни, которая вдруг покачнулась и уплыла из-под ног. Только что была прочная и надежная, а вдруг взяла да и развеялась дымом, не оставив надежды на будущее, разорвав человека на части и превратив его в шуршащий комок никому не нужной бумаги, выброшенной в мусорное ведро. «Не-ет!» – кричал бедный Пузырев в этом помойном ведре. Но никто уже не слышал его вопля, никто не обращал на него внимания, и неизвестно ему самому было, зачем и для чего он стоит с фужером вина и улыбается. Упасть в ноги, молить о прощении! И об этом, конечно, думал бедняга, который даже не притронулся, не пригубил фужера, когда все дружно и радостно выпили за Петра великого и, сев за свои тарелки, принялись закусывать, получая удовольствие.
– Чего стоишь? – услышал Пузырев насмешливый голос старца. – Оглоблю проглотил? Теоретик!
– Простите! – воскликнул Пузырев и торопливо сел. Он готов был стерпеть любое унижение, лишь бы осталась хоть махонькая надежда на спасение, хоть самая крохотка ее.
– Не выпил даже глотка за меня, – опять сказал Петр Аверьянович, рассмешив людей.
Переосмысливает! – крикнул кто-то из зала.
– Чешется, – раздался женский голосок.
– Теорию в практику переводит. Думает!
И пошли и поехали! Кто во что горазд, всяк хотел подать свой голос, голосище и голосок, чтоб доставить удовольствие Петру Аверьяновичу своей поддержкой. Люди ели, стучали вилками и ножами, наливали друг другу вина, водки, коньяку.
Темляков налил себе в фужер клюквенного морса и с наслаждением выпил кисло-сладкую, вяжущую розовость, которая остудила его и привела в сознание.
– Чтой-то вы загрустили, – услышал он голос Клавдии Ивановны, которая не уставая пила и ела, шевеля передними зубами, как какой-нибудь суслик, всевозможные яства, тяжко заглатывала плохо прожеванную пищу и тянулась вилкой за новой порцией, наваливаясь животом на стол.
– Пузырева жалко, – признался Темляков, видевший только что, как тот налил себе полный, через край, фужер и выпил его стоя, преданно глядя на своего руководителя. – По-человечески, – добавил Темляков, поднимая рюмку с водкой и приглядывая исподлобья на свою соседку.
– А чего его жалеть, подхалима?
– Все-таки человек. Хотел как лучше. А получилось наоборот. Конечно, он краснобай и мечтатель...
– Вот именно! – сказала Клавдия Ивановна и, быстро утерев губы салфеткой, чокнулась с Темляковым и проглотила водку, которая как малая капля пролилась в неохватное ее тело, в чрево, во тьму, набитую всякими закусками, только что красовавшимися на пиршественном столе. – Вот именно что, – повторила Клавдия Ивановна и сунула в рот розовый жирный кусок лососины. – Тут не абы кто собрался, чтоб слушать всякие глупости, – пробубнила она с полным ртом и откровенно подмигнула Темлякову. .
«Вот это я влип!» – подумал он в смятении и твердо решил не пить больше ни рюмки водки.
На трибуну поднимались другие ораторы. Кто-то говорил о трудностях с транспортом, об отсутствии специальных автомобилей для перевозки стеклянной посуды. Другой говорил от отсутствии шифера и других строительных материалов, хотя и заверял, что коллектив вверенного ему управления справится с поставленной задачей. Третий призывал изыскивать местные материалы для строительства, поддерживая мысль о том, что с транспортом необходимо решать вопрос немедленно, чтобы уже завтра начать разгрузку складских помещений, забитых горами пустых бутылок, поток которых не перестает прибывать.
Шел разговор, на который Темляков уже не реагировал, хотя замечал, как бурно иногда Клавдия Ивановна вскидывалась, если ей вдруг казалось, что оратор не все договаривает или ведет речь не о том, что является главным и решающим в настоящий момент.
Он всякий раз поражался энергии этой женщины, которая вылила в себя несметное количество водки и только раскраснелась, ничуть не опьянев, только дыхание у нее стало более отрывистое и шумное да взгляды, какими она пугала Темлякова, сделались более откровенными и продолжительными.
Она много и жадно ела, не отказавшись и от наваристого борща с чесночными пончиками, и от куска жареной свинины на косточке, филейной той части, которая таяла во рту, ублажая несчастную душеньку.
Он с опаской поглядывал на нее, встречая ответный взгляд, и не знал, что ему делать с собой, как улизнуть под благовидным каким-нибудь предлогом от Сливиной, скрыться незаметно и добраться наконец до своего чемодана.
Он и сам тоже никогда так много не пил и не ел, чувствуя тяжесть не только в голове, но и в желудке.
Но милые девушки убрали грязную посуду и стали опять носить закуски, похожие на кондитерские изделия. То есть Темляков так и понял, что на столе появились сладости к чаю – всякие желе, помадки, пирожки с вареньем. Но это было так и не так. Вместо шоколадно-кофейной на вид помадки, исполненной в виде полешка, из-под трухлявой как бы коры которого лезли веселые опята, оказывался паштет из печенки разных животных, что было, конечно, безумно вкусно, но уж очень неожиданно.
Решение свое не пить больше водки Темляков, увы, не выполнил и, развеселившись при виде искуснейшего произведения, которое обмануло его своим вкусом, выпил четыре или пять рюмок, закусив их паштетом.
– Посторонись, душа! – приговаривал он, поднимая рюмку. – Обильно! – И опрокидывал.
Крохотные желе, под прозрачной поверхностью которых алели то ли распластанные вишни, то ли черешни, оказывались заливной ветчиной с лепестками красного перца под желейной шапочкой.
Все это разнообразие так развеселило и увлекло его, что он совсем забыл о себе, перестал робеть, встречаясь с мутным взглядом Клавдии Ивановны, и ему даже вдруг захотелось танцевать.
– А музыка, – спросил он, – будет?
– Нет, музыки у нас не бывает, – ответила Клавдия Ивановна. – Это все-таки не место для музыки. Мы тут собираемся для деловых отчетов, для всяких серьезных дел. Это вам не ресторан.
– Да уж, – согласился с ней Темляков. – Какой уж ресторан! Я понимаю... А ну-ка попробуем, кстати, и эту штуковину, – сказал он и положил к себе на тарелку маленький пирожок, похожий на пирожок с вареньем, чего он никогда не любил, но тут был уверен, что это вовсе не пирожок, а пока еще недоступное его пониманию нечто другое. Налил водки, пробормотал свое: «Посторонись, душа», выпил и отправил в рот это нечто, раскусил, прислушиваясь и причуиваясь к новому вкусу, какой ждал его на сей раз. И не ошибся – то была малосольная лососина, запеченная в тесте.
Ему очень нравилась эта веселая игра, он даже стал отыскивать на столе еще какое-нибудь чудо, которое не успел распробовать. Но поблизости ничего нового не разглядел. Поднялся и, пошатываясь, пошел вдоль стола, натыкаясь на чьи-то спины и затылки и извиняясь самым решительным образом.
– Простите, ради Бога! – говорил, прикладывая руку к сердцу. – Ради Бога, пардон.
И вдруг увидел перед собой Пузырева.
– Пузырев! – воскликнул он радостно, будто встретил старого друга. – Миленький! Как ты себя чувствуешь? Мне жалко тебя, я тебя люблю. Не горюй! – говорил он, не замечая испуга и растерянности, какие вдруг исказили лицо Пузырева, и не видя кислых взглядов, какие бросали на него застольщики и застольщицы, которым явно не нравилось братание постороннего гостя с отторгнутым Пузыревым. – Что ты такой расстроенный? – спрашивал Темляков. – Плюнь на все! Будь мужчиной. Я тебе расскажу один случай из своей жизни, ты ахнешь, ты, Пузырев, просто сойдешь с ума от ужаса... Подо-жжи... Подожжи, что такое?!
Двое молодых людей с голубыми лацканами вежливо взяли его под локотки и властно потянули куда-то.
Он растопырился ершом, уперся каблуками, но ноги заскользили по лакированному паркету, не находя опоры, он лишь вертел головой, отыскивая Клавдию Ивановну. Наконец увидел ее, склонившуюся над челкой хмурого старца, и хотел было крикнуть на помощь, но холодная слякоть ее взгляда, которую она плевком послала ему вслед, заморозила душу, и он понял, что дела его плохи..
Он едва успевал перебирать ногами, влекомый безжалостными мальчиками, цепко державшими его под руки. Они вывели его на свежий воздух и, как мешок, сбросили на какую-то тумбу, вежливо приказав никуда не уходить отсюда.
– Сиди здесь, ацидофилин, – ласково пропел один из них над ухом.
– Наглецы... Негодяи! А я-то думал, – бормотал ошеломленный Темляков, проклиная дерзких мальчиков, о которых совсем недавно так хорошо думал. – Ах, тоска! – стонал он в бессилии. – Никакого просвета. Все кончено, все пропало навеки. Нет России.
Приказ никуда не уходить показался ему оскорбительным. Он огляделся, не узнавая местности. Подумал, что, видимо, вывели его через черный ход, понял свое положение перепившего и нарушившего, конечно, не им заведенные тут правила, ругнул себя в сердцах.
– Балбес! Чего меня потянуло к Пузыреву? Был бы порядочный человек, а то ведь свинья и трус, сволочь порядочная, – размышлял он вслух. – А я к нему лобызаться. Вот ведь как плохо я устроен! Обидно. Но и мальцы хороши! Через весь зал, как преступника... Ай-яй-яй! Срам. Каковы негодяи! Ацидофилин... Вот и думай о людях хорошо. Так тебе и надо, старая калоша. Поделом...
Встряска эта и обида отрезвили его, он внимательно осмотрелся вокруг, не понимая, где он все же находится, увидел тугие картонные коробки, приваленные к стене. Зелено-красные надписи на них были по-немецки, он хотел прочесть, но ничего у него не получилось – забыл немецкий. «Черт с ним, – подумал он. – Пиво, наверно. Бир – пиво. Нохен маль айн бир, битте, – влетела в сознание веселая фразочка. – Да, конечно! Только пива тебе и не достает».
Он понял, что сидит на такой же коробке с пивом, поднялся, почувствовав силу в ногах, и, слезно вскинув глаза к небу, взмолился рыдающим шепотом:
– Господи, прости! Помоги, Господи. Да будет воля твоя, а не моя, дай силы, Господи, уйти отсюда. Волю твою исполню, дай только силы!
Был еще светлый день. В теплой глубине розовеющего неба летали стрижи и ласточки. Черные царапины их испещрили небо так высоко, что казалось, будто птицы там парили на кручах, купаясь в потоках воздуха, будто кривые их острые крылья замерли, распластавшись, а визгливые голоса умолкли – так далеко в небо улетали стремительные эти птицы, обещая хорошую погоду и солнце.
Глухая железная стена, окрашенная в серый с просинью тусклый цвет, замыкала со всех сторон хозяйственный двор, где очутился бедный Темляков. Стена казалась броней, толстые листы железа были грубо сварены автогеном, а поверху протянулась на железных распорах колючая проволока в два ряда. Огромная старая бочка пузатилась возле этой мрачной стены, и Темляков, стряхнув с себя обиды и печаль, примерился к ней, подумав, что сумел бы, наверное, подтянуться на руках и перемахнуть через стену, если бы не ржавая проволока с колючками.
В узком конце железо-каменного двора он увидел во тьме глухие ворота на замке. В левом створе этих ворот была вырезана маленькая калитка, посаженная на петли и тоже запертая на замок.
Сквозь корявые щели напористо пробивался солнечный свет, будто кромки разрезанного автогеном железа все еще были раскалены добела газовым огнем.
Замкнутый в узком и темном пространстве двора, Темляков подошел к воротам и со злостью подергал тяжелый, громыхнувший железом замок. Чертыхаясь, он без всякой надежды дернул замок и на калитке. Дужка выскочила из гнезда, замок ощерился и скособочился на скобах. Темляков вздрогнул от неожиданности. Но вместо того чтобы открыть железную дверь калитки и выйти, он отпрянул, точно какая-то сила опасливо отшатнула его, толкнув в грудь.
Невольное это движение удивило его самого. Но он тут же нашел оправдание, подумав, что если бы он по-воровски сбежал сейчас отсюда, то всякий был бы вправе заподозрить его в побеге, а значит, и в скрытом преступлении. Черт знает что могли бы подумать о нем! Иначе зачем ему совершать побег?
Вины за собой он никакой не знал, и ему нет нужды тайно уходить отсюда. Этого еще не хватало – бежать! Душа его протестовала против бегства, и он не посмел самовольничать. «Догонят, остановят, поведут, – лихорадочно думал он, представляя себе унизительное шествие с заломленными руками и свое полное бессилие. – Нет, зачем же! Надо вернуться через нормальную дверь и потребовать в конце концов прекратить издевательство. Тем более что тут мои вещи, мой чемодан. Какого черта! – думал он, все больше распаляясь. – С чего это я вдруг побегу!»
Он так и поступил. Вставил дужку замка на место, прижал ее покрепче, укрепил в скобах, чтоб она не открылась случайно и чтоб никто не подумал, что он хотел уйти отсюда. Вернулся к коробкам с немецким пивом. Увидел ребристую дверь светлого дерева, покрытую олифой, через которую его вывели сюда молодчики с голубыми лацканами, и решительно рванул за ручку.
Что-то больно щелкнуло у него в запястье – так силен и зол был рывок. Но дверь, к удивлению, не поддалась ни на йоту. Она была плотно, туго, без малейшего люфта, намертво заперта.
Замкнутое пространство, пленником которого он оказался, надвинулось на него бурым цветом, разверзло свою пасть. Слабость разлилась по телу, пот скользкими пальцами удушливо обхватил горло, панический ужас готов был вырваться криком из пересохшей глотки. Ему вдруг почудилось даже, будто он попал в отсек зловеще-серой подводной лодки, которая вот-вот начнет погружаться, увлекая его в глубины темной материи. Он, шатаясь, побежал к калитке, лишь бы успеть, успеть... Рванул трясущимися пальцами замок, вытащил освобожденную дужку из железных скоб, раскровенив палец, и открыл тяжелую холодную дверь, которая тоскливо взвыла в ржавых петлях.
Закрыть ее за собой у него уже не было сил, он даже замок бросил на асфальт и с колотящимся сердцем не оглядываясь пошел по черному, как гуталин, свежему полотну асфальта, от которого еще пахло гудроном.
Белые следы пыли, четко отпечатавшие рисунок протектора автомобильной покрышки, оттеняли асфальтовую тьму новой шершавой дороги. Темляков загнанно шел между этими следами, все дальше отдаляясь от страшной калитки, и уже почувствовал себя вне опасности, подбадривая себя руганью:
– Ах негодяи! Наглецы! Заперли... Надо же такое придумать! А если бы сердце, если бы... Черт бы их драл! Я это дело так не оставлю, нет... Окопались тут!
И вдруг впереди за поворотом черной ленты, за пушистыми сосенками открылся перед ним забор из ромбических бетонных плит, проходная будка обочь дороги и ажурные створы ворот, перегородившие ему путь.
Ноги его подкосились, тоска охватила душу. Он понял, увидев вдалеке человека в синей униформе и фуражке, что через этот барьер ему уже не перепрыгнуть и не обойти стороной и что сейчас, еще минуту, через несколько десятков шагов, его остановит суровый страж, пригласит в свою зеленую будку, наберет нужный номер телефона и за ним придут ухмыляющиеся мальчики.
«Да что это! – вскричала взбунтовавшаяся душа. – Не смеют они! Что за насилие такое, за какие провинности! Господи! Я не хочу! Мне опостылела такая жизнь... Не хочу!»
Но бунт развеялся, так и не придав Темлякову сил и уверенности. Виноватая улыбка выползла на лицо.
До ворот оставалось шагов двадцать, не больше. Охранник с зелеными петличками на гимнастерке, немолодой служака Вохры, вперил в него внимательный взгляд, выйдя на середину черной дороги.
Темляков, не замедляя шага, обреченно шел прямо на него, не представляя себе, что сейчас будет, отдавшись на волю провидения.
– Приветствую, приветствую! – озабоченно сказал он синей фуражке с зеленым околышем, с удивлением услышав уверенный свой голос, когда до фуражки оставалось всего лишь пять или шесть шагов.
Сказал и с трудом поверил своим глазам. Охранник поднес к козырьку фуражки плотно сжатую пятерню, отдавая ему честь, и, безликий, настороженно-внимательный, провожал Темлякова глазами, пока тот проходил под навесом будки.
Сам же Темляков не чуял ног под собой. На охранника он уже не смотрел, ему не хватало духу, и, очутившись за проходной, он долго еще шел в ожидании окрика, с трудом перебарывая в себе мерзкий страх беглеца, вырвавшегося на волю.
13
Новый асфальт за забором обрывался, дорога рваной дерюгой расстелилась перед ним, грозя глубокими дырами и вспученными кочками, будто из-под нее лезла на свет божий всякая подземная нечисть, толоконной своей башкой приподнимая и круша старое ее покрытие.
Запыленные кусты бузины и лещины, хилые елочки, отравленные придорожными газами, вскоре остались позади. По обочинам поднялись, словно откопанные из тысячелетнего небытия, землисто-серые строения, обесцвеченные грязью и пылью, низкие и глухие, похожие то ли на пакгаузы, то ли на саманные дома, а то и вовсе на отжившие свой век сараи, будки, складские сооружения и прочий хлам, сброшенный тут за ненадобностью, сваленный кое-как и гниющий тут, тлеющий, гадящий копотью дыма и зловонно-кислого пара.
Какие-то потерянные души ходили тенями тут и там, что-то разыскивая, роясь на свалке, появлялись из-за угла и, серые, прокопченные, опасливо прятались, чтобы снова появиться и снова исчезнуть.
Ухабистая дорога, утратившая всякие признаки асфальта, кроме каменных надолбов, которые опасными плешами обозначали былое покрытие, – дорога эта расползлась, подперла пылевым своим половодьем покосившиеся заборы, ворота и калитки, проходные будки и грязные стены несчастных зданий, брошенных на произвол властей. И, неказистая, не похожая уже ни на что, выползла вдруг на асфальтированную городскую улицу, застроенную жилыми домами, словно бросилась в ноги старшей своей городской сестре, прося у нее защиты и помощи. Но городская улица, тоже замарашка и калека, была все-таки не такая уж непутевая, как эта измызганная дорога, раздавленная, избитая колесами и проклятая всеми грязная потаскушка. Она спесиво отвернулась от деревенской сестрицы, отряхнула испачканные в ее грязи каменные; телеса и тут же забыла о ней.
А вместе с ней забыл о дороге и Темляков. Он потоптался, стряхивая с ботинок мучнистую пыль, и со вздохом облегчения пошел по тротуару, наконец-то почувствовав себя вне опасности.
Панельные пятиэтажки, эти разменные монеты отечества, везде одинаково плоские, дешевые и убогие, семиэтажные башни грязно-белесого цвета с черными швами бетонных блоков – все эти облезлые, лысые и беззубые старики чередой захромали вдоль по обочинам улицы.
Но, наполненные живыми людьми, они вдруг так растрогали, разволновали Темлякова, попавшего в привычную нищету городского предместья, что он прослезился, не стыдясь и не пряча жиденьких слез.
Всюду были люди, он слышал их голоса, шаркающие шаги, видел цвет глаз, ловил усталые взгляды и был счастлив, что он опять среди них. Лица людей казались ему красивыми в своей печали. Улыбки вечерних глаз, затуманенные тенями усталости, мнились ему божественными. Болезненная бледность, какая отличает жителей бетонных домов с линолеумными полами, представлялась ему отличительной чертой благородства этих людей. Он был влюблен в милых людей, заполнивших тротуары. Ему даже было приятно вдохнуть пыльное облако бензинового перегара от проехавшего грузовика, обдавшего его зловонием.
Он вглядывался в озабоченные лица женщин, пытаясь поймать ответный взгляд и уловить в нем искорку, золотистую пылинку доброй отзывчивости, но когда ему удавалось это, он видел лишь равнодушную усталость во взгляде и уныние»
Темляков не хотел верить в это. Ему, счастливому в своей вселенской любви, чудилось, ему хотелось думать, что то была усталость роженицы, разрешившейся младенцем, или усталость после долгого дня, промелькнувшего на работе, что мнимая эта усталость спадет с лица, лишь только женщины доберутся до своих квартирок, в которых их встретят дети и любимые мужья и поцелуями просветлят милые лица жен, вернув им бодрость и радость жизни.
«Не надо хмуриться, – словно бы говорил он уставшим людям. – Жизнь все равно одна, другой не будет. Задумайтесь, пожалуйста, не губите себя унынием. Уверяю вас, оно бесплодно и может родить только зло. Вы качаете колыбель, в которой растет зло. Вы сами вскормили его своим унынием. Зачем? Неужели вы разучились радоваться доброму взгляду или зеленой траве, усыпанной колокольчиками? Никогда не поверю! Знайте, пожалуйста, завтра для вас наступит самый счастливый день. Он ваш. Живите им, предвкушая счастье, и дни ваши украсятся цветами. Это же так просто! Верьте мне, я знаю Слово».
Но никто не слышал его. Он страдал оттого, что его не слышат, чувствуя свою вину перед людьми, до которых так и не мог докричаться.
Между тем он бесцельно, как праздно гуляющий, шел по безликой улице, пересекая переулки, заглядывая с блуждающей улыбкой в кривую и горбатую их непрочность, вглядываясь в нищенское оскудение серых толпящихся, жмущихся друг к дружке оштукатуренных инвалидов и ветеранов, калек, вросших в землю и асфальт.
Странные воспоминания томили его грудь, будто он видел сон, – так похожи были эти переулки и домики в них на старые московские, которых уже нет, но которые когда-то светились чистыми красками и строгими линиями ухоженных фасадов, травянистой зеленью крыш, ажурным литьем чугунных решеток и наивностью лепных украшений. Переулки, мимо которых он проходил, пересекал их, ловя на себе взгляды страдальчески сморщенных, измученных долготерпением, но все еще глазастых фасадов, – переулки эти с немым укором в очах вставали перед ним несчастными бродягами, истрепавшими не только одежды, но и души на дорогах кровавого и безумного времени, выпавшего на их долю.
Порой Темлякову чудилось, что не он шел по улице, пересекая переулки, а сами переулки выходили ему навстречу, жалуясь каждый своим особенным голосочком, плачась ему на горькую судьбину и гонения, взывая о помощи и прося в нищенском унижении хоть самой малости на поддержание одряхлевших сил.
«Ах вы мои милые! Что же я могу? – в слезной горечи, с улыбкой откликался он на их жалобы. – Нужны деньги! Нужно много денег, несметное богатство нужно России. Где же я возьму? У меня нет. Мы разучились делать деньги и богатство. А когда-то хорошо знали, как это делать, да! Теперь мы презираем и ненавидим богатых, нас приучили бросать в них камни и пускать им кровь. Мы думаем в простоте душевной, что кровь у них черного цвета и ее не жалко. Нам ничего не жалко! Мы знать не хотим, что только богатство может спасти и вас, мои милые переулки, и погубленные реки, и воздух, задымленный ядовитыми выбросами... Нет денег! А раз нет денег, нет мастеров. Нет великих мастеров! Что же можно сделать без них? Этого никто не знает, хотя каждый видит, в какой хаос можно превратить нашу жизнь без денег и без мастеров. Видят, но знать не хотят. Пустому человеку легче жить в бедности, он ленив, он не испытывает нужды в красоте, а потому у него и нет потребности в богатстве. Он убил красоту, чтобы она не мешала ему жить в нищете. Он разрушил храмы! Чего же вы-то хотите, сирые мои?! Ничем я вам не могу помочь, ничем!»
Деньги, правда, были у Темлякова, он знал, что в бумажнике лежит рублей пятьдесят, он хорошо помнил, что там был облапанный, грязный червонец с надорванным краешком, о котором он еще подумал, что терпеть не может таких затертых в хождении по рукам денег, и несколько рублей, один из которых хрустел, словно только что вылетел из гознаковской машины. Это он хорошо помнил. Нащупал рукой внутренний карман, убедился, что бумажник там, и уверенно толкнул дверь продовольственного магазина.
Магазин неожиданно появился перед ним на перекрестке улицы с переулком...
Пыльные стекла его пустых витрин крыльями распахнулись по угловому фасаду старого дома, а дверь была посредине – коричневое тельце, раскинувшее стеклянные крылья с перепонками коричневых переплетов.
Торговля уже заканчивалась, стрелки часов приближались к восьми, и магазин был пуст. Мужские одышливые голоса доносились из подсобки, их перекрикивал высокий женский. Громко и дробно звенели пустые бутылки в металлических сетках-ящиках – видимо, их грузили в кузов автомашины. Пахло тухлинкой.