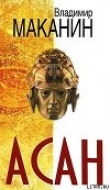Текст книги "Путешествие души [Журнальный вариант]"
Автор книги: Георгий Семенов
Жанр:
Разное
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 17 страниц)
– Ты что это делаешь такое? – тоном взбучки начинала она свою нотацию. – Разве можно ловить лягушат? Папа сказал, что лягушки очень полезные, они уничтожают комаров. Будешь ловить лягушек – комары съедят нас.
Ежилась, как на ветру, запахивалась покрепче сложенными руками, цепко обхватывала пальчиками локти и долго, внимательно, без всякого интереса разглядывала своего ровесника с лягушонком. Глаза ее выражали надменное равнодушие к непослушному мальчику и к лягушонку, который вырывался из его рук. Казалось, все они тут были противны ей, дети и лягушата, хотя она и знала, что лягушки для людей полезны в отличие от грязных детей, особенно если они не соглашались с ней.
– Нет, это не все равно, – выговаривала она, не замечая при этом, что вместо «в» произносит фыркающее «ф», словно язык ее был великоват для губастенького рта. – Ты мне больше не говори об этом никогда, – заключала Соня свою обвинительную речь. – Если я еще услышу, я никогда не буду с тобой играть. Ты понял меня, скажи мне, пожалуйста?
Угрозу никогда не играть с детьми она произносила с такой убежденностью в действенной ее силе, что это настораживало ребят. Они, еще даже не зная, откуда взялась незнакомая девочка, задумывались на мгновение, словно их пугало вдруг, что эта девочка не будет с ними играть, и прекращали мучить лягушек. Соня принимала это как должное, печально устремляя свои близко посаженные дымчатые глаза на ребят. Пухлые губки ее оставались полураскрытыми. Косолапящие ноги в сандалиях, прочно держащие крупную девочку на земле, начинали подрагивать в коленках. Соня потихонечку раскачивалась взад-вперед, как будто ей скучно и тоскливо было смотреть на ребят, не зная, что бы еще такое сказать им, чему бы еще научить полезному. Она о чем-то думала в этом плавном раскачивании, а ребята смотрели на нее и в пугливо-радостном удивлении ждали. Соня зябко сутулилась, шевеля своими белесыми бровками, точно испытывала тяжесть от непосильной нагрузки учить детей, выпавшей на ее долю в столь раннем возрасте.
– Папа мой сказал, – говорила задумчивая девочка, – что в этом году будет дождливая осень. Я не знаю, конечно, почему он так сказал, но он, наверное, не ошибается.
Ее отец, сероглазый, рано поседевший красивый мужчина лет тридцати, казалось, пришел на московскую землю прямо из библейских долин. Он с каждым днем все чаще и чаще выдавливал для Темляковых струящуюся, сияющую зубами улыбку, морща глаза и щеки, влажную, исполненную вечной какой-то вины и подобострастия. Темляковым даже чудилось, что улыбкой своей он игриво просил у них прощения. Но было в этой улыбке что-то опасное, как если бы он, улыбаясь, исподтишка вглядывался из-под этой ласковой и виноватой маски в вечного своего обидчика, и язык уже готов был измолотить его бранью, точно древний Иерусалим, душа и смысл его жизни, оболганный язычниками, опять подвергся осквернению и печали. Соня обожала отца.
Глаза ее, равнодушно разглядывающие неинтересного мальчика или девочку, вдруг оживали в тихой радости, распахивались по-птичьи: ни зрачка, ни белка – одно лишь пушистое серое облачко заполняло пространство под длинными ресницами. Вся вялость тела исчезала бесследно, ноги напрягались, Сонечка срывалась с места и косолапо летела, громко хлопая сандалиями по земле, навстречу отцу, который входил через калитку, возвращаясь с работы.
Отец, завидев ее, тоже истекал весь в сморщенной, влажной, рыдающей улыбке и, распахнув руки, ловил бегущую дочь, подбрасывал ее над головой и, прижав к себе, с уханьем и гуденьем целовал в щеки.
Автомобиль, который привозил отца, оставлял в воздухе запах сожженного бензина. На отце была кожаная куртка, фуражка с замятой назад тульей, тоже остро пахнущая, такая же черная и блестящая, как автомобиль.
– Ну что, ну что?! – отрывисто спрашивал он, гнусавя. – Как провела день? Чего новенького? Рассказывай, рассказывай! Ну что? Как?
– Мальчишки! – изумленно восклицала ожившая девочка. – Лягушат...
– Да, да, – перебивал ее отец. – Мальчишки... Что они натворили?
– Лягушат мучили!
Сцены эти даже Пелагею не оставляли равнодушной. Хозяйка же ее не скрывала радостных слез, видя из окна, как целует отец свою Софочку. Людей она делила на две категории: на тех, которые любят своих детей, и на тех, которые равнодушны к ним. Именно своих детей, а не чужих. Чужих любить не так уж и трудно, это любовь издалека, без боли и без забот.
Борис Михайлович Корчевский, любезный ее сосед, как она стала думать о нем, боготворил свою дочь. Значит, он очень хороший человек, достойный всяческого внимания и уважения, – тут уж сомнений никаких не могло быть, она это знала решительно.
И полюбила своих соседей, тихих, скрытных, занятых самими собою, наслаждающихся своими скромными радостями, до которых не было никому никакого дела, нешумных и незаметных, каждый день награждавших ее улыбками. Молодая мать Сонечки, русая, с серыми выпуклыми глазами, сначала очень смущалась, выходя из своих комнат. Голова ее плотно сидела на широкой и длинной шее, во всю щеку горел румянец, словно вымахивая пламенем из-под ворота, ожигая уши и даже глаза, которые слезились как в дыму. Но скоро и она привыкла к Темляковым, хотя навсегда осталась молчаливой с ними, неразговорчивой, отвечая на вопросы их односложно – да или нет, выражая свое отношение к ним не словами, до которых была она не охотница, а скорее улыбкой или пожатием плеча, наклоном головы или взмахом русых бровей. Звали ее Ревеккой. Итак, Темляковы были очень довольны своими жильцами.
А Пелагея бесконечно удивлялась, отчего это у всех у них такие дымчато-серые, с голубизной глаза и светлые волосы; куда же, Господи боже мой, подевалась смолистая чернота, в которую окрашены волосы и глаза всех остальных братьев их и сестер? Очень странным явлением природы, редчайшим исключением из правил казалось это ей. Она частенько приговаривала, если что-то хорошее хотела сказать о скромном семействе:
– Голубоглазенькие, светленькие, а почему-то евреи. Какие же они евреи? Они и на евреев-то совсем не похожи.
И при этом с подозрительностью поглядывала на Темляковых, обнаруживая, что они куда больше, чем семейство тихих Корчевских, смахивали на евреев. Она и не догадывалась, говоря эти ласковые слова про Бориса Михайловича, Рику и Софочку, что ничего более оскорбительного не могли бы услышать Корчевские, чем это великодушное, по соображению Пелагеи, отлучение от еврейства и признание в них русскости, которая как бы делала их нормальными людьми, достойными уважения и любви. Однажды Борис Михайлович случайно увидел в темном чулане темляковского дома велосипедное колесо и, увидев, с удивленным придыханием в голосе пропел:
– Это что же? Этого не может быть! – Глаза его задымились в сладчайшей улыбке, морщинки вспыхнули и разбежались по зябкой коже, словно она покрылась мурашками. – Неужели велосипед? Не сдали?
– Ах, Борис Михайлович! – воскликнула Темлякова. – Да какой же это... Ах, Господи!
– Что? Что? Как какой же? Постойте, постойте! – И он решительно взялся за колесо, вытянул его из хлама, поднял, ощупывая дряблую резину и заржавевшие спицы. – Колесо от велосипеда! Где же он сам?
Темлякова была крайне смущена, точно ее поймали с поличным.
– Ну какой велосипед! – сказала она. – Дети... они сломали... Разве это велосипед? Помилуйте, Борис Михайлович! Это какие-то археологические руины... – Силы покинули ее, она почувствовала, что сейчас потеряет сознание, и, шаря позади себя рукой, нащупала край сундука, опустилась на него и безжизненным голосом произнесла, как если бы ее пытали: – Был велосипед... Сыновья вокруг дома... Дочери... Потом кто-то, не помню, со всего размаху... И он – вот. Был велосипед. Дети...
– Да где же он? Это же мечта всей моей жизни! – вскричал возбужденный, ничего не замечающий вокруг себя Борис Михайлович, обнимающий колесо, как штурвал. – Мне бы только увидеть! А если он сломан, я починю! Уверяю вас, я понимаю толк! Я не испорчу, нет!
– Борис Михайлович! – с облегчением проговорила Темлякова. – Ах, Борис Михайлович! Разве можно! Я чуть не умерла от страха... Мы теперь всего боимся... Нам кажется... Мы всего, всего боимся...
– Что? Я ничего не понимаю! Рика! – закричал Борис Михайлович. – Ты посмотри, какое чудо! Велосипед!
Он наконец-то увидел во тьме чулана на дальней стене, под потолком черную раму большого велосипеда, передняя вилка которого, освобожденная от колеса, бодливо вздыбилась над тряпичным и деревянным скарбом бывших хозяев дома, над мраморным рукомойником, над медными тазами, рассохшимися стульями, над ломберным столиком, зеленое сукно которого приютило на своей площади кастрюли и рваный оранжевый абажур, висевший когда-то в столовой.
– Вы возьмите, – прошептала сквозь слезы Темлякова.
– Велосипед! – блеющим голосом твердил Борис Михайлович, залезая на столик и гремя кастрюлями. – Настоящий большой велосипед! Как же можно?! Скрывать такое чудо! Как можно! Все равно что запрятать в тюрьму... Нет, я не могу поверить! – говорил и говорил он, снимая со стены грохочущий велосипед. – Рика, прими, пожалуйста! Осторожнее, осторожнее... Так. Бастилия. Свободу узнику! Ура! Да здравствует прогресс! Рика, держи, я сейчас!
Темлякова, поднявшись с сундука, прижалась к стене и в слезливом умилении судорожно тянулась руками к велосипеду, который плыл, покачиваясь, над хламом, словно она тоже хотела помочь этому в самом деле похожему на узника железному счастливцу. Она тоже, как и Борис Михайлович, радовалась, что замурованный во тьме калека может еще пригодиться кому-нибудь, хотя и не верила, будто бы его можно излечить и вернуть к жизни.
– У него что-то смято... что-то сломалось, – говорила она виновато. – Я не помню что, но помню, что починить нельзя... Нет, я не помню. Мне так неудобно, неловко! Мне будет стыдно, если вы не сумеете ничего поправить. Такая рухлядь, боже! Борис Михайлович, Рика, право, не обольщайтесь! Прошу вас, не обольщайтесь, мне будет очень совестно. Вы так радуетесь... Мне просто стыдно за эту рухлядь.
Но радость распирала и ее грудь. Она чувствовала себя так, словно наконец-то пригодилась кому-то, кто-то понял наконец, ощутил на себе всю глубину ее доброты и любви к людям, о которой до сих пор никто не догадывался.
– Ах, Борис Михайлович, – говорила она, всплескивая руками. – Вы весь перепачкались! Мне так стыдно! Он такой пыльный, не протертый... Тут такой хлам, такая пыль! Руки не доходят...
Но Борис Михайлович уже не слышал ее. Бледный и возбужденный, он жадно разглядывал на свету цепь велосипеда, скованную запекшейся ржавчиной шестерню, дергал педали, нажимал на язычок звонка, который тоже заржавел, но все же издал хриплый звук, похожий на тихий стрекот сверчка. Когда Борис Михайлович услышал этот глухой звон, глаза его осветились священным и трепетным восторгом, лицо сморщилось в счастливой улыбке, зубы оскалились, он восторженным взглядом обвел Рику и Темлякову, будто услышал зов боевой трубы, и похолодел в мгновенной отрешенности от житейских будней.
– Вот! – сказал он торжественно. – Бастилия рухнула! Колесо истории повернулось. Его ждет, – кивнул он на черный и тусклый, как старый зонт, велосипед, – ветер странствий. Порукой тому я! Доверьте его мне, – обратился он к Темляковой. – Я не только велосипеды, я безжизненные часы возвращал когда-то к жизни.
– Господи, Борис Михайлович! – взмолилась польщенная до дурноты Темлякова. – Он ваш! Мы хотели сдать его в утиль. Мне совестно, но... простите, если он окажется ни на что не годным... Мне так стыдно!
– Что вы, что вы! Я же вижу! Этот велосипед германской фирмы! Вот, видите? Что там? Ах, не разобрать... Но это отчистим, это потом. Что вы! Я не могу принять такой подарок, хотя, признаюсь, тронут! Но такое чудо в утиль! Это уж извините! Я готов сам заплатить.
– Борис Михайлович, – плаксиво откликнулась Темлякова, – не обижайте... Я буду счастлива, если увижу вас в седле. Но дай вам Бог справиться с ним. Черные дни моей жизни. Ах, вы не поймете! Я так страдала, когда дети ездили на нем.
Не было предела тому восхищению и той благодарности, с какими Борис Михайлович принял от Темляковой небывалый в его жизни подарок.
– Это же мечта! – говорил он, прикладывая руки к сердцу. – Нет, вы не знаете, нет... Это так.
– Да, – полыхая румянцем, подтверждала молчаливая Рика и кивала, тая в смущенной улыбке.
Все были счастливы в этот по-зимнему холодный еще, хотя и солнечно-голубой день марта. Одна лишь Соня, косолапо вмерзнув в холодный паркет, казалось, была сонливо-задумчива и пасмурна; пересохшие от волнения губы ее были приоткрыты; верхние веки приспущены, глаза мутны, как пасмурное небо; из-под стиснутых крыльев носа было слышно тихое сопенье, будто Соня крепко спала, разглядывая огромные колеса в пугающем, странноватом сне, когда небывалые и ни на что не похожие чудовища мерещатся во тьме.
Она вдруг очнулась и быстренько выпалила:
– Я почему-то не люблю этот велосипед... Я не понимаю его совсем.
Это рассмешило Бориса Михайловича, Рику и Темлякову, а Соня, не спуская глаз с черной рамы и хромированных крыльев, опять погрузилась со вздохом во тьму неясных своих раздумий, приопустив отяжелершие веки на серую яшму глаз. В доме с тех пор запахло керосином и машинным маслом. Дмитрий Илларионович останавливался теперь в коридоре, принюхивался и, поводя головой, шумно втягивал воздух чутким своим носом.
– Керосином пахнет, – говорил он жене.
Она кивала ему, соглашаясь.
– Керосином пахнет, – повторял он громче. – Кто-то разлил керосин. Это опасно. Может случиться пожар. Керосином пахнет! Надо сказать Пелагее.
Он никак не мог привыкнуть, что в доме его живут теперь посторонние люди. Останавливался и, удивленно подняв плечи, смотрел им вслед, будто не мог никак понять, что за люди вышли из столовой и что им нужно было там, куда даже ему, Темлякову, был заказан путь.
– Ах, да, да, – бормотал он. – Да, да, разумеется. – И покачивал головой, улыбаясь. – Совсем уж...
Странная привязанность Темляковых к Корчевским приняла со временем такие размеры, что даже собаку, которая прибежала однажды за Борисом Михайловичем, вернувшимся с прогулки на велосипеде, они сумели вопреки своим правилам приласкать и приютить в доме.
Дворняга смотрела на мир страдальчески-мудрыми глазами и, одетая в волнистую шерсть, будто в белое куриное перо, ласково помахивала хвостом. Была она безмерно преданна обитателям дома, каждому из богов, которые круто изменили ее голодную, бродячую, полную унижений и забитости жизнь. Глаза порой светились благодарностью, розовый, как пятачок у молочного поросенка, нос тыкался в руки, выражая полное доверие и покорность.
Со временем Темляковы так привыкли к беспородному умному Бобику, что уже и представить не могли себе утра или вечера без его радостного взгляда и розовой прохлады поросячьего носа. «Собака Корчевских», как называли ее Темляковы, стала для них как бы еще одним подходом к сердечным соседям, эдакой лазеечкой к ним, предметом для общения и разговора.
– Сегодня у Бобика, – говорила стареющая Темлякова, с вежливой улыбкой поглядывая на собаку, – проявился еще один талант. Софочка потеряла платок, я ему сказала: «Ищи» – и он нашел! Он сразу все хорошо понял и нашел платок на пустыре. – Глаза ее, как и глаза собаки, знающей, что люди говорят о ней, поблескивали радостным умилением. Она видела, что Корчевским этот талант Бобика пришелся по душе. – Удивительный пес! Все-таки дворняжки самые умные собаки, – добавляла она, утверждаясь, таким образом, в глазах Корчевских в дружеском расположении к ним.
Темляковы теперь жили словно бы под добрым покровительством Бориса Михайловича Корчевского, который, занимая начальственное кресло в сложной и непонятной Темляковым пирамиде новой власти, являлся в то же время их любезным соседом и благоволил к ним. Они даже гордились, что Борис Михайлович часто приезжает домой на легковом автомобиле, будто имели к этому автомобилю тоже некое косвенное отношение. Такой простой дома и важный в автомобиле и уж, конечно, в служебном кабинете, сосед их придавал им уверенности, и они, лишенные многих прав, чувствовали себя рядом с ним защищенными от произвола.
Бывший дом Темляковых с годами ветшал, штукатурка трескалась, обваливалась, обнажая дранку и клочья пакли, водосточные трубы дырявились ржавчиной, стены в дождливую погоду отсыревали, краска тускнела и покрывалась, как солью, каменной плесенью, болезненными лишаями, потолки протекали, а полы в доме, застланные дубовым паркетом, стали со временем бугриться, теряя былую чистоту и плотность, и стали заваливаться в сторону фасадных окон, словно дом, некогда прочный и строгий в горизонталях и вертикалях, покосился, наклонившись к улице, как брошенное воронье гнездо.
Темляковы ждали, что Корчевские где-то там, наверху, потребуют срочного ремонта, но годы шли, а домоуправление лишь латало крышу, водосточные трубы, наспех замазывало обнажившуюся дранку известкой, красило стены охрой, покрывая яичной желтизной и лепные вставки над окнами.
Однако наступил для них очень печальный день: Темляковы узнали, что Корчевские покидают их, переезжая в квартиру со всеми удобствами в доме на Рождественском бульваре. Ослабевшая от тяжелой сердечной болезни Темлякова плакала по ночам, с ужасом представляя себе картину нового разрушения того жизненного уклада, к которому она уже привыкла.
Но самым сильным ударом, который она не перенесла и слегла в постель, было известие, что Пелагея уезжает с Корчевскими, которые втайне от Темляковых переманили ее, уговорив ехать вместе с ними в новый дом.
Седая, черноглазая, как белая куропатка, Темлякова не узнала Пелагею, когда та сообщила ей эту новость. Перед ней стояло враждебное, мрачное и жестокое существо в образе Паши и своими словами вколачивало и вколачивало гвоздь в ее грудь.
Пелагея проклинала жизнь в темляковском доме, мстительно выкрикивала, что здесь была погублена ее молодость, что она ничего, кроме кухни и ночных горшков, не видела в своей жизни. Кричала все это с мраком в медвежьих глазках, с той беспощадностью бунтующей бабы, которой нечего терять, ибо нашла она себе настоящих хозяев, обладавших нужной для ее укрощения силой и способных защитить ее при случае.
Темлякова так и не смогла оправиться после предательства Пелагеи. Предчувствие смерти поселилось в душе слабеющей день ото дня женщины. Ей не хотелось жить, и она стала со вздохом и горестной улыбкой звать свою смерть, вслух уговаривая себя, что в смерти нет ничего страшного, что она, как сон, унесет ее из жизни. И смерть наконец-то услышала ее.
Перед кончиной, которая случилась в теплый весенний день, пронизанный щебетом и чириканьем воробьев, к Темляковой, лежащей перед открытым окном, нежданно-негаданно пришла Пелагея и, безумовато озираясь, плача, упала на колени, уткнулась мокрым лицом в одеяло, накрывавшее истаявшее тело умирающей, разрыдалась и воющим ревом стала рассказывать, что Бориса Михайловича арестовали, квартиру опечатали, а Рику с Сонечкой переселили в полуподвальную комнату на Трубной, сырую и темную, как земляная яма. Пелагея, теряя силы, повалилась на пол и стала биться в истерике, охая и стеная, как над свежей могилой.
Темлякова с трудом нащупала ее горячую голову, положила руку на скользкие волосы, впервые в жизни ощутив жесткую черепную кость Паши, улыбка скорбно тронула куропаточье ее личико, опушенное снежной белизной, темные глаза закрылись в знак сочувствия, и в желтых ямочках навернулись слюдянисто-тонкие слезинки, будто она в отчаянии выдавила для Пелагеи две эти прощальные капельки – все, чем могла утешить свою блудную прислугу. И прошептала со стоном:
– Жили бы у нас, пронесло... Дал бы Бог! Пронесло...
После смерти хозяйки Пелагея навсегда уехала в деревню и там умерла на глазах у Василия Дмитриевича Темлякова: ей было легче, наверное, расстаться с жизнью, когда кто-то из Темляковых видел ее уход, искупивший грех ее измены.
Василий Дмитриевич Темляков еще совсем недавно появлялся на людях в туманно-голубом, как табачный дым, пиджаке, из-под которого блистала чистотой белая рубашка с распахнутым воротом. Нарочитая небрежность придавала ему независимый вид и ту молодцеватость, которая нравилась женщинам, обращавшим невольное внимание на седой клок волос в широком распахе белого воротничка.
Кожа лица, окрашенная солнцем под цвет еловой шишки, была иссушена годами, но в складках ее и в густых морщинах поблескивали еще озорством и глуповатой радостью коричневые, как у дикого селезня, внимательные глаза. Натянутая кожа лба сквозь пепел волос на высоком куполе темени просвечивала каштановой коричневой. Казалось, весь он был испепелен знойным солнцем, весь состоял из слепящего света и глубоких коричневых теней.
Он был еще совсем живой, и многие женщины на улице замечали его, выхватывая взглядом из толпы, на что Василий Дмитриевич чувственно откликался.
Женщины, знавшие его с юных лет, говорили, что годы украсили Ваську, придав ему яркости, и выявили привлекавшую мужественность в его некогда смазливых, размытых чертах. Они называли его Васькой по праву ровесниц, не замечавших вместе с ним стремительного потока жизни и находивших удовольствие в игривом кокетстве с этим симпатичным седым мальчиком.
Именно в эти годы, когда к власти пришел очередной «политический деятель ленинского типа», как о нем писали газеты, «человек с большим жизненным опытом и большим организаторским талантом», о котором кто-то мимолетно сказал Темлякову, что он необходим сейчас стране как воздух, когда новый талант принялся руководить государством, Темляков тяжело задумался, не находя ответ на вопрос: «Кто же убил Сашу?!»
Его глубоко волновал внешний облик человека, который нанес Саше смертельный удар по больной голове. Он никак не мог мысленным взором увидеть этого человека, исполнявшего чей-то приказ об уничтожении душевно больных людей перед лицом вражеской угрозы Москве. Жестокая нелепость этого приказа была очевидна. Но Темляков задумывался тогда и над вопросом: «А был ли такой приказ? Кто мог издать его? Кто подписал?»
Сознание его мутилось от всех этих вопросов, как если бы он спрашивал о том, о чем ему под страхом смерти запрещено было спрашивать. Он себя чувствовал так, словно обязан был принять смерть старшего брата как должное, как неизбежность. Он как бы не имел права не только интересоваться, почему это произошло, но даже не смел горевать. Его словно бы вынуждали вычеркнуть этот случайный эпизод из жизни, как если бы никакого брата у него никогда не было. Кто его вынуждал к этому, он не мог бы сказать, но кто-то всем ходом жизни, всеми ее официальными словами, призывами и поступками принуждал молчать о трагической смерти брата или, во всяком случае, рекомендовал не поднимать шума, как бы говоря ему со снисходительной усмешкой: «Ну какой тебе в этом смысл?»
Примерно такое же чувство собственного бессилия он испытал спустя несколько лет, когда однажды его вызвали в Управление дороги и секретарь партийной организации, которого Темляков, человек беспартийный, никогда раньше не видел, объявил ему, что он должен выступить на предвыборном собрании в поддержку государственного деятеля, одного из тех, кто был рядом с «талантом», и должен сегодня же зайти в райком в комнату номер восемнадцать к Зинаиде Петровне Брянской, которая в курсе дела.
– Простите, – сказал Темляков польщенно-испуганно, – но я же не член партии.
– Это мы знаем, – сказал секретарь. – Нам и нужен беспартийный. А вы что-нибудь имеете против товарища Фуфлова? Он наш кандидат в депутаты.
– Что вы! Я ничего не имею... Наоборот, – сказал Темляков, поеживаясь. – Но только как-то... все это неожиданно... Вы не ошиблись? Я что-то ничего не пойму. Как это в поддержку?
– Не вздумайте отказываться, – сказал кто-то из-за спины секретаря, блеснув улыбкой. – Партия оказывает вам большое доверие.
– Как!.. – нервно всхохотнул Темляков. – Я не отказываюсь... Я просто как-то не готов... Надо собраться с мыслями, – сказал он, видя в тумане рисованный на полотне сухой кистью портрет человека в блестких очках, худощавое его лицо с плотно замкнутым ртом и впалыми щеками. «Фуфлов, Фуфлов, Фуфлов, – пролетела в сознании знакомая фамилия. – А кто же он там? Даже не знаю, кто он! Как же я могу?» – Но вот ведь какое дело, – начал он вежливо и вкрадчиво, клонясь к секретарю, который что-то писал за столом. – Вот ведь что выясняется... Я, конечно, не отказываюсь, но я никогда не выступал, я боюсь, не получится...
Но секретарь уже протягивал ему какую-то бумажку, и Темляков, не понимая ничего, взял ее, чтобы передать Зинаиде Петровне Брянской. Перед глазами у него опять возник портрет, пристально смотрящий ему в глаза из-за поблескивающих стекол. «Какая у него длинная шея, – подумал с улыбкой Темляков. – Какая-то совсем не государственная... Наверно, хороший человек. Ладно».
– А что же мне там говорить? Я теперь что же – доверенное лицо?
– Где там? – устало спросил секретарь и с улыбкой поморщился, потирая лоб пальцами.
– Ну там... где это происходит... Я же должен подготовиться. Почитать литературу...
– Какую литературу? Вы идите, Темляков, там все объяснят. Не теряйте времени. Вам государственное дело доверяют, а вы какую-то литературу.
– Ну хорошо, хорошо... Спасибо, я понимаю. А куда ехать-то?
– В райком! – уже строго сказал секретарь и добавил с усмешкой: – Ехать... – Он посмотрел на часы. – Поторопитесь!
– Понятно, – сказал Темляков, не посмев спросить у секретаря, где этот райком находится. Видимо, предполагалось, как подумал он с некоторым смущением, что адрес райкома должен знать каждый человек, если он, конечно, считает себя советским человеком.
«Так, – думал он, приходя в себя. – Так, так! Интересно получается. Приятно, конечно. Но что бы это значило? Почему меня? Я – и вдруг доверенное лицо такого человека. Странно!»
Он был очень возбужден и не понимал себя: рад ли он такому случаю или не рад... Портрет Фуфлова опять замерещился перед мысленным взором... Строгий галстук на длинной шее, мальчишеский зачес... «Может быть, это не Фуфлов? – испуганно подумал Темляков. – Может, я что-то путаю?» Он пробежал взглядом по выстроенной мысленно череде портретов, какие вывешивали в Москве к праздникам, перебирая их в памяти, как карты.
«Да! Это, конечно, Фуфлов! С этой школьной причесочкой и с губами... А вообще-то – жесткое у него выражение под стеклами. С таким не поспоришь. Да! – спохватился он. – Но где же этот райком? Мать честная, во дела!
Доверенное лицо! А как тут откажешься? – думал он, вышагивая по тротуару как пьяный и видя перед собой портрет, который словно бы целился в него жестким, поблескивающим взглядом, – Как откажешься?!»
– Скажите, пожалуйста, как мне проехать к райкому партии? – спросил он у постового милиционера.
– Какого района? – спросил тот в свою очередь.
Темляков не знал, какого района. Он очень смутился, поймав на себе подозрительный взгляд.
– Как это какого? – сказал он, стараясь придать голосу шутливый тон. – Нашего района, сержант. Нашего! – Хотя, к стыду своему, вдруг понял, что даже не знает, в каком районе он работает, к какому району относится Управление дороги.
Сержант насмешливо оглядел его с ног до головы, вероятно подумав, спросить документы или не спросить, и, решив не связываться с этим бодрячком-старичком, в том же тоне сказал ему:
– Где райком вашего района, я не знаю, а райком нашего у вас за спиной.
Темляков смутился и принялся объяснять сержанту, зачем ему понадобился райком.
– Ясно, – говорил сержант, – ясно. А документы-то есть с собой? Паспорт...
– У меня? – воскликнул Темляков, понимая, что сержант хочет проверить его личность. – А зачем? У меня... вот... удостоверение, – говорил он, вытаскивая бумажник и хмурясь. – Вот, пожалуйста.
– Мне-то ни к чему, – сказал сержант. – Без документов там не пустят. Я о том, что там потребуют.
Он сам неожиданно покраснел от смущения.
– Да?! – воскликнул Темляков. – А я не знал. Что же теперь делать?
Сержант с ухмылкой козырнул ему и был, кажется, рад, что его о чем-то хотела спросить женщина, к которой он и повернулся, сгоняя ухмылку с лица.
«Морда ты доверенная, а не лицо, – подумал про себя Темляков. – Не помнишь даже, в каком районе работаешь».
В райком его и в самом деле не пустили по удостоверению, хотя дежурный милиционер и был предупрежден Брянской, что придет беспартийный Темляков.
Широкая лестница, маршем своим упиравшаяся в огромное окно, отблескивала новым мрамором, багровела чистым настилом ковровой дорожки. Темлякову очень не хотелось подниматься по этой пустынной лестнице, но в то же время любопытство подмывало его – ему уже нравилось быть доверенным лицом государственного деятеля.
По внутреннему телефону дежурный доверительно переговаривался с кем-то, согласно кивая и тупо перя взгляд в ботинок Темлякова. «Хорошо, – сказал он, – хорошо». Положил трубку и сказал Темлякову:
– Придется подождать.
– Есть подождать! – сказал Темляков, стараясь держаться непринужденно, а оттого и ляпнув «есть», бросившее его в жар.
Он ходил как на рыскале вдоль дверей и, заложив руки за спину, уставившись в полированный гранит пола, слышал напряженную тишину и торжественность здания, в чрево которого он был так неожиданно втянут судьбой. Он взволнованно думал, что в жизни его произошел крутой поворот: какие-то силы, о которых он даже не подозревал, обратили вдруг на него внимание и мгновенно вытащили из безвестности, чтобы по прихоти своей приблизить к делам государственной важности. «Это же смешно! Это смешно! – говорил он сам себе. – Какая государственная важность?! Это же смешно». Но сам же не соглашался с этой насмешкой, уверяя себя, что ничего смешного в этом нет и что, будучи доверенным лицом, он включится волею судеб в круговорот государственной жизни и, может быть, станет первым в темляковском роду, кому достанется честь участвовать... «Боже мой! – перебивал он сам себя. – Это же курам на смех! Морда ты доверенная! Как тебе не стыдно, старому человеку». Но опять возражал сам себе, что не так уж он и стар и что если ему, беспартийному человеку, доверяется такая высокая честь, то, значит, в государственном устройстве что-то изменилось к лучшему, значит...
– Аппарат обедает, – услышал он вежливый голос дежурного, когда поравнялся с ним в своем хождении.
– Что, простите? – встрепенулся Темляков, выходя из внутреннего спора.
– Я говорю, аппарат обедает. Придется подождать.
– А-а, понятно... Хорошо, хорошо... Не беспокойтесь.