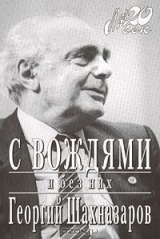
Текст книги "С вождями и без них"
Автор книги: Георгий Шахназаров
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 46 страниц)
я обратил внимание на некорректность метода, согласно которому политическое влияние оценивается преимущественно в соответствии с должностным положением, лишь время от времени президент меняется местами с премьером. Для подобных умозаключений не нужны никакие опросы. Вдобавок имел неосторожность порекомендовать качественную оценку – как влияют, с плюсом или минусом. Грушинские социологи игнорировали критику, но советом воспользовались, еще более усугубив односторонний характер рейтинга. Теперь, к примеру, Зюганов, если даже был в отпуске за оцениваемый период, неизменно получает минус, а Явлинский, пусть он вытворил что-нибудь неумное, что, к сожалению, с ним случается, – столь же обязательный плюс. "НГ" напечатала и вторую мою критическую статью на ту же тему, после чего продолжает как ни в чем не бывало публиковать пресловутые "100 политиков".
Мераб Мамардашвили получил признание как крупный философ и у себя в Грузии, и в российских научных кругах. Мы встречались несколько раз в компаниях. Он не принадлежал к числу людей, завладевающих вниманием, был скромен, тих, молчалив, в прикрытых очками глазах виделась внутренняя сосредоточенность. Это отнюдь не пришло мне в голову сейчас – отложилось в памяти. Словом, настоящий философ.
Евгений Аршакович Амбарцумов долго ходил в "полудиссидентах", хотя по нынешним меркам не "потянул бы" на махрового ревизиониста. Он заведовал отделом в Институте экономики мировой социалистической системы, при этом несколько лет оставался фактически невыездным. Немалых трудов стоило пробить ему возможность поездок даже в страны, изучением которых он занимался. Зато воспрял с перестройкой, став депутатом и председателем Комитета по международным делам Верховного Совета РСФСР, затем – послом России в Мексике.
Ахмед Искандеров написал ряд интересных работ по истории Японии, избран в Российскую академию наук, возглавляет журнал "Вопросы истории".
Но магистральный путь большинства хорошо зарекомендовавших себя "проблемистов" пролегал через аппарат Центрального Комитета КПСС. Иван Тимофеевич Фролов, несколько лет проработав помощником тогдашнего идеолога П.Н. Демичева, достиг всех мыслимых почестей и на политическом поприще (член Политбюро ЦК КПСС, главный редактор "Правды"), и на научном (академик, президент философского общества). Мы с ним были помощниками Горбачева, изредка встречались на "сидениях" в Отделении философии, права, социологии и психологии Академии наук. Хорош был в молодости – высокий, стройный, ясные голубые глаза, чуть вьющиеся золотистые волосы – Иван Царевич из сказки. А натурой прям, резок. Редактируя "Вопросы философии", печатал статьи, вызывавшие раздражение наших обскурантов. Не раз Сергей Павлович Трапезников, гонитель всякой свежей мысли, заведовавший по недоразумению отделом науки, пытался его снять. Я его защищал как мог, ходил к Русакову, Зимянину, просил заступиться. За пределами созданного им Института человека Ивана стало не слышно – то ли устал, то ли махнул рукой на обманувшую всех нас историю.
В помощники генсека вышел из "Проблем мира и социализма" Вадим Печенев. Только другого, серого генсека – Черненко.
С Георгием Аркадьевичем Арбатовым мы сразу же после возвращения в Москву оказались в одной команде – консультантами у Андропова. По соседству в международном отделе оказались в таком же качестве, а затем быстро выдвинулись Загладин, Черняев, Брутенц, Жилин.
Покидая Прагу в 1964 году, я не предполагал, что через несколько лет мне предстоит сюда вернуться, но уже в роли ответственного секретаря и члена редколлегии журнала. Вдобавок так случилось, что накануне моего приезда шеф-редактор журнала Константин Иванович Зародов слег с обширным инфарктом, и в течение шести месяцев на мне лежали все заботы по руководству журналом. Политическая атмосфера в Праге, у нас в Союзе да и в мире в целом была уже не та, что в первый мой срок. Минуло всего два года после подавления Пражской весны. Хотя наши войска были дислоцированы в нескольких гарнизонах, солдаты и офицеры не мелькали на улицах столицы и других городов, страна все еще чувствовала себя полуоккупированной. Чехи – люди воспитанные и сдержанные в проявлении эмоций. Тем не менее мы, можно сказать, шкурой чувствовали неприязненное к себе отношение. Старались меньше бывать в общественных местах, проводя больше времени в своем кругу на улице Тхакурова, 3, где в дореволюционной Чехии помещалась семинария, а потом международный коммунистический журнал (кстати, кажется, семинария вернулась на свое место). Намного более строгая цензура исключала возможность печатания "вольных" материалов, какими журнал блистал при своем появлении. Мне было категорически запрещено публиковать статьи, содержавшие хотя бы косвенную критику политики КПСС. И если удавалось поместить что-нибудь интересное, то главным образом за счет политической публицистики с использованием эзопова языка.
Я выкладывался, стараясь поддержать все еще высокую репутацию журнала. Помогали, как могли, представители партий, с которыми у меня установились ровные уважительные отношения. Хуже было со своими – среди редакторов-консультантов почти не осталось ярких, самобытных "перьев", а ведь их умением и старанием определяется в конечном счете уровень большей части статей. У меня вышел спор с приехавшим в качестве консультанта Егором Владимировичем Яковлевым. Создатель популярного в свое время "Журналиста", знаток ленинских текстов, он утверждал, что журнал может и должен быть интересным для читателя от первой до последней страницы. Симпатизируя в принципе этой идее, я объяснял, что в наших условиях это невозможно. Три четверти содержания журнала составляют материалы, присылаемые компартиями. Мы не можем обязать их писать так, как нам нравится. Много лет спустя в Москве, прочитав от корки до корки один из номеров "Общей газеты", я позвонил Егору Владимировичу и сказал, что он таки доказал свою правоту. Правда, не в отношении "Проблем мира и социализма".
У меня в ту пору было несколько интересных поездок. Одна в Блэкпул на конференцию лейбористской партии, где с триумфом был встречен тогдашний ее лидер Гарольд Вильсон. Вскоре, приведя партию к победе на выборах, он подал в отставку, уступив место премьера и лидера, в связи с достижением 60-летнего возраста. Доживем ли мы когда-нибудь до подобной щепетильности политических деятелей?
Забавная история приключилась в Бухаресте. Журнал как международный орган компартий посылал свою делегацию на их съезды. За отсутствием шеф-редактора мне выпала честь возглавить делегацию "Проблем мира и социализма" на съезде Румын-ской компартии. По традиции при его открытии Чаушеску огласил список гостей, а после каждой очередной фамилии лидера делегаты стоя аплодировали. И вот объявляется: "Делегация журнала "Проблемы мира и социализма" во главе с ответственным секретарем Георгием Хосроевичем Шахназаровым". Я поднимаюсь, кланяюсь, вижу, что вместе со всем президиумом встает и аплодирует Брежнев, и думаю: "Небось припомнит когда-нибудь". И ведь действительно припомнил, но без досады. По возвращении в Москву при первой нашей встрече сказал с улыбкой: "Ну вот, ты и в главы делегаций вышел!" Я сказал, что чувствовал неловкость, поднимая своего генсека. "Все по правилам", – возразил он.
В Вене я поучаствовал в съезде социал-демократической партии Австрии, брал интервью у Бруно Крайского.
В Бейруте представлял КПСС на съезде ливанских коммунистов. В этой партии много армян, у одного из них был организован ужин в мою честь. Меня расспрашивали о жизни в Советском Союзе, о нашей политике, о том, чего ждать в будущем. И, конечно, об Армении, о который, увы, я не мог сказать много, поскольку до того побывал в Ереване лишь однажды.
В перерыве между заседаниями отправился на рынок приобрести японский радиоприемник. Зайдя в одну из лавок, поинтересовался ценой; услышав в ответ "120 долларов", повернулся и пошел к выходу. Хозяин догнал, спросил, сколько у меня есть, я сказал: "Сорок". Он покачал головой, потом поинтересовался, откуда я. "Из Советского Союза". – "А кто по национальности?" – "Армянин". "Так вы же мой соотечественник, берите за сорок". Пока упаковывали приемник, я спросил, много ли он на мне потеряет. Хитро улыбнувшись: "Ничего. Просто я заработаю лишь пять баксов".
Очень увлекательной оказалась поездка на съезд журналистов в Гаване. Не обошлось без приключений. Когда подлетали к Багамским островам, в самолете, который вез большую советскую делегацию, отказала рация. Дотянуть до Кубы не могли из-за нехватки горючего, надо было садиться на Багамах или Бермудах, а там, как рассказал нам командир корабля, командовал военной базой брат того пилота, которого наши заставили приземлиться во время разведывательного полета из Турции над советской территорией; он якобы заявил, что-де пусть только попадутся мне эти русские – я им задам перцу. Рация молчит, начнем ему покачиванием крыльев показывать, что просим разрешения на посадку, а он сделает вид, что не понимает, бабахнет и останется прав.
Короче, пилот спросил у руководителя делегации, тогда еще редактора "Правды" Зимянина, как быть. "А вы что предлагаете?" – поинтересовался Михаил Васильевич. "Лететь обратно".
Развернулись и полетели назад в Рабат, где ждали два дня, пока пришлют новый самолет. Слава богу, запас времени был. За это время съездили в Касабланку, красивый белый город, раскинувшийся на прибрежных холмах. По дороге на Кубу мы с Михаилом Васильевичем играли в шахматы. Он был страстным любителем, а играл примерно в силу моего старого знакомца майора Тищенко. Проигрывая, злился. Наблюдавшие за игрой мои друзья-журналисты, воспользовавшись моментом, когда руководитель делегации отвлекся, слезно попросили проиграть пару раз, "иначе он всем нам задаст жару". Я благоразумно последовал этому совету. В Гаване, в перерывах работы Конгресса, мы продолжали резаться в шахматы друг с другом. Однажды на летучке Зимянин спросил, удается ли кому-нибудь выиграть у Шаха? На что я ответил: "Где им, это только вы можете, хоть и нечасто".
Были и другие развлечения – посещение кабаре в знаменитой Тропикане, купание в лазурных водах океана. На приеме в совет-ском посольстве, устроенном по заключении Конгресса, нас представили Фиделю и Раулю Кастро. Тогда все дело свелось к рукопожатию, и я не предполагал, что мне придется много раз бывать на Кубе, непосредственно общаться с братьями Кастро.
Я часто навещал в больнице Зародова. Ближе познакомившись с ним, пришел к выводу, что и с этим шефом мне повезло. По моей "классификации" он относился к категории, которую уместно назвать "солью земли русской". При этом я имею в виду вовсе не выдающихся людей, которыми богата Россия, а как раз многих рядовых ее воинов и тружеников, чьими стойкостью и старанием она держалась в трудные моменты своей истории. Таких, как капитан Тушин из "Войны и мира", я встречал на войне. Но там их легче распознать. Гораздо труднее – в мирной жизни, где место подвига часто занимает невидимая глазу преданность делу.
Непритязательный в личном плане, неравнодушный во всем, что касалось общественного, государственного интереса, профессиональных обязанностей, поручения, на него возложенного, не лишенный изворотливости и хитрости, без которых не сделать ничего путного в аппаратных дебрях, – таким видится мне Зародов. Был самолюбив. Оправившись от болезни, не замедлил взять в свои руки бразды правления, прежде всего председательствование на редакционном совете и редколлегии, отчетность перед Москвой, переговоры с компартиями. На мне по-прежнему оставалась подготовка журнала к печати. Впрочем, наша совместная работа длилась недолго. Весной 1972 года по представлению
К.Ф. Катушева я был вызван в Москву, утвержден заместителем заведующего Отделом ЦК и вернулся в Прагу лишь для того, чтобы сдать дела и собрать вещи.
Почти четыре года жизни прошли в этом необыкновенном городе. Вот как он отложился в моей памяти.
Люблю я Прагу, все подряд
Воспринимаю в ней как сны я:
И Вышеград, и просто Град,
И знаменитые пивные,
Средневековое лицо
Соборов Вита, Микулаша
С тенями рыцарей, купцов,
Монахов, дравшихся за Чашу.
И Прашной Браны красоту,
И Яна Гуса лик суровый,
И Карлов мост, и суету
Наместья Вацлава святого,
И населенные толпой
Террасы парков Петршины,
И клич свободы той весной...
За грешный шестьдесят восьмой
Я каюсь перед ней поныне.
С Андроповым
Строго говоря, согласно обещанию рассказывать о непосредственных начальниках, я должен был бы перейти к Бурлацкому, который был назначен руководителем только что созданной консультантской группы в Отделе ЦК КПСС и порекомендовал Андропову обратить внимание на мою скромную персону. Но с Федором мы дружим уже полвека, я его не мог воспринимать в начальственном качестве, да и группой он почти не занимался, пребывая постоянно где-то в верхах, – писал для Хрущева, о чем поведал в своей книге "Вожди и советники".
Мало занимался консультантами и другой "промежуточный шеф" – Лев Николаевич Толкунов, бывший тогда первым заместителем заведующего отделом. Он был и не прочь, поскольку подбирал и опекал консультантов. Сам журналист, видел в нас родственные души, и мы ответно к нему тянулись. Человек он был мыслящий, живой, к тому же обладал свойствами великолепного организатора никогда не суетился, не давил на психику подчиненных, не дергал по пустякам, даже в "пиковых ситуациях" был собран и хладнокровен. Все эти драгоценные качества пригодились ему позднее, когда он руководил агентством печати "Новости", был главным в "Известиях", наконец, возглавил одну из палат Верховного Совета. Не берусь сказать, кого в нем было больше: остроглазого журналиста или искушенного аппаратчика, оба этих противоречивых свойства как-то уживались, вроде бы даже не мешали друг другу. По крайней мере, Лев Николаевич спокойно развязывал узлы, которые, казалось, можно было только рубить.
Я многому научился у этого человека и с особенной теплотой вспоминаю последние наши встречи. Так получилось, что летом 1990 года мы вместе отдыхали в санатории "Южный" на Крым-ском побережье. Часто прогуливались, обменивались мнениями о событиях, которые, как волны, набегали тогда на страну, каждая последующая выше и опасней предыдущей. Секретов у нас друг от друга не было, а поводов для тревоги было предостаточно. Судили-рядили, кое-что придумали и условились по возвращении в столицу написать совместную записку Горбачеву. Увы, сначала набежали всевозможные срочные дела, потом на Льва Николаевича обрушилась тяжелая скоротечная болезнь. Хоронил я его вместе с другими; воскрешая в памяти, вижу живым, улыбающимся, с черными озорными глазами, слегка прихрамывающим вследствие фронтового ранения.
Повторяю, Толкунов хотел бы руководить консультантами, и иногда ему это удавалось. Но урывками, потому что заведующий Отделом секретарь ЦК жестко установил: консультантская группа находится в прямом его подчинении, и без его указаний никто из "замов" не должен давать ей каких-либо поручений. Причем это была отнюдь не пустая декларация. Не проходило дня, особенно в первые полтора-два года, чтобы он не призывал нас к себе поручить какую-то работу или просто посоветоваться.
Вот как состоялось мое знакомство с Андроповым. Когда я вошел в большой светлый кабинет с окнами на Старую площадь, Юрий Владимирович встал из-за стола, поздоровался и предложил сесть в кресла лицом к лицу. Его большие светлые глаза светились дружелюбием. Во всей крупной, чуть полноватой фигуре ощущалась своеобразная "медвежья" элегантность. Он словно стеснялся своего роста, величины, старался не выпячивать грудь, как это делают уверенные в себе сановитые люди, а, наоборот, припрятать ее сколько можно. Чуть горбился, и мне кажется, не столько от природной застенчивости, сколько от того, что в партийных кругах было принято демонстрировать скромность, и это становилось второй натурой.
Вообще в цековских коридорах на Старой площади чиновный люд – от младших референтов и инструкторов до "замов" и "завов" – за редкими исключениями, передвигался бесшумно, всем своим поведением и обличьем говоря: чту начальство и готов беззаветно следовать указаниям.
Не составлял исключения и Андропов, без чего, вероятно, было бы невозможным его продвижение по ступеням партийной иерархии. Но каким контрастом с традиционными повадками партчиновника было все его поведение, когда он оставался наедине с человеком, которому доверял, в кругу бывших ему по душе людей из журналистской, научной да и партийной среды.
Официальная часть беседы продолжалась десять минут, в течение которых он расспросил меня о работе журнала "Проблемы мира и социализма", поинтересовался семейными обстоятельствами, проявил заботу об устройстве быта и одобрительно отозвался о последней моей статье – не помню какой. Затем разговор переменился, он заговорил о том, что происходит у нас в искусстве, проявив неплохое знание предмета.
– Я стараюсь, – сказал Андропов, – просматривать "Октябрь", "Знамя", другие журналы, но все же главную пищу для ума нахожу в "Новом мире", он мне близок.
Поскольку наши вкусы совпали, мы с энтузиазмом продолжали развивать эту тему, обсуждая последние публикации журнала. Затем перешли на театр, где он проявил живой интерес к судьбе Таганки, а я, будучи в дружеских отношениях с Ю.П. Любимовым, смог проявить осведомленность о положении вещей в этом "диссидентском" коллективе. Позднее, кстати, именно Таганка стала камнем преткновения в наших отношениях с Андроповым.
Так мы живо беседовали, пока нас не прервал грозный телефонный звонок. Я говорю "грозный", потому что исходил он из большого белого аппарата с гербом, который соединял секретаря ЦК непосредственно с "небесной канцелярией", то есть с Н.С. Хрущевым. И я стал свидетелем поразительного перевоплощения, какое, скажу честно, почти не приходилось наблюдать на сцене. Буквально на моих глазах этот живой, яркий, интересный человек преобразился в солдата, готового выполнить любой приказ командира. Изменился даже голос, в нем появились нотки покорности и послушания.
Впрочем, подобные метаморфозы мне пришлось наблюдать много раз. В Андропове непостижимым образом уживались два разных человека – русский интеллигент в нормальном значении этого понятия и чиновник, фанатично преданный своему партийному долгу и видящий жизненное предназначение в служении партии. Я подчеркиваю: не делу коммунизма, не отвлеченным понятиям о благе народа, страны, государства, а именно партии, как организации самодостаточной, не требующей для своего оправдания каких-то иных, более возвышенных идей.
Это различие проявлялось весьма существенно. Общение с интеллигенцией было, так сказать, отдыхом, источником получения информации, служило утешением души. Оно было и небесполезным в том смысле, что помогало нащупать какие-то оригинальные политические решения или иметь представление о настроениях в журналистской, научной среде, к которым партийные лидеры во все времена чутко прислушивались, но не более.
Будучи, безусловно, самым ярким и одаренным среди своих коллег по тогдашнему руководству, Юрий Владимирович, тем не менее, ориентировался на тех самых послушных партчиновников, о которых шла речь выше. Из этой среды выбирал себе непосредственных помощников, с ними перешел затем в Комитет государственной безопасности и, хотя некоторые из консультантов продолжали навещать его на Лубянке, никому из них он так и не предложил сколько-нибудь высокого поста в своем ведомстве. Интеллектуальные беседы – пожалуйста; обсуждать книгу Делакруа об искусстве – милости просим, писать друг другу мадригалы – отлично. Но, не обессудьте, для выдвижения на руководящие партийные и государственные должности нужен другой тип людей. Из тех, кто будет выполнять приказ, не раздумывая над его целесообразностью.
Нечто подобное, хотя в меньшей мере, свойственно и Горбачеву. При всем при том, что он чувствовал себя по-настоящему раскованным с людьми, если можно так выразиться, "консультант-ской породы", партийно-бюрократическая сторона его натуры требовала неустанной классовой бдительности, сохранения определенной дистанции в отношении интеллектуалов. Пользоваться их услугами в качестве своего рода буржуазных спецов – эта большевистская традиция протянулась от 20-х годов до нашего времени. Вплоть до парадоксальной ситуации, когда генсек, вполне относящийся к этому слою по своему образованию и превосходящий многих своим интеллектом, сам по духу еретик или, как говорили раньше, ревизионист, предпочитал при всем при том опираться на партократов, рассчитывая на их безусловную собачью преданность. И как просчитался!
Но вернусь к Андропову. На протяжении 1964-1966 годов обнаружилось и то новое, что он стремился внести в нашу закостеневшую идеологию, и тот предел, который он не мог перейти.
Справедливо говорят: нет худа без добра. Яростная идейная борьба, разгоревшаяся у нас с Китаем с конца 50-х годов, дала редкий шанс для пересмотра наиболее одиозных постулатов марксизма-ленинизма в сталинской интерпретации. Только шанс, не более, потому что в действительности страсти с обеих сторон полыхали не столько из-за высоких идейных принципов, сколько из-за борьбы двух социалистических держав за руководство революционным лагерем и личного соперничества Мао Цзэдуна и Хрущева за роль "коммуниста No 1". Враждующие гиганты могли обвинять друг друга в реваншизме и догматизме, не посягая на "устои". И если все-таки из этой ситуации удалось извлечь хоть какую-то пользу для нашей обветшалой теории, то прежде всего благодаря Андропову.
Юрий Владимирович собирал консультантов и предлагал провести "мозговую атаку" на предмет маоистских концепций (большой скачок, коммуны, окружение города деревней, "ветер с Востока одолеет ветер с Запада", "пусть погибнет полмира в ядерной войне, зато оставшаяся половина построит коммунизм" и т. д.). Потом брал перо и собственноручно, фразу за фразой, начинал при общем содействии писать письмо китайскому руководству. С каждым очередным письмом тон становился жестче, аргументы – увесистее, ирония – злее. И главным адресатом были при этом отнюдь не китайские, а отечественные догматики. Критика маоистского "мелкобуржуазного революционализма" позволяла, не скажу обновить, но хотя бы подправить нашу теорию в духе новых веяний – и рождавшихся в наших краях, и шедших тогда от Итальянской компартии.
Тогда же обозначилась и граница "обновительских" настроений Андропова.
Так получилось, что дважды мы остались с ним один на один и, отрываясь от работы, в течение нескольких часов говорили о положении в стране и в мире, о том, какая политика предпочтительна.
Речь, в частности, зашла о гонке вооружений. Я высказал мнение, что мы ошибочно трактуем понятие паритета с американцами. Такой паритет фактически был достигнут уже тогда, когда Советский Союз стал обладателем ядерного оружия и средств доставки, способных уничтожить Соединенные Штаты, стереть их с лица земли. Таким образом шансы сторон уравнялись. Но, право же, ни к чему и губительно пытаться достичь арифметического паритета, то есть заполучить столько же оружия по всем основным его видам – самолетам, подводным лодкам, военным базам и т. д. Это нам просто не под силу, надорвет хребет страны. В особенности неоправданно делать ставку на океанский флот и начинать строительство баснословно дорогих авианосцев. А зачем, спрашивается, создавать свои базы во Вьетнаме, Анголе, Йемене? Это же чистое разорение для Союза.
Андропов внимательно выслушал мою тираду, затем встал, походил по кабинету, собираясь с мыслями, вернулся в свое кресло и сильным звонким голосом с обычной для себя убежденностью сказал:
– Вот тут ты не прав, Георгий Хосроевич. Все дело как раз в том, что основные события могут разгореться на океанах и в "третьем мире". Мы и американцы держим друг друга на почтительном расстоянии. Обе стороны понимают, что отважиться на прямую атаку, ядерный удар по противнику – чистое безумие. И хотя у американцев "ястребы" не отказались от планов первого удара, все же, я думаю, у правящего класса хватит сообразительности, чтобы не пойти на авантюру. В Карибском кризисе ведь обе стороны не перешли грань и удалось добиться более или менее приемлемого компромисса.
А это значит, – продолжал он, – что борьба будет переноситься туда, где ее можно вести без прямого для себя ущерба. Помнишь у Ленина: исход схватки будет решаться в Китае, Индии и других странах Востока, где миллиарды людей, подавляющее большинство населения Земли. Так сейчас и получается. Туда, в развивающиеся страны, перемещается поле боя, там поднимаются силы, которых империализму не одолеть. И наш долг им помочь. А как мы сумеем сделать это без сильного флота, в том числе способного высаживать десанты? Ведь только это и удерживает американцев от разбоя, да и то не всегда.
– Юрий Владимирович, – возразил я, – но ведь мы себе живот надорвем. Мыслимо ли соревноваться в гонке вооружений, по существу, со всеми развитыми странами, вместе взятыми?
– Это ты прав, нам тяжело. Но ведь, честно говоря, мы еще по-настоящему не раскрыли и сотой доли тех резервов, какие есть в социалистическом строе. Много у нас безобразий, беспорядка, пьянства, воровства. Вот за все это взяться по-настоящему, и я тебя уверяю – силенок у нас хватит. – Он посмотрел на меня с укоризной. – Вижу, тебя не убедил. Что с вами, консультантами, поделаешь! Вы все пацифисты.
– Ну какой же я пацифист? Я реалист, исхожу из того, что безопасность свою мы обеспечили и теперь надо бы позаботиться о людях, ведь живем-то плохо, бедно.
– Я тебе сказал: резервы у нас огромные. К тому же ты не учитываешь, что у Запада дела с экономикой не ладятся, социальных волнений не избежать. То, что было в Париже в 1968 году, ведь не случайность. Кое-как капиталистам удавалось до сих пор залатывать дыры, но ведь не бесконечно же... Давай работать.
Как всегда, последнее слово осталось за ним. Перечитывая свою запись этой беседы, я подумал, что и тогда, в середине 60-х годов, у нового советского руководства сохранялась надежда, говоря традиционным языком, на очередное обострение общего кризиса капитализма, на то, что революционная волна, захлебнувшаяся в Германии в 1919-м, все-таки накроет Европу.
При этом, естественно, сохранялась неизменной установка на бескомпромиссную борьбу и победу над силами империализма. Не сомневались в этом и умнейшие в тогдашнем руководстве, к числу которых, конечно, принадлежал Андропов. Вероятно, эта их уверенность питалась пионерским прорывом Советского Союза в космос, относительно стабильным ежегодным экономическим ростом. А больше всего – тем понятным энтузиазмом, который был связан с приходом к власти нового руководства. В тот момент его курс не определился еще окончательно, оставались надежды, что страна наконец получит разумное, стабильное управление, оправится от надоевших всем кульбитов своенравного Хрущева. Не случайно девизом брежневского правления поначалу стали лозунги научности, преодоления субъективизма. Я и другие консультанты под руководством Андропова писали первое программное выступление для Л.И. Брежнева, которое он произнес на праздновании Октябрьской годовщины. Признаюсь, и мы находились тогда во власти радужных ожиданий, которые, увы, начали рушиться очень скоро.
В другой раз мы серьезно поспорили с Юрием Владимировичем, обсуждая внутреннюю тему. Он пригласил меня к себе в кабинет и, когда перед нами появились два стакана горячего чая, начал так:
– Вот ты юрист, занимаешься вопросами государственного строительства, пишешь статьи, книжки о демократии. – К тому времени книг я еще не писал, но не стал его переубеждать. – Скажи мне, что, по-твоему, нужно нам сейчас сделать, как улучшить государственный механизм, чтобы он работал безотказно, надежно, без перебоев?
– Могу говорить совершенно откровенно? – спросил я.
– Ты меня обижаешь, – сказал Юрий Владимирович. – Неужто я вас, консультантов, когда-нибудь прижимал? Да вы у нас говорите, как в Гайд-парке. Так что давай говори, что думаешь, если, конечно, не станешь нести антисоветчину, – добавил он с улыбкой.
Получив такое благословение, я довольно откровенно выложил все, что было в то время у меня в голове. Что у нас колоссальный разрыв между Конституцией и жизнью, что депутаты Верховного Совета все до единого не избираются, а назначаются, всякое инакомыслие подавляется в зародыше, аппарат командует выборными органами, хотя на каждом шагу твердим, что власть принадлежит Советам, на деле всем заправляют райкомы и обкомы и т. д.
Юрий Владимирович не прерывал меня, но лицо его постепенно темнело. Он как-то посуровел, и мне даже показалось, что в какой-то момент стал тяготиться тем, что вызвал меня на откровенный разговор. Был он по природе осторожен, опасался соглядатаев, и не без оснований: хотя новый генсек явно благоволил ему, но и зорко присматривал. Брежневу, разумеется, давали читать статьи из иностранных журналов, в которых говорилось о восходящей звезде советской политики – Андропове, ему предрекали в скором времени стать лидером. Это не могло не насторожить хитрого и коварного генсека, и он в своей обычной интриганской манере нашел оригинальный способ не только обезопасить себя от соперника, но извлечь из этого максимальную выгоду – отправил Андропова в Комитет государственной безопасности. Зная о его безусловной порядочности, Леонид Ильич мог спать спокойно: наиболее ответственный участок был поручен умному человеку, а одновременно его, мягко говоря, отодвинули в сторонку.
Эта версия была изложена впервые в "Цене свободы"*. Рой Александрович Медведев в своей фундаментальной, на мой взгляд, лучшей до сих пор биографии Андропова ее оспорил на том основании, что в 1967 году о Юрии Владимировиче мало что знали и в нашей стране, и за границей, иностранные журналы не писали о нем как о "восходящей звезде", а Брежнев "не читал иностранных журналов; он очень бегло просматривал обзоры ТАСС и не считал Андропова своим соперником, хватало других, более влиятельных"**.
По лености своей я никогда не взялся бы соперничать с великим тружеником и собирателем документации, каким является мой друг Медведев. Но в данном случае от своего мнения не отступлюсь. Дело в том, что в одном из номеров журнала, не то "Тайм", не то "Ньюсуик", был напечатан очерк об Андропове с высокой оценкой его интеллектуальных качеств и с прогнозом, что этот политический деятель может как раз стать той самой "восходящей звездой". Были и другие оценки подобного рода со ссылками на его роль в продвижении Кадара после венгерских событий, создании сильного отдела, им возглавляемого, и даже, помнится, с упоминанием нашей консультантской группы, в которой усматривали аналог мозговых центров, входивших тогда в моду.








