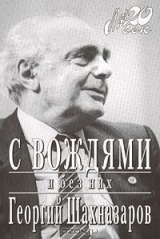
Текст книги "С вождями и без них"
Автор книги: Георгий Шахназаров
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 46 страниц)
Похожая участь постигла Александра II. Революционные демократы требовали освобождения крестьян с землей, помещики соглашались на некоторые послабления в крепостном праве, а царь и его советники приняли промежуточное решение. В наказание народовольцы уничтожили Александра II физически. Современные же радикалы распяли Горбачева морально. У каждой эпохи свои методы расправы с реформаторами.
Но это случилось уже на исходе второго этапа горбачевской эпопеи, завершившегося в августе 1991 года. А весь 1990-й и первая половина 1991-го еще заполнены острой политической и идейной борьбой, которая прерывается отдельными фронтальными схватками, но в основном носит маневренный характер. Как небесные тела, едва выделившиеся из хаоса, находятся в расплавленном состоянии, не сразу обретают четкую конфигурацию, так и социальные силы, разбуженные перестройкой, не успели еще окончательно сгруппироваться, определить свое идейное кредо и местоположение на общественном форуме, избрать стратегию.
Все революции по мере их развития демонстрируют перемещение с фланга на фланг, а подчас и перелицовку участвующих в них политических сил. Можно принять за общее правило, что правые постоянно левеют, чтобы не потерять доверие масс. Народ разогревается медленно, не сразу избавляется от страха перед мечом и кандалами, которые держали его в повиновении. Но с того момента, как он почувствует, что оковы сброшены, стремительно растут его эгалитаристские притязания, а вместе с ними и то, что можно назвать революционной яростью, неудержимое желание смести старые порядки и вытряхнуть рухлядь, которая при них преуспевала.
Чтобы не быть раздавленным в этом смерче, даже отъявленные консерваторы и ретрограды предпочитают напяливать на себя фригийские колпаки и вдевать в петлички красные ленточки. Они мимикрируют в ожидании часа, когда, разрушив вместе со старым порядком всякий порядок вообще и оставшись без хлеба, массы оборотят свой гнев против вчерашних кумиров. Так было во Франции, так было и в России, с той разницей, что якобинцы дали застигнуть себя врасплох и им снесли головы, а большевики, проявив решительность, жестоко расправились с мятежами в Кронштадте и на Красной горке, подавили крестьянские бунты и... "сим победиши".
При сходстве революций, у каждой из них, разумеется, свой почерк. В этом отношении "кривая перестройки" "кривее" всех других общественных переворотов. В самом деле, у ее истоков все общество за ничтожными исключениями безоговорочно поддерживает предложенные перемены, полагая, что "так дальше жить нельзя". Даже ретрограды записываются в ряды реформаторов, рассчитывая, что Горбачев, по примеру Рузвельта, всего лишь укрепит существующие, сильно расшатанные порядки. С другой стороны, радикалы из радикалов еще не смеют надеяться, что сбудется их тайная мечта перевести Россию в разряд "цивилизованных западных стран", и готовы пока довольствоваться малым. Их аппетиты растут только по мере того, как выясняется, что, выпустив революционного джинна, Горбачев уже не в состоянии загнать его обратно в бутылку – уместно добавить, водки. Вот тогда они по-настоящему берутся за дело.
Стоит полистать страницы газет тех лет, вспомнить первые программные заявления кандидатов в народные депутаты, а затем и предвыборные документы вновь возникших многочисленных партий, чтобы увидеть, как быстро меняли они свои ориентиры и обнажали истинные намерения. Всего лишь через год после Первого съезда народных депутатов СССР, который прорвал плотину страха и впервые за послеоктябрьский период утвердил в нашей стране легальную оппозицию, многие из тех, кто еще вчера клялся в верности коммунистическим идеям, объявили себя социал-демократами, затем побывали в либералах и окончательно самоопределились в качестве христианских демократов или даже монархистов. Другие проскочили туда без промежуточных остановок, так сказать, "зонным составом".
В этом нет ничего удивительного, потому что в прежней системе публичное существование каких-либо иных взглядов, кроме коммунистических, просто исключалось. Я не вижу основания корить людей, которые воспользовались дарованной им свободой и открыто заявили о своем истинном идейном веровании. Только тупоголовые ортодоксы могут инкриминировать им в этой связи так называемое отступление от принципов. Принципы имеют смысл при условии, если никто не возбраняет вам избрать другие.
Столь же легко понять, что на первом этапе формирования политических партий неизбежна была своего рода сутолока, когда каждый ищет себе место, столбит участок на социальной ниве, ревниво поглядывая на удачливых соседей и переругиваясь с ними. Нечто вроде захвата золотоносных жил в целинном Клондайке. В этой кутерьме неизбежны и своеобразные кульбиты, когда тот или иной деятель попал по спешке не в свою партию, и она его отторгает. Или, напротив, ему самому разонравилась избранная команда, и он перебегает в другую, часто на противоположный фланг. Или крайне правые и крайне левые, не найдя себе союзников из числа ближних соседей, скрепя сердце заключают блоковые соглашения. Вещи такого рода обычны и в устоявшейся политической системе, а уж в нашей буче без них и быть не могло.
Но вот вопрос вопросов: кто правые и кто левые? Не разобравшись в нем, бесполезно пытаться правильно оценить ход политической борьбы.
Изначально принято именовать левыми партии или группировки, которые отстаивают (по крайней мере на словах) интересы обездоленных, трудящихся, в широком смысле – простого народа. В их программных установках равенству отдается предпочтение перед свободой, коллективизму перед частной инициативой, государственному регулированию отводится, как минимум, не меньшая роль, чем рыночной стихии. Левые всегда недовольны существующей системой, хотят ее изменить и потому требуют реформ или революции.
Правые, естественно, полярная противоположность левых. Защищая интересы богатых, преуспевающих, как правило, власть предержащих, они по самой своей природе либо консерваторы, туго и с неохотой соглашающиеся на новшества, либо вовсе реакционеры, отрицающие необходимость социального прогресса.
Примерно такую характеристику можно извлечь из политических словарей. Вот как БСЭ пишет о правых социалистах: "Реформистские деятели социал-демократических партий, отрицающие революционные принципы марксизма, проводящие политику классового сотрудничества пролетариата и буржуазии".
Подставив под эти "словесные портреты", с одной стороны, самых отчаянных наших "бунтарей – леваков" – скажем, Юрия Афанасьева или Глеба Якунина, а с другой – столь же отчаянных правых "охранителей" – скажем, Виктора Анпилова и Сергея Бабурина, невольно придешь в замешательство. По идейным своим установкам и лозунгам, по речам и поступкам те и другие никак не подпадают под хрестоматийные определения. Выясняется, что левые у нас не лeвы, а правые не прaвы. И в некотором смысле все обстоит наоборот. В чем тут дело? Аберрация зрения, самообман, обман?
Всего понемногу, и уяснить это стоит, потому что речь идет, может быть, о самом фундаментальном вопросе – социальном содержании нашей реформации.
Прежде всего надо обратить внимание на то, что положение в Советском Союзе объективно не соответствовало традиционной ситуации, от которой и произошли представления о борющихся партиях как левых и правых. Наше общество, как к нему ни относиться, возносить или проклинать, было продуктом Октябрьской революции и при всех искажениях начального замысла сохранило свою первозданную суть. После экспроприации буржуазии вся собственность сосредоточилась в руках государства – как ее ни называй, это антипод частной собственности. Политический режим – тоталитарный, у власти партократия, но это ведь не князья и не магнаты, а люди из народа. Все вожди да и 90 процентов партийно-государственного руководства, генералитета, других отрядов правящей элиты – выходцы из рабочих и крестьян в первом поколении. Планирование доведено до абсурда, но оно опять-таки антипод конкуренции и рыночной стихии. До главной цели коммунизма – уничтожения классов далеко, но равенства здесь больше, чем в каком-либо другом обществе. У нас не было буржуазии, и даже правители, живущие на этом свете не хуже арабских шейхов, уходя на тот свет, оставляли детям ничтожное, по нынешним понятиям, наследство, а то и вовсе ничего, как Сталин своей дочери Светлане.
Трагедия нашего общества в том, что все в нем было чудовищно перекошено в сторону общественного начала. Повсюду – в экономике, политике, в духовной и частной жизни был перейден разумный предел применения социалистических принципов. Их безусловные достоинства начали оборачиваться недостатками, а затем, как бывает при неумеренном потреблении чего угодно, вести к деградации. Это явный абсурд, но абсурд социалистический, болезнь на почве злоупотребления социальным. И не случайно все попытки поправить дело имеют противоположный вектор. Таков смысл начатых и брошенных на полдороге экономических реформ конца 50-х, середины 60-х и начала 80-х годов. Требования рентабельности, прибыли, сокращения плановых показателей, свободной торговли и т. д. диктовались пониманием необходимости выправить чрезмерно "левый" крен экономики. И хотя идеологи объявляли это "совершенствованием социализма", всякий мало-мальски соображающий человек понимал, что речь идет о привитии нашему чихающему хозяйственному механизму порции бодрящего капиталистического фермента.
Короче, наше общество было даже не просто социалистическим, а чересчур социалистическим. Но раз так, понятия "правые" и "левые" должны были по отношению к нему поменяться местами, как "меняются местами" руки, когда смотришь на себя в зеркало. С этой точки зрения Афанасьев и Якунин, открыто призывавшие к полному разрыву с социализмом, конечно же, правые, а Анпилов и Бабурин – стопроцентные левые.
Требуется, правда, уточнение. Партии осознают свое место в спектре политических сил, определяясь не только в отношении великих социальных вопросов: собственности и государства, но и в отношении конкретного режима, с которым они имеют дело. В этом смысле наши межрегионалы имели все основания объявить себя демократами, поскольку добивались полного искоренения тоталитаризма и воплощения парламентской демократии в ее классическом образце. Это послужило основанием и для закрепления за ними звания "левые". Звания выгодного и почетного, которое в массовом политическом сознании ассоциируется с понятиями "прогрессивные", "передовые", в то время как "правые" – с понятиями "ретрограды", "реакционеры".
Но если на первых порах, пока в центре общественной борьбы стоял вопрос политического устройства, гордое звание "левые" наши межрегионалы носили заслуженно, вроде красной гвоздики в петлице, то позднее, когда вперед вышел вопрос социальный, обнаружилось, что к левизне-то как раз у партий и деятелей, вылупившихся из межрегионального гнезда, устойчивая аллергия, а то и отвращение. За редкими исключениями, они подняли знамя не социал-демократическое, а либеральное или консервативное.
Тогда-то и пришло в голову назвать вещи своими именами. Пусть каждый значится по тому политическому направлению, какого придерживается. Зачем морочить голову людям? Разве могут именоваться левыми те, кто отнятые реформацией у партократов первоклассные закрытые поликлиники, больницы, санатории отдает в пользование новоиспеченным буржуа, открывает для них ночные клубы и игорные дома, а главное – прокладывает дорогу к рынку методом шоковой хирургии, под ножами которой найдут гибель многие миллионы людей.
Потребность внести ясность в расстановку политических сил стала особенно настоятельной в начале 1991 года, когда Горбачев подвергался яростным атакам с двух флангов. Слева на него давили бывшие соратники по Политбюро, справа рвали зубами радикалы. Надо было с предельной откровенностью объяснить людям ситуацию, раскрыть им глаза на цели и намерения борющихся политических лагерей, застолбить, наконец, собственную позицию и постараться привлечь на свою сторону всех здравомыслящих.
Возник и благоприятный "микромомент" для такого прямого разговора. Горбачева покинули те из его окружения, кто тяготел к радикалам, – А.Н. Яковлев, Э.А. Шеварднадзе, С.С. Шаталин, Н.Я. Петраков. А с "охранителями", остававшимися на министерских постах, его отношения резко ухудшились. Они еще не выступили с инвективами в Верховном Совете (впрочем, это случится очень скоро), но заговор зрел. В этих условиях, может быть, впервые за долгое время он был избавлен от сильных внешних воздействий, максимально свободен в выражении своих истинных, сугубо центристских убеждений. Это и было сделано в речи на политическом собрании в Минске 28 февраля 1991 года.
В речи прозвучало несколько принципиальных констатаций. Что в условиях действующих демократических институтов события направляются уже не партией и не одним президентом, становятся результатом взаимодействия политических сил. Что в стране развернулась ожесточенная борьба за власть, в которой радикалы применяют необольшевистские методы. Что искусственно нагнетаемая лидерами враждующих группировок атмосфера страха и подозрительности угрожает расколом общества и распадом государства.
В этих условиях спасительную роль способно сыграть только центристское направление, призванное воспрепятствовать столкновению крайностей и предложить приемлемую для большинства антикризисную программу. Здесь Горбачев процитировал замечательно точную характеристику Александра Исаевича Солженицына: "Труднее всего прочерчивать среднюю линию общественного развития: не помогает, как на краях, горло, кулак, бомба, решетка. Средняя линия требует самого большого самообладания, самого твердого мужества, самого расчетливого терпения, самого точного знания".
Горбачев "дрогнул" перед речью: сохранив отповедь радикалам, вычеркнул в последний момент резкую оценку антиперестроечного, неосталинистского "крыла". Тем самым его позиция скособочилась, потеряла устойчивость. Психологически это объясняется тем, что в тот момент он видел главную опасность в таранных ударах Ельцина, не отводил глаз от Белого дома, не придавал большого значения тому, что делалось у него под носом в Кремле и на Старой площади. Эдакая беспечная уверенность в подчиненных: "Да разве эти смотрящие мне в рот осмелятся!"
Но даже если б речь появилась на свет уравновешенной, она, увы, не произвела бы ожидаемого впечатления. Опоздала минимум на год и вдобавок была искусно "замолчана" печатью. Заявив о себе фактически в качестве новой политической партии, Центр уже не смог расширить ряды своих сторонников, переманив к себе, как обычно, левое крыло правых и правое левых. Напротив, он продолжал суживаться, как шагреневая кожа, пока не был окончательно расплющен в августе.
Независимо от того, что вскоре после этих событий оба наши лидера объявили себя социал-демократами, "процесс пошел" намного дальше того предела, который мысленно ставил перед ним Горбачев, может быть, перевалил и за ту черту, до которой собирался его довести Ельцин. При всей их идеологической гибкости и конформизме, людям, ходившим в коммунистах три четверти сознательной жизни и побывавшим полтора года в социал-демократах, трудно, если возможно, было завершить преобразование советской модели в западную. Это сподручнее молодым, вроде Е. Гайдара и А. Чубайса, у которых нет комплекса вины за революционное прошлое, кому не надо мысленно оправдываться перед портретом Маркса, подписав очередной Указ о приватизации.
Впрочем, Горбачев сказал: "Это уже без меня", только когда возникала угроза распада Союзного государства.
Теперь, когда мы постарались хотя бы правильно расставить "знаки", следует остановиться на отношениях радикал-демократов с Горбачевым. Именно эти отношения составляли тот нерв, вокруг которого разворачивалась политическая борьба после создания основных демократических институтов.
В то время "настоящие" левые еще не выступили на политическую арену в качестве самостоятельной организованной силы. Они в растерянности, никак не могут поверить, что КПСС перестала быть правящей партией, а ее генсек, по идее "наш человек", благоволит радикалам и "предает своих". После "красной ракеты", запущенной Ниной Андреевой, кое-где начинают формироваться кружки и малочисленные партии "истинных" коммунистов, своего рода "твердых искровцев". Но левые окончательно сложатся в движение только тогда, когда поймут, что власть им больше не принадлежит, осознают себя в качестве оппозиции и примут на вооружение соответствующие методы борьбы. А пока можно только недоумевать и возмущаться бездействием Центра (не станешь ведь митинговать и подбивать рабочих на стачки против своего правительства), требовать от него решительных действий и выступать с предостережениями на пленумах ЦК.
Но поскольку левые опаздывают к полю боя, правые, используя исключительно выгодную для себя диспозицию, смело атакуют Центр. Точнее, не Центр, какого еще не существует в природе, а олицетворяющего это политическое направление президента.
При этом, похоже, не отдают себе отчет в том, что могут действовать безнаказанно лишь за его широкой спиной, благодаря тому, что Горбачев уже самим фактом своего существования в двойной роли генсека и президента парализует левый лагерь. Бьют эту свою защиту безжалостно, наотмашь. Едва только начнут функционировать новые органы власти, в июне 1989 года соберется 1-я сессия "перестроечного" Верховного Совета СССР, а уж в июле "с подначки" эмиссаров радикал-демократического штаба начнутся забастовки шахтеров Донбасса, Караганды, Печорского бассейна. Не успев толком оглядеться после своего появления на свет, юный парламент и его председатель втягиваются в изнурительную многомесячную нервотрепку, вынуждены в спешном порядке принимать закон о забастовках, пытаться остановить стачечную волну посредством судебных запретов, убедиться, что плетью обуха не перешибешь, и в конце концов капитулировать, уступить по всем статьям, открыть шлюзы для астрономического роста зарплаты, который ускорит окончательное расстройство финансовой системы.
От тех забастовок и потянется цепь следствий, помешавших мирному развитию реформации. Они буквально выбьют Горбачева из колеи, спутают его планы. Теперь он будет уже не столько продолжать и углублять реформы, сколько защищаться; вынужден расходовать силы и тающий авторитет, чтобы сдерживать сторонников "жестких мер" и уговаривать вождей радикального лагеря образумиться, не форсировать событий и не загонять его в угол.
Горбачев имел право рассчитывать если не на признательность, то хотя бы на известную лояльность с их стороны. Ведь это его заботами они получили шанс состояться в качестве политических деятелей, по крайней мере поначалу он оберегал их от враждебно настроенных аппаратчиков. На моих глазах произошел следующий эпизод. Генсеку сообщили, что "прорабы перестройки" Попов и Афанасьев забаллотированы в своих парторганизациях и не получили мандатов на Московскую конференцию, а значит, лишаются шансов быть среди делегатов и Всесоюзной. В кабинет приглашается тогдашний первый секретарь МК Зайков.
– Лев Николаевич, ты понимаешь, что мы не можем прийти на Конференцию без самых активных сторонников реформ? Ну пусть они временами перехлестывают, но ведь болеют душой за перестройку.
– Я-то понимаю, Михаил Сергеевич, да что делать, если коммунисты избрали других.
– Подумай. Может быть, провести через другие организации, в общих списках на районной конференции.
– Сложно это... – робко возражает дисциплинированный Зайков.
– Я на тебя надеюсь, – рубит генсек.
И конечно, "прорабы" были избраны. Спустя несколько месяцев они окажутся среди застрельщиков антигорбачевской кампании, а Афанасьев будет осыпать его оскорбительными эпитетами. Воистину никто не умеет так опекать своих врагов, как доброжелательный центрист Горбачев. И это в полной мере относится к первому признанному лидеру оппозиции Андрею Дмитриевичу Сахарову.
История выдвинула в соратники и соперники Горбачева личность гигантского масштаба. И легендарная слава создателя советской водородной бомбы, трижды Героя, и мужественное многолетнее стояние его против тоталитарного монстра, и поразительная благородная стойкость перед беснующимся залом Дворца съездов, все три грани его дарования – ученого, мыслителя, лидера, безусловно, возвели его в ранг великого гражданина.
Судьба горьковского ссыльного перекликалась с участью саратовского отшельника. Чернышевский после амнистии не вернулся в столицу, остался доживать век в провинции. Сахаров вернулся и сразу же стал центром мощного интеллектуального притяжения, второй общенациональной фигурой на политическом форуме страны. Горбачев вызволил мятежного академика из заточения не только из чувства справедливости и понятного желания заслужить симпатии свободомыслящей интеллигенции. Он рассчитывал найти в Сахарове сильного соратника в борьбе за реформы. И мало сказать – не ошибся. Ведь если Андропов был его политическим предтечей, то идейным предтечей был именно Андрей Дмитриевич. За годы до перестройки он выступил со своего рода Демократическим манифестом, а к своему звездному часу располагал уже программой политической и экономической реформы, проектом преобразования Союза ССР в Союз республик Европы и Азии – словом, целостной концепцией реформ.
Когда Сахаров прислал Горбачеву свой проект новой Конституции, мне было поручено "познакомиться и доложить". Это был глубокий и оригинальный документ, в котором выносились на первое место, служили точкой отсчета права человека. Если не считать некоторых пробелов и огрехов в формулировках (документ писался все-таки физиком, не профессиональным юристом), проект вполне заслуживал быть принятым за основу при работе над новой Конституцией. В таком духе было доложено, и Михаил Сергеевич дал принципиальное согласие. Хотя и с опозданием, лишь в конце 1991 года, но было дано согласие и на предложение назвать Союз "евразийским", что, кстати, высказывал в свое время и Ленин.
Оказав неоценимую поддержку делу реформ, Сахаров стал не только сподвижником, но, как уже говорилось, и первым серьезным оппонентом Горбачева. И потому, что он шел на шаг впереди, тянул, торопил. И потому, что этот согбенный, невзрачный с виду человек с тихим голосом и добрым взглядом обладал несокрушимой волей революционера. Если уж он, не дрогнув, бросил вызов могущественному брежневскому Политбюро и КГБ, не сошел с трибуны, несмотря на враждебный вой съезда, так неужто не шагнет в костер, как Джордано Бруно! И такой же жертвенности, такой же отваги, на какие способен сам, требует от своей партии.
Как ни парадоксально это звучит, Сахаров, прибыв из Горького в Москву, действует почти так же, как Ленин после его приезда из Женевы в Петроград. Он собирает разрозненных "прорабов перестройки" в Межрегиональную группу, то есть партию "радикалов", как сам их называет. Рассылает надежных людей на места, особенно в районы крупной промышленности, перспективные очаги рабочего движения. Считает, что колеблющемуся, медленно двигающемуся вперед Центру не следует давать никакой передышки, и на Первом же съезде народных депутатов СССР выступает не с концепцией каких-то там половинчатых реформ "по Горбачеву", а с полновесной бескомпромиссной революционной программой принять декрет о власти, законы о собственности и о земле... Иными словами, одним махом, в один присест разрушить прежнюю систему и сотворить новую, осуществить не постепенные преобразования, а молниеносный общественный переворот. И когда этот политический штурм, подкрепленный волной шахтерских забастовок, не достигает успеха, а, наоборот, заставляет защитников системы ощетиниться, дает указание перейти к "радикальному давлению, пусть даже в форме забастовок". Это "хотя и опасно, но не настолько, и во многих случаях оправданно"*.
Сахаров и в новой для себя роли революционного вождя, прибегая к необольшевистским методам, остается благородным человеком. Он не забывает, кто вызволил его из горьковской ссылки, и даже после того, как Горбачев пару раз бросил ему на съездах раздраженные реплики, говорит о нем с уважением, старается понять и объяснить своим сторонникам причины колебаний лидера. Те при нем еще кое-как сдерживаются, но после ухода из жизни своего вождя уже считают себя свободными от всякого "джентльменства".
Вдобавок после некоторого перерыва радикалы избирают себе уже совсем другого, зубастого и задиристого предводителя, для которого крепкое слово в адрес обидчика, что елей на душу. Так ату его! И вот уже подконтрольные радикалам газеты и телеканалы льют на президента ушаты грязи. Соревнуются, кто пнет его побольнее, сочиняют байки о дачах в Финляндии, на Канарских островах, во Флориде, о сотнях тысяч долларов, якобы потраченных на драгоценности и наряды для Раисы Максимовны и т. д. С предельным цинизмом объявляют его "основным источником нестабильности в Советском Союзе". Продолжая рассуждать в подобном духе, будущий московский полицмейстер Аркадий Мурашов скажет: "Если что-то и случилось за эти пять лет при нем, то не благодаря Горбачеву, а скорее вопреки ему"**.
Повторю: радикалы обошлись с Горбачевым, как полтора века назад народовольцы с Александром II, только не физически уничтожили, а постарались раздавить политически и ославить морально. Они вполне следовали завету В.И. Ленина: "Весь опыт мировой истории, как и опыт русской революции 1905 года, учит нас... либо революционная классовая борьба, побочным продуктом которой всегда бывают реформы (в случае неполного успеха революции), либо никаких реформ... Единственной действительной силой, вынуждающей перемены, является лишь революционная энергия масс"***.
Спрашивается, какая "революционная энергия масс" вынуждала идти на реформы в 1985 году? Владимир Ильич, как нетрудно догадаться, находился под впечатлением 1905 года. Тогда "неполный успех революции" вынудил царя решиться на кое-какие реформы. В других же случаях все обстоит как раз наоборот: удачные реформы предотвращают революцию, делают ее ненужной. Если б радикалы, сгорая от "революционного нетерпения", не прибегли к необольшевистским методам, оказался бы возможным демонтаж тоталитарной системы с более растянутым по времени, но гораздо менее болезненным переходом к рыночной экономике.
История, однако, не существует в сослагательном наклонении. Рвущиеся к власти правые фактически "обезвластили" президента еще до того, как бывшие соратники по партии лишили его свободы и голоса на три августовских дня. В феврале 1991 года на митинге, официально названном "В защиту гласности и против травли Председателя Верховного Совета РСФСР Б.Н. Ельцина", И. Заславский и другие будут заходиться в истерике, требуя немедленной отставки Горбачева и его команды. А на референдум 17 марта 1991 года радикалы выйдут уже с программой развала Союза ССР. И, потерпев поражение, добьются-таки своего. Таков стиль, таков характер необольшевизма.
При всем значении вопросов государственности главное, что на кону между левыми и правыми, – это собственность. Те и другие могут быть патриотами и демократами. Но у каждого лагеря свое представление о том, что нужно Отечеству и отвечает идее народовластия. Что бы ни говорили об ошибках Маркса, а его теория классовой борьбы сохранила свое значение, хотя и нуждается в обновлении. Пусть не существует больше классов
в прежнем измерении, но никуда не делись социальные слои и группы, никто не аннулировал противоречия между ними и никогда люди не откажутся от борьбы за свое существование и преуспеяние.
Парламентская реформа на короткое время отвлекла общество, но едва оно свыклось с новыми условиями политической жизни, на первый план вновь выдвинулись болезненные экономические вопросы. При пассивном поведении все еще дезориентированных левых правые развернули мощное наступление на правительство Н.И. Рыжкова, обвиняя его в неумении и нежелании осуществлять реформы, в развале хозяйства, снижении жизненного уровня. Обвинения эти были не совсем справедливы. Главной причиной начавшегося спада были как раз первые шаги по пути преобразований. Свертывание системы централизованного планирования не могло пройти безболезненно. Рыжков не торопился с переходом к рынку, это верно, опасаясь вызвать обвал производства, но плавный, замедленный ход реформ никак не устраивал оппозицию. Признать рациональность такого метода значило для нее отложить на годы взятие власти.
Тогда и была предпринята, пожалуй, единственная серьезная попытка создать коалицию центристов с радикалами, в основу которой положили программу Г. Явлинского "500 дней". Горбачев склонился ее поддержать без большой охоты. В немалой мере потому, что не хотел приносить в жертву премьера. Фактически в обмен на такую коалицию правые требовали от него головы Рыжкова, как через два года левые будут требовать у Ельцина головы Гайдара. Президент долго колебался не только из-за личной симпатии к человеку, который был ближайшим его соратником в первые годы перестройки. Его предостерегала от методов шоковой терапии группа видных экономистов во главе с Леонидом Ивановичем Абалкиным, которого никто не мог заподозрить в ретроградстве.
В согласии со своей натурой Горбачев попытался найти компромисс, совместив "500 дней" с программой правительства (по словам Ельцина, "поженить ежа и ужа"). А когда эта, заведомо обреченная попытка провалилась, отказался от обязательств перед "радикальной командой", вызвав на себя шквал обвинений в отказе от реформ, капитуляции перед старой гвардией, трусости и т. п. Включились в кампании травли президента и многие обласканные им представители творческой интеллигенции. Станислав Шаталин, на каждой "сходке у Михаила Сергеевича" клявшийся положить за него жизнь, выступил с несколькими истерическими по тону статьями и открытыми письмами. Егор Яковлев опубликовал в "Московских новостях" подписанное им и другими "разгневанными интеллектуалами" заявление с требованием отставки президента. И сколько еще таких было.
Должен признаться, что и в "ближнем" его окружении внезапный отказ от "500 дней" не нашел понимания. Общаясь с экономистами из "правительственного лагеря", мы разделяли опасение, что реализация программы Явлинского может вызвать чрезмерные перегрузки, которые будут переложены на плечи народа. К тому же не было твердой уверенности в том, что Запад по-настоящему раскошелится, чтобы помочь Советскому Союзу встать на ноги: кому охота помогать потенциальному конкуренту. Но в тот момент казалось, что выигрыш от политической коалиции с лихвой компенсирует уязвимость программы. Покончить с нервотрепкой, заключить если не вечный мир, то хотя бы перемирие с оппозицией, изолировать кликуш на крайних флангах, восстановить элементарный порядок – вот что было необходимо в первую очередь. А огрехи экономической программы можно будет в конце концов устранить по ходу ее воплощения.








