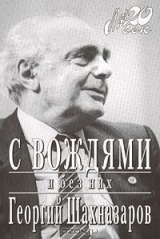
Текст книги "С вождями и без них"
Автор книги: Георгий Шахназаров
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 46 страниц)
Поневоле тянет к обобщениям. Не стану говорить о "советских людях", но то, что в советский период у нас были подготовлены отличные кадры страноведов, непреложный факт. В этой среде было, можно сказать, два неписаных закона. Один – безусловное служение Родине, защита ее интересов, другой – искреннее уважение и симпатия к стране, с которой они профессионально работали, ее людям и культуре. Бывали, конечно, такие, кто, в силу большей частью личных причин, относился к своим "подопечным" с неприязнью. Или, что немногим лучше, у кого дружелюбие перерастало в обожание, и они, сами того не замечая, начинали больше заботиться о представлении интересов "обожаемой страны" в Советском Союзе, чем наших интересов в ней. Но таких попадалось немного, и от них старались избавиться.
В целом же правомерно сказать, что у нас была первоклассная страноведческая школа. Боюсь, в передрягах последних лет безвозвратно потеряны многие из воспитанных ею людей. В последние годы приходилось встречать опытных полонистов, чеховедов и других специалистов этого профиля, занимающихся чем попало. А ведь готовить их намного сложнее, чем дипломатические кадры для великих держав. Редко какой молодой человек изъявляет желание выучить, скажем, венгерский или камбоджийский язык, который ему нигде за пределами этих небольших стран не пригодится.
Кстати, о Камбодже. Когда Егор Кузьмич Лигачев был приглашен в Москву и назначен заведующим организационно-партийным отделом, а затем избран секретарем ЦК, одним из первых его нововведений стало решение, согласно которому занимать должности в аппарате ЦК КПСС могли только люди, состоявшие ранее на руководящей партийной работе. Эта мера еще более понижала планку и без того куцей партийной демократии. Получалось, что коммунист-рабочий, колхозник, учитель, ученый и т. д. не могут рассчитывать когда-либо занять место в центральном аппарате партии. Такая привилегия целиком отдавалась партбюрократии, чиновничеству, номенклатуре. С грехом пополам можно было еще как-то ее объяснить применительно к оргпартотделу – здесь действительно требовался опыт партийной работы. Но особенно нелепо требовать его там, где нужны специалисты узкого профиля.
Как раз в это время Международный отдел ЦК передал нам ведение дел с Камбоджей (тогда еще Кампучией), поскольку считалось, что она вступила на "социалистический путь развития". Понадобился референт со знанием кхмерского языка, и оказалось, что таких в Союзе всего два, причем один советник-посланник, а другой – молодой парень, только окончивший институт и год проработавший в Пномпене. Он согласился перейти к нам, и мы написали записку, не сомневаясь, что получим разрешение. Ничего подобного. Кадровики встали стеной, ссылаясь на необходимость выполнять решение ЦК. Я несколько раз разговаривал с первым замом заведующего оргпартотделом Н.А. Петровичевым, он сочувствовал, но разводил руками. В конце концов посоветовали записать в анкете, что наш кандидат "выдвигался" на организационно-комсомольскую работу во время учебы в институте. Все знали, что это липа, но таким образом спасали лицо. Насколько мне известно, это идиотское решение так и не было отменено.
С 1972 года, когда меня возвели в ранг заместителя заведующего отделом, зарубежные лидеры социалистических стран стали в какой-то мере моими "подопечными", а я вправе был считать их очередными своими начальниками. Мне приходилось вместе с одним из членов Политбюро встречать их в аэропорту, везти в закрепленный за каждым особняк на Ленинских горах (ул. Косыгина), оставаться с ними после того, как высокое лицо, поговорив, а то и отужинав с гостем, отбывало. Присутствовать на другой день на переговорах с Брежневым. Выслушивать пожелания членов делегации.
Что касается быта, тут вступали зав. секторами и референты из специального сектора хозотдела, руководимого Михаилом Могилевцом (позднее его сменил Владимир Шевченко – затем начальник протокола Администрации президента при Ельцине). Они подбирали подарки для главного гостя (их всякий раз придирчиво осматривал сам генсек), принимали встречные подношения, грубо говоря, ведали хозяйской кладовой. В их обязанности входило также принимать заявки от гостей – съездить с ними в закрытую секцию ГУМа, где можно было купить импортные товары, свозить супругу главного к врачу и т. д.
Не будучи политическими деятелями, замы не относились и к обслуге. Пожалуй, самое точное определение их миссии – посредники, через которых могла передаваться информация, точка зрения на тот или иной предмет, в расчете, что она будет доведена до высочайших ушей, высказывались какие-то просьбы и пожелания.
Я уже рассказывал о своей работе в "Проблемах мира и социализма". За первые два года моего пребывания в Чехословакии у меня не было возможности ближе познакомиться с кем-нибудь из видных деятелей этой страны – редакция существовала все-таки в сравнительно изолированной, замкнутой среде. Став в 1970 году ответственным секретарем, я уже должен был часто бывать в международном отделе ЦК КПЧ, которому было поручено заниматься журналом. Регулярно встречался с первым заместителем заведующего этим отделом Михаилом Штефаняком, референтом по Советскому Союзу славным Франтой Хладом. Изредка нас с шеф-редактором К.И. Зародовым принимал Василь Биляк. Как-то раз в подъезде дома на Дейвице столкнулся с бывшим секретарем ЦК (при Дубчеке) Славиком, исключенным из партии. В руках у него была шахтерская лампа, он потряс ею перед моим носом и сказал с горькой усмешкой: "Видишь, я теперь в метро работаю, рабочий класс, значит, моя диктатура!"
Назначение заместителем заведующего Отделом ЦК дало мне возможность познакомиться практически со всем составом чехословацкого руководства. Густав Гусак располагал к себе интеллигентностью, вежливой, доброжелательной манерой общения со всеми, как говорится, независимо от чинов и званий. Обстоятельства, которые привели его к власти в 1968 году, были, мягко говоря, не слишком благоприятны, и мне казалось, что он так и не вошел до конца в роль властелина, не ощущал себя в ней вольготно, как, скажем, Живков или Чаушеску. Похоже, ему, человеку совестливому и мыслящему, претило быть компрадором в глазах немалой части сограждан.
Не думаю, что он был втайне солидарен с А. Дубчеком, Смрковским и другими инспираторами Пражской весны. Но наверняка сочувствовал идее, что Чехословакия заслуживает более демократического социализма, чем тот, который был ей определен Москвой. И уж, конечно, не одобрял классовой непримиримости, с какой относились к Дубчеку и его единомышленникам "твердые искровцы" в чехословацком руководстве. Об этом он однажды в приватной беседе откровенно признался.
В Москве на каком-то приеме мы с женой познакомились с миловидной и симпатичной парой из Чехословакии – журналистами Отой и Евой Выборными, представлявшими чешское радио. Побывали у них в гостях, пригласили к себе. Эта пара была просто влюблена в Россию, ее культуру, оба свободно владели русским языком, у нас было много тем для общения. В августе 68-го года, сразу после вторжения, на партийном собрании в посольстве ЧССР Выборные отказались проголосовать за одобрение этой акции, были вычеркнуты из КПЧ и немедленно отозваны на родину. Там они оставались без работы, жили на случайные заработки, выступая в прессе под псевдонимами, потом с помощью Л. Штроугала все-таки устроились на телевидение. Но все их апелляции о восстановлении в партии встречали решительный отказ. По существу, они, как и 500 тысяч других вычеркнутых и исключенных из партии, вместе с семьями, т. е. немалая часть населения страны, были гражданами второго сорта, находившимися под подозрением.
Я не раз пытался помочь Оте и Еве. Однажды говорил на эту тему с Биляком. Тот не отказал, обещал подумать и сделать что можно. Вероятно, это была просто отговорка. Тогда я обратился к самому Гусаку. Рассказал ему об этом случае, выразил мнение, что Выборные – убежденные коммунисты. В осторожной форме спросил: не получится ли так, что, наказывая значительную часть общества, партия окончательно оттолкнет от себя этих людей, сделает их своими непримиримыми противниками? Откровенно говоря, это был рискованный шаг с моей стороны. Никто не уполномочивал меня вести такие разговоры с чехословацким лидером, и если бы об этом стало известно, мне было несдобровать. Но Гусак меня "не продал" – полагаю, как раз потому, что и сам так думал. По крайней мере он сказал, что знает Выборных, ценит их выступления, но проблема в том, что вопрос надо решать в комплексе по отношению ко всем вычеркнутым из партии. И откровенно дал понять, что против этого значительная часть руководства. Заключил каким-то туманным обещанием.
Так Ота и умер "вычеркнутым".
Осенью 1999 года, после десятилетнего перерыва, я еще раз посетил Прагу. На конференцию "Демократическая революция 1989 г. в Чехословакии" была приглашена также группа советских историков во главе с академиком Григорием Николаевичем Севостьяновым и директором Института славяноведения РАН Владимиром Константиновичем Волковым. Расположились в отеле "Дуо" в районе новостроек. Три дня подряд заседали, разматывая звено за звеном цепь драматических событий, в уникально короткий срок изменивших общественный строй в ЧССР и получивших название "бархатной революции". Рассказывали ее непосредственные участники, докладывали о результатах своих исследований историки, делились переживаниями эмигранты, получившие возможность вернуться на родину после долгих скитаний на чужбине, но, за редкими исключениями, доживающие свой век в Вене, Париже, Стокгольме...
Выступали, отвечали на вопросы, сидя за столом президиума на подиуме. В зале не было предусмотрено круглого или квадратного стола, потому что не присутствовал ни один представитель той, ниспровергнутой в 89-м году власти.
– Вилем, – спросил я у неутомимого организатора конференции Вилема Пречана, – почему нет никого из прежнего коммунистического руководства? Разве можно искать истину, опираясь на показания свидетелей одной, победившей стороны? Любой суд отправил бы такое дело на доследование.
– Вы правы, – ответил он смущенно, – но бывшие не захотели прийти, они боятся.
– Само по себе плохо, если боятся. Значит, очень уж их запугали. А кого приглашали, если не секрет?
– Обращались к Цолотке.
– Допустим, он не захотел. Почему не пригласили других? Например, Хнёупека? Министр иностранных дел, писатель.
– Он плохо себя вел после революции.
– А вот ваш польский коллега Анджей Пачковский пригласил для исторического разбирательства весь состав тогдашнего польского руководства. Что, силовые польские министры, в свое время участвовавшие в установлении военного положения, вели себя лучше вашего министра иностранных дел?
– Возможно, мы еще до этого доживем, – с некоторой грустью заметил Пречан.
Печально, но факт: в Чехии доминирует та самая конфронтационная политическая культура, какая у нас господствует со времен Гражданской войны и пока не собирается сдавать позиции. Перемена власти не превратила жителей этой прекрасной страны в равноправных и, что еще важнее, равноценных для государства граждан. Существовавшую до того "социальную башню" с двумя этажами просто перевернули, как раньше в больницах переворачивали песочные часы. Те, кто занимал нижний этаж, вычеркнутые из политики, переместились на верхний, обитателей верхнего столкнули вниз, теперь они оказались на положении вычеркнутых. Кто-то скажет: на то и революция! Да, когда речь шла о пролетарской. А если она демократическая, не является ли ее главной целью покончить с ситуацией, из которой только один выход – очередное перевертывание "башни"?
Примерно таков был смысл нескольких моих выступлений, мне показалось, в зале многие встретили их сочувственно. Но герои революции 89-го и их летописцы были заняты своей идефикс: доказать собственное авторство событий десятилетней давности: "да, конечно, перестройка в СССР, бунт "Солидарности" в Польше, крушение Берлинской стены – все это сыграло известную роль, но решающее значение имел внутренний фактор".
Помог хоть отчасти преодолеть эту зацикленность на своем приоритете президент Вацлав Гавел, явившийся ответить на вопросы участников конференции. После газетных сообщений о перенесенных им тяжелых операциях я ожидал увидеть изможденного, рано состарившегося человека. Но он выглядел бодро. На вопросы отвечал точно и образно – сказывалась профессия драматурга. Сравнивая лидера "бархатной революции" с его сподвижниками, я должен был признать, что он на голову выше их как политический деятель.
Впрочем, свою роль сыграло и десятилетнее пребывание на посту президента. Я помнил, как робко, хотя и с достоинством, он держался на встрече с Горбачевым в Москве в 1990 году (мне пришлось записывать содержание состоявшейся беседы, Гавел не взял с собой помощника). Тогда он, буквально совершив скачок из тюрьмы, подполья и театральных кулис в Пражский Кремль, просто боялся произнести ненароком не ту реплику, что полагалась по законам не слишком знакомой ему драматургии. Теперь держался уверенно, с легким чувством превосходства, присущим людям, которые достаточно долго находились у власти и воспринимают преклонение перед ними как должное.
Меня он не узнал, а если узнал – не подал вида. Я спросил, какую роль в событиях 89-го года в Чехословакии сыграли перестройка и президент Горбачев. Он ответил честно: огромную. Казалось бы, это авторитетное заявление должно было поставить точку в споре, какой фактор важнее, внутренний или внешний, но и в заключительный день эту тему не оставили в покое. В конце концов сошлись на предложенной мною формуле: перестройка стала для реформ и революций в Центральной и Восточной Европе conditio sine qua non.
С солидными докладами выступили все мои российские коллеги. Мне пришлось отвечать на множество вопросов: правда ли, что посол Ломакин по поручению Горбачева предостерег чехословацкое руководство от применения силы против оппозиции; когда поступил приказ советским войскам, дислоцированным в Восточной Европе, не выходить из казарм и ни при каких обстоятельствах не вмешиваться в ход событий; звонил ли первый секретарь ЦК КПЧ Якеш Горбачеву, спрашивая совета; почему Горбачев не покаялся за подавление Пражской весны во время своего визита в Прагу в 1987 году? И так далее. Ответив как мог, я, в свою очередь, задал вопрос: чувствуют ли чехи себя теперь независимыми, не сменилась ли для страны одна зависимость другой? Ответа не последовало.
Вечером заехали за мной давние друзья Иржи Пурш, бывший председателем Комитета по кино, и его жена Дарья. Посидели за бутылкой моравского вина, порассуждали о сюрпризах времени. К сожалению, не удалось встретиться с Богумилом Хнёупеком, но мы хотя бы поговорили с ним по телефону. Я спросил, правда ли, что приглашали Цолотку, а тот не пошел, побоялся. Ничего подобного, сказал Богуш, это они боятся. Даже наших аргументов.
Вот тебе и "революционный бархат".
Свободный воскресный день перед отъездом я употребил для прогулки по Праге. Добрался на метро до станции "Мустек" в самом центре, прошагал туда-обратно по Вацлавке, постоял с японскими и немецкими туристами на Староместской площади, пока не прозвонили башенные часы с движущимися фигурками рыцарей, монахов, купцов, спустился к Влтаве, пересек Карлов мост, полюбовался Малостранской площадью. Господи, какое значение имеют громоподобные революции, пока все сводится к смене человеческого "караула" и остается невредимой эта ошеломляющая красота.
Как ни значительны сами по себе были главные проблемы Ярузельского (военное положение), Фиделя Кастро (безопасность), Гусака (Пражская весна), какой бы отзвук они ни вызвали в мировой политике, все-таки самой сложной по существу и трагической по последствиям была проблема, стоявшая перед еще одним моим зарубежным "начальником-подопечным" Эрихом Хонеккером, – проблема германского единства. Ее разрешение было воспринято как окончание "холодной войны" и просуществовавшей полвека Ялтинской системы, драматически сказалось на судьбе самого немецкого лидера.
Мне пришлось общаться с ним значительно чаще, чем с другими, прежде всего в силу более интенсивного характера связей между Советским Союзом и Германской Демократической Республикой. Свою роль играла и бoльшая, в сравнении с другими восточноевропейскими столицами, зависимость Берлина от Москвы. Когда я приезжал в Прагу, Варшаву, Гавану, мне по уровню "полагался" прием у члена руководства, ведающего международными вопросами, реже удостаивал встречи сам лидер. Иное дело ГДР. Здесь каждый раз меня и заведующего сектором ГДР Александра Ивановича Мартынова непременно принимал Хонеккер. И в Советском Союзе он бывал гораздо чаще других – помимо официальных визитов приезжал, чтобы открыть памятник Тельману и Музей немецких антифашистов, побывать в Волгограде и других городах, посетить МГУ, Высшую партшколу, промышленные предприятия. В этом смысле он был, что называется, публичным политиком.
Помню, как Хонеккер выразил желание познакомиться с автозаводом имени Ленинского комсомола. Предприятие как раз закончило установку нового оборудования, директор с гордостью показывал просторные цеха, где у станков стояли молодые симпатичные ребята в аккуратных спецовках, рассказывал о построенных новых домах для рабочих и инженерного состава, своих школах, спортивных площадках, бассейнах, поликлиниках. Весь этот комплекс производил отрадное впечатление, а венцом осмотра стал показ нескольких новых моделей автомобилей, которые АЗЛК собирался освоить в ближайшие годы. Оригинальные конструкции, эффектное исполнение – словом, модели выглядели привлекательно, по крайней мере пока стояли на стендах. На вопрос Хонеккера, насколько они отвечают мировым стандартам автомобилестроения, директор, не задумываясь, заявил, что в ближайшие несколько лет завод намерен создать лучшие в мире марки автомобилей. Хонеккер улыбнулся и пожелал успеха. Однако вечером за ужином в особняке сказал, что его несколько смутила излишняя самоуверенность азээлковцев. "Наша техника, – добавил он, – не уступает вашей, но с автомобилями пока ничего не можем сделать, хотя конструкторы обещали мне модернизировать "Вартбург", чтобы он не уступал "БМВ" и "Мерседесам"".
Это было сказано без малейшей иронии.
Как ни странно, несмотря на частые встречи, этот человек был для меня менее понятен, чем другие лидеры. Нельзя сказать, что он был закрытым по натуре. Достаточно разговорчив, охотно отвечал на вопросы о том, как идут дела в республике, предпочитая, однако, все подавать в розовом свете. За вечерним застольем в кругу своих сподвижников мог и пошутить. Но даже это у него выходило строго. Что же касается высказываний на политические темы, они отличались неукоснительным соблюдением канонических марксистско-ленинских формул. Поди разберись, что у него на уме, действительно ли закоренелый фундаменталист, не видит реальности, ни в чем никогда не позволяет себе усомниться, или просто держит свои сомнения при себе, не желает раскрываться.
Соответствовала характеру лидера и атмосфера в политбюро. Члены руководства, с которыми мне чаще пришлось общаться (Курт Хагер, Герман Аксен, Гюнтер Миттаг, Вилли Штоф, Вернер Кроликовский), держались, по сравнению с людьми того же ранга в других партиях, более официально, пожалуй, даже чопорно. Не думаю, впрочем, что таков немецкий характер, поскольку совсем иначе вели себя "функционеры" нашего уровня. Открытый, душевный Пауль Марковский (погиб в авиационной катастрофе), сменивший его на посту заведующего международным отделом ЦК СЕПГ Гюнтер Зибер, Гарри Отт и Герд Кёниг, ставшие позднее послами в Советском Союзе, Бруно Малов и другие наши партнеры-международники были отнюдь не сухие педанты и закоренелые догматики, а люди веселые, остроумные, широко мыслящие. При безусловном соблюдении партийной дисциплины и безоговорочной исполнительности они позволяли себе умеренную критику тех или иных несуразностей у себя дома, а иногда, в "деликатной форме", и у нас.
Один из "политологических" выводов, который я сделал по итогам своей многолетней работы в отделе, состоит в том, что политическая система, сложившаяся в Советском Союзе и растиражированная затем в других странах социалистического лагеря, была создана как бы для разового употребления. Поскольку ее обязательным элементом был самовластный лидер, постольку за его уходом с неизбежностью следовала не одна лишь перестановка людей в правящем слое и какие-то новые акценты в политике, а смена режима. При том что всем социалистическим странам были присущи некоторые базовые принципы политического устройства, его функционирование на треть определялось институтами, а на две трети – личностью вождя. ГДР в этом смысле не была исключением. Личность Хонеккера накладывала свой отпечаток на всю жизнь республики, как до него Вальтера Ульбрихта (мы в шутку называли его режим "вальтерянским") и, наверное, не меньше чем два века назад личность короля Фридриха на всю тогдашнюю прусскую действительность.
В отличие от Ульбрихта Эрик Хонеккер, особенно в первые годы своего правления, не претендовал на лавры теоретика. Но ему поневоле пришлось этим заняться. После заключения Московского договора 1970 года между СССР и ФРГ, урегулирования отношений последней со странами Восточной Европы, руководство ГДР пыталось оттянуть развитие связей с Бонном, с полным основанием полагая, что вторжение западных телепередач и туристов в "Мерседесах" поубавит, если не подорвет, веру граждан ГДР в преимущества социализма. Долго удержаться на такой позиции не удалось. Добиваясь международного признания, ГДР была вынуждена приоткрываться миру со всеми вытекающими отсюда плюсами и минусами.
С другой стороны, взяв курс на созыв Общеевропейского совещания и вступив в этой связи в политический флирт с Бонном, наше руководство дало понять немецким союзникам, что не будет возражать против умеренного развития связей между двумя германскими государствами. В частности, хотя и не без колебаний, закрыли глаза на предоставление ГДР беспроцентного торгового кредита, так называемого свинга, платежей, связанных с посещением республики большим количеством туристов из Западной Германии.
Ситуация в треугольнике "СССР – ГДР – ФРГ" сложилась на редкость странная. Все его "углы" делали, что называется, хорошую мину при плохой игре. Москва требовала от Берлина энергичней влиять на Бонн в интересах продвижения "общеевропей-ской идеи" и в то же время предупреждала об опасности попасть в зависимость от своей мощной соседки. Берлин, уже залезший в долги и неспособный жить без ежегодных вливаний западного капитала, храбрился и делал вид, что идет на развитие отношений с ФРГ только в той мере, в какой этого требует стратегия социалистического содружества в Европе. Ну а Бонн, методически приобретая право на проникновение в ГДР, заверял Москву, что ей нечего беспокоиться, никаких завоевательных планов у него нет.
Именно тогда, задолго до падения Берлинской стены, начался первый этап объединения Германии. Германисты всячески стремились препятствовать сближению западных и восточных немцев, спокойней относились к этому те, кто считал, что воссоединение Германии раньше или позже неизбежно: "Не нам, естественно, форсировать этот процесс, но следует сделать все, чтобы в его финале наша страна получила в лице Германии надежного и доброго партнера".
Вокруг этих вопросов велась оживленная дискуссия на нашей "политической кухне". От советских посольств и резидентур в Берлине и Бонне, по линии ГРУ, временами от руководства Компартии Западной Германии поступали тревожные сообщения о том, что связи ГДР и ФРГ грозят выйти за предел, диктуемый соображениями безопасности. Политбюро поручало Отделу ЦК и МИДу "проанализировать обстановку и представить предложения". На Старой площади или Смоленском бульваре собирались непосредственные исполнители и начинались долгие сидения по германскому вопросу. Въедливый и осторожный Анатолий Григорьевич Ковалев (печатал под псевдонимом стихи, на которые написано немало хороших песен), знаток истории и искусства Валентин Михайлович Фалин*, медлительный, но глубоко копающий Анатолий Иванович Блатов, красноречивый Анатолий Леонидович Адамишин, рассудительный Рафаэль Петрович Федоров – все они были интересными собеседниками, и наша работа сопровождалась экскурсами в историю и философию. В итоге появлялась на свет очередная записка в ЦК КПСС, на основе которой принималось решение поручить послу встретиться с Эрихом Хонеккером и выразить обеспокоенность руководства КПСС в связи с наращиванием присутствия ФРГ в ГДР.
* * *
Один из таких эпизодов наглядно продемонстрировал разницу в порядках, царивших в ЦК и МИДе. Пока мы корпели над документом, Андропов и Громыко уединились в кабинете Юрия Владимировича и время от времени посылали секретаря узнать, скоро ли мы управимся с проектом. Мы действительно "закопались" в поисках точных формул. Наконец сошлись на чем-то и условились отстаивать подготовленный текст совместно. Пошли к начальству. Те прочитали, начали обсуждать. Громыко сделал замечание, Андропов с ним не согласился и спросил: "А как думают товарищи?" И хотя был торжественный уговор, мидовцы тут же капитулировали, дружно поддержав своего шефа. Выйдя, мы упрекнули их в предательстве. "Да, – возразил кто-то из наших коллег, – вам легко с таким начальником, здесь у вас почти Гайд-парк. Попробуй с нашим поспорь, мигом поставит на место".
У нас была, смею сказать, превосходная школа германистики. Ее питомцы в большинстве своем получали солидный багаж знаний в Московском государственном институте международных отношений и многие годы работали в Германии, хорошо знали страну, язык, культуру, национальную психику. Именно среди людей, для которых советско-германские отношения стали делом жизни, была более всего распространена подозрительность к немецкой политике. Особенно отличались в этом смысле заведующий отделом Германии МИДа Александр Павлович Бондаренко, сотрудники нашего отдела – уже упоминавшийся Мартынов и референт его сектора Александр Яковлевич Богомолов. Грамотные, толковые специалисты, они не то что с упорством, но порой даже с фанатизмом добивались сохранения жесткого контроля за каждым шагом ГДР во внутренней и тем более внешней политике. Их кредо было: не допустить никакого изменения ситуации, сложившейся после войны.
Цель, заведомо недостижимая уже хотя бы потому, что ничто не вечно под луной. Контроль Москвы над Берлином в 70-е годы ослабевал и просто в силу дряхления советского руководства. Вот примечательный эпизод. Одна из последних встреч Хонеккера с Брежневым. Высокую делегацию СЕПГ проводят в зал заседаний на пятом этаже здания ЦК КПСС. Леонид Ильич и Эрих трижды обнимаются и целуются. После жарких объятий делегации усаживаются лицом к лицу. Брежнев раскрывает заготовленный текст и начинает:
– Здравствуйте, товарищ Хонеккер...
Слова даются ему с трудом, смысл их уловить нелегко. Слава богу, переводчик, слушая генсека, "шпарит" по собственной копии – "памятке". Заверив в личной преданности и готовности ГДР быть надежнейшим союзником СССР, Хонеккер уезжает в уверенности, что из Москвы, кроме старческого ворчания, ничто ему не угрожает, а посему он отныне сам себе голова.
Раз уж зашла речь об этих переговорах, расскажу о таком эпизоде. Брежневу врачи порекомендовали поменьше курить. Сначала ему изготовили портсигар, который открывался только через каждый час. Он приспособился, в промежутках стал "стрелять" у охранников, не смевших отказать. Тогда эскулапы потребовали вовсе бросить курение. Пришлось подчиниться, но Леонид Ильич и здесь нашел лазейку, прося курящих дымить ему в лицо. На переговорах я сидел рядом с ним, отступив на полшага вправо, слева такую же позицию занимал А.Я. Богомолов в роли переводчика. Зная, что мы оба курим, он попросил обкуривать его, причем не довольствовался тем, что мы дымили попеременно, то и дело оборачивался, жестами давая понять, чтобы постарались. Сидевший рядом Суслов, болевший легкими, кивнул, давая понять: не надо стесняться. Потом мы с Александром Яковлевичем долго не могли отдышаться.
С того момента, как немецкий лидер уверовал в обретенную независимость, он стал действовать гораздо смелее. Можно сказать, что, за исключением Гельмута Коля, никто не внес столь большого вклада в дело германского единства, как генеральный секретарь СЕПГ Эрих Хонеккер. Западногерманские туристы разъезжали по городам республики, сюда потянулись бизнесмены, в берлинских магазинах появились в изобилии товары западного соседа. Наши послы – Петр Андреевич Абрасимов, затем Вячеслав Иванович Кочемасов – слали в Центр депешу за депешей и при каждом удобном случае пеняли Хонеккеру на то, что связи с ФРГ переходят всякие разумные размеры. Но тот только отмахивался, а при встречах с членами советского руководства, навещавшими его в Берлине, говорил, что советский посол зря нервничает, СЕПГ надежно контролирует ситуацию и не даст никаких поблажек классовому врагу.
Думается, он искренне верил в это. Конечно, его не могли не тревожить донесения спецслужб о широком проникновении ФРГ в республику, но догматический склад ума и изрядная амбициозность препятствовали трезвой оценке своего политического курса. Он считал (и не раз говорил об этом, беседуя с нашими представителями), что "перехитрил" Коля, заставив западногерманский капитал вкладывать средства в укрепление рабоче-крестьян-ского немецкого государства. Похоже, продолжал оставаться при этом мнении даже тогда, когда начался массовый исход граждан ГДР на Запад через Венгрию и Чехословакию.
Вилли Штоф и некоторые другие члены руководства СЕПГ конфиденциально доводили до сведения Москвы, что Хонеккер попал под влияние своего "злого гения" Гюнтера Миттага, уступает домогательствам Бонна, позволяя Западной Германии шаг за шагом захватывать контроль над экономикой и другими сферами жизни республики, готовя тем самым ее аншлюс.
Критиковали своего генсека и выдвинувшиеся в 70-е годы руководители среднего звена, считавшие, что болезненную для ГДР проблему отставания от ФРГ следует решать на путях всесторонней модернизации экономической, политической и духовной жизни. Можно сказать, это была, хотя и робкая, своя, гэдээровская "заявка на перестройку". Ее выразителем стал первый секретарь Дрезденского окружкома СЕПГ Ганс Модров. Хонеккер косился на его нововведения, терпел критические выступления на пленумах, потом рассердился и был уже готов подписать решение об освобождении Модрова. Удержало его только вмешательство советского посла.








