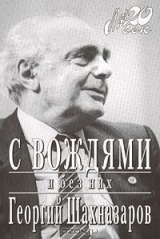
Текст книги "С вождями и без них"
Автор книги: Георгий Шахназаров
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 46 страниц)
Но не зря говорят: нет правил без исключений. В нашем отделе таким исключением был Виктор Анисимов. Молодой человек аскетического склада, зацикленный на ортодоксии, он просто не мог взять в толк, как это люди говорят то, что им не положено. А к непоколебимой его убежденности в нашем праве наставлять ослушников на путь истинный добавлялись карьерные соображения. Анисимов через голову заведующего сектором уведомлял заместителя заведующего отделом О.Б. Рахманина о настроениях своих коллег и подготавливаемых в секторе с моим участием аналитических записках, снискал его полное доверие и в конце концов выбился-таки в завы. Костикова вытеснили из отдела, хотя и "не обидели", назначив заместителем председателя Госкино СССР.
Различия в подходах, о которых я веду речь, могут показаться несколько абстрактными. Поэтому проиллюстрирую их на одном примере. Кризис в Польше разразился не сразу, как землетрясение, а нарастал исподволь, что, кстати, ввело в заблуждение тогдашнее руководство. Первые забастовки гданьских портовиков, создание "Солидарности" и появление на политическом горизонте харизматического рабочего лидера Леха Валенсы застали первого секретаря ПОРП Эдварда Герека и чуть ли не весь состав польского руководства на отдыхе у нас в Крыму. Получив соответствующую информацию, он даже не поторопился вернуться на родину. На выраженное с нашей стороны беспокойство польский лидер беззаботно отвечал, что нет оснований для тревоги, его в стране любят и порядок будет быстро наведен. Между тем началась настоящая позиционная война между властями и нарождавшейся оппозицией – сначала профсоюзной, потом политической. "Солидарность" с помощью церкви распространяла влияние – с портовиков на шахтеров, с шахтеров на крестьян, с крестьян на интеллигенцию, в то время как партийно-государственные верхи, полагая себя неприступными, упрямо отказывались вступать в переговоры и сдавали одну позицию за другой.
Мне не раз приходилось общаться с Гереком в Москве и Варшаве, где польский генсек почти всегда принимал нас с Костиковым. Он был дружелюбен, деловит, с нескрываемым удовольствием рассказывал о позитивных итогах своих микрореформ, которые были, по сути, очередной попыткой достичь западного преуспеяния, введя в хозяйство страны рыночные элементы и чуть раскрыв ворота, скорее щель, для иностранного капитала. Обильно сдобренная кредитами и еще не ощутившая бремени долгов, польская экономика обнаружила признаки оживления, преждевременно принятые за прорыв к искомому качеству. Причем не только в Варшаве. Многие наши экономисты тоже увлеклись польским опытом и писали записки в ЦК, советуя перенести его на нашу почву. Трагедия Герека в том, что он, как и все предшествовавшие ему реформаторы советской модели, рассчитывал добиться успеха, не затрагивая политической сферы. А окончательно добил его непомерный апломб, сродни вошедшему в поговорку высокомерию польского шляхтича. Ведь прояви он, как, к примеру, Янош Кадар в Венгрии, способность сманеврировать, поискать компромисс, то, возможно, смог бы удержаться. Но, судя по установкам властей на первом этапе переговоров с оппозицией, им владели обида, чувство оскорбленной гордости: "Как так, я сам из рабочих, столько для них сделал, а они меня предали!"
В польском руководстве были люди, которые еще за несколько лет до событий 80-го года с большой точностью их предсказывали. Об этом говорил мне Станислав Каня. Ведая органами безопасности, он получал информацию о настроениях в рабочей и интеллигентской среде, готовившейся, не без участия церковных иерархов и западных разведок, к мощным антиправительственным выступлениям. Тогда едва ли считали возможным вырвать Польшу из социалистического лагеря, но явно рассчитывали на перераспределение власти в стране. По мнению Кани, встречными мерами на манер "иммунных уколов" можно было предотвратить обострение политической обстановки, но Герек ничего и слышать об этом не хотел, да и побаивался, что Москва обвинит его в оппортунизме.
Но если Каня, министр обороны Войцех Ярузельский и другие прозорливые члены польского руководства, связанные партийной дисциплиной, в лучшем случае могли довести свои опасения до советского посла, да и то опасаясь, что об этом прознает Герек, то с призывом к реформам не побоялись выступить публично "польские шестидесятники". Глашатаями этого направления стали главный редактор газеты "Политика" Мечислав Раковский, мой давний знакомый известный польский политолог Ежи Вятр, с которым мы многократно встречались на конгрессах Международной ассоциации политических наук, и другие. И чем сильнее был отклик в польском обществе на эти выступления, тем больше гневались на их авторов наши "ястребы".
Согласно донесениям спецслужб, все зло в Польше шло не столько от "Солидарности", сколько от Раковского и его единомышленников. Вечная болезнь видеть самого большого врага в инакомыслящем соратнике.
Мечислав Раковский в конце концов стал председателем Совета Министров Польши и первым секретарем ЦК ПОРП, но время было уже безнадежно упущено. Так же, как избрание Кани (сентябрь 1980 г.), а затем Ярузельского (октябрь 1981 г.) первым секретарем. Реформаторам пришлось вступать в переговоры с позиций непомерной слабости, вести в некотором роде арьергардные бои. Не стану утверждать, что, приди они к власти "вовремя", им удалось бы радикально изменить течение истории. Но было вполне возможным избежать военного положения и того резкого охлаждения наших отношений с Польшей, которое последовало за избранием Валенсы президентом.
Впрочем, это уже относится к сфере гаданий. Тогда развернулась закулисная междоусобица внутри отдела. Прочитав шифровки по линии КГБ и ГРУ (Главное разведывательное управление Генштаба) с изложением очередной статьи Раковского, члены Политбюро и их помощники звонили Русакову или Рахманину с требованием заткнуть наконец рот этому антикоммунисту и антисоветчику (агенту влияния, сказали бы сейчас). В отделе начиналось срочное писание записки в ЦК или в созданную в связи с кризисом польскую комиссию. Представлялся текст телеграммы в Варшаву с поручением нашему послу примерно следующего содержания: "Посетите т. Каню (т. Ярузельского) или лицо, его замещающее, и скажите, что в Москве крайне обеспокоены статьей Раковского в газете "Политика", в которой льется вода на мельницу "Солидарности", атакуются устои социалистического строя..." и т. д. Я переписывал этот текст, убирая грозные инвективы, и шел убеждать Русакова, что нам следует не бить по Раковскому, а привлечь его в свои союзники. Эти аргументы производили на него впечатление, тем более что примерно в том же ключе мыслил советский посол в Польше Борис Иванович Аристов, с которым шеф в дни кризиса перезванивался чуть ли не ежедневно. В то же время он дико боялся быть обвиненным в либерализме. Изрядно помаявшись и даже ворча: "Куда это вы меня толкаете!", секретарь ЦК в конце концов соглашался убрать наиболее грубые обвинения. Бывало, однако, и так, что уже после этого проинформированный Анисимовым Рахманин добивался восстановления жестких формул.
По моему глубокому убеждению, события в Польше могли бы приобрести намного более взрывной и трагический характер, не окажись во главе ее генерал Войцех Ярузельский. Ему досталась незавидная участь – стать у штурвала корабля, когда тот уже на три четверти затонул, в команде назревал бунт, а среди пассажиров паника. В этой отчаянной ситуации генерал сделал главное: введением в стране военного положения 12 декабря 1981 г. он предотвратил кровавую разборку, жертвой которой могли стать многие тысячи, если не десятки тысяч людей. Причем сделал это, зажатый в тисках между Москвой и фундаменталистами из ПОРП, с одной стороны, мощной оппозицией – с другой; вынужденный выбирать между своим долгом первого лица в партии и государстве, т. е. главного гаранта существовавшей политической и общественной системы, и служением народу, подчинением его суверенной воле. Похожий выбор пришлось делать Горбачеву в августе 1991 года.
"Кажется, поляки в конце концов поняли, чем они обязаны генералу Войцеху Ярузельскому", – писал я в книге "Цена свободы"* и явно поторопился. На состоявшемся в Яхранке
близ Варшавы 8-10 ноября 1997 году круглом столе "Польша 1980-1982 годы: внутренний кризис, международное измерение" главным предметом дискуссии стало: следует ли благодарить Ярузельского за введение военного положения в декабре 80-го года или клеймить его как предателя своего народа. После Яхранки правые из чисто конъюнктурных соображений подвергли его нападкам в парламенте, а левые не стали энергично защищать. Пришлось вступиться Горбачеву, письмо которого в защиту Ярузельского было опубликовано в газете "Жиче Варшавы" одним из тех, кого польские фундаменталисты преследовали с особой яростью, – Адамом Михником.
На круглом столе в Яхранке для меня стало откровением личное знакомство с ним и другими провозвестниками "польской весны", которых мы костили на все лады, – Геремеком, Буяком, Модзелевским, Мазовецким. Ей-богу, если бы наши руководители решились в свое время познакомиться с этими людьми, польские события могли принять другой поворот. Куда там! Опуститься до того, чтобы встретиться с диссидентами, признав их "стороной в переговорах"! Между тем эти диссиденты, прислушайся мы к ним, помогли бы решить "польскую загадку". Они ведь в большинстве своем центристы и не случайно не пользуются особым расположением у нынешних властей, у правых и левых на политической сцене.
В дни симпозиума я имел возможность пообщаться с Войцехом Владиславовичем и еще раз убедиться в том, насколько это цельная и благородная натура. Наблюдатели ставят обычно в заслугу великим людям, что они не зазнаются, просты в обращении, "ничто человеческое им не чуждо". Примерно то же сказал бы я о Ярузельском, когда он был польским президентом. Но не менее существенно для познания человеческой природы, как чувствует и ведет себя лидер, решавший судьбы миллионов людей, привыкший к искреннему или лицемерному поклонению, когда он оказывается в тени. В особенности же – потерпев очевидное или кажущееся фиаско в достижении прокламированных им целей. В таком положении одни озлобляются, клянут весь свет, другие замыкаются в себе, спиваются.
Я нашел Ярузельского, при новой встрече с ним, достойно переносящим удары судьбы. По-прежнему прямой, подтянутый, с ясной мыслью и образной речью, он ни перед кем не оправдывался, а пытался объяснить своим соотечественникам, почему необходимо было ввести военное положение в декабре 81-го и каковы реальные последствия этого решения. Последствия... Противники называют его польским Пиночетом, но никто не был убит на варшавском стадионе, где в первые дни интернировали лидеров оппозиции. Все они были отпущены. На протяжении этой "свирепой" акции погибли, и то по недоразумению, несколько человек – не больше, чем ежедневно гибнет на дорогах Польши в автомобильных катастрофах. Но страна была спасена от гражданской войны.
И от иностранной интервенции, добавляли некоторые участники круглого стола в Яхранке. Здесь был фокус дискуссии. Лучшим оправданием для генерала было бы доказательство намерений Советского Союза и других государств Варшавского Договора вторгнуться в Польскую Народную Республику, чтобы "подавить контрреволюцию и защитить социализм". С таким предложением, кстати, обращались к Москве Э. Хонеккер и даже Н. Чаушеску, который в свое время отказался принимать участие в коллективной акции против Чехословакии. Поддержать версию возможной интервенции было оптимальным способом защитить себя на этом подобии уголовного процесса. Но Ярузельский не поддался искушению. "Я не могу судить о том, что было в головах советских руководителей. Но из того, что они мне говорили, из той информации, какую я получал, следовало: ничего нельзя исключать". Таково было "свидетельское показание" генерала. Я с чистой совестью мог его подтвердить, и, чтобы этот вопрос не был отнесен к числу неразрешимых исторических загадок, хочу повторить: советское руководство категорически исключало возможность военной интервенции в Польшу.
Возможно, такие мысли и бродили в головах кого-то из генералов и членов Политбюро, но Кремль, как целое, как воплощенная воля партии и государства, отчетливо понимал, что в условиях войны в Афганистане, начавшегося хельсинкского процесса, наметившегося упадка в экономике, да еще при дряхлеющем лидере, военная акция в Польше была бы губительной для страны. Я присутствовал на всех заседаниях Польской комиссии ЦК КПСС. Все ее сменявшие друг друга председатели – М.А. Суслов, Ю.В. Андропов, К.У. Черненко, М.С. Горбачев – начинали с констатации того, что следует использовать любые меры для сохранения Польши в соцсодружестве, кроме военных. Более того, своими ушами я слышал, как главный наш идеолог и хранитель принципов марксизма-ленинизма Михаил Андреевич Суслов с горечью сказал: "Примиримся, даже если там к власти придет "Солидарность". Главное, чтобы Польша не уходила из Варшавского Договора".
Но именно потому, что военное решение исключалось, считали необходимым оставить поляков и весь мир в убеждении, что оно не исключено, демонстрировали угрозу силой как могли. Верил в это Ярузельский или нет – не имеет особого значения. Как руководитель страны он обязан был не исключать такой возможности. Помимо всего прочего, события ведь могли выйти из-под контроля Кремля. Сознательная провокация против размещенных на территории Польши советских войск поневоле вынудила бы их сопротивляться. Вмешательство стало бы неизбежным и даже оправданным в качестве ответной меры на агрессивные действия НАТО. В том и другом случае судьба Польши перешла бы в руки иностранных государств. Генерал Ярузельский, как истинный патриот, сказал своим соотечественникам: это наша проблема, мы должны решить ее сами.
Кажется, с опозданием на пять лет мое предположение, что поляки поняли, чем они обязаны генералу, все-таки начинает сбываться. По данным социологических опросов, более половины населения Польши позитивно оценивают роль, сыгранную в истории страны Войцехом Ярузельским.
Я встретился с ним еще раз в конце октября 1999 года, когда был приглашен участвовать в конференции: "События в Польше 1986-1989 гг. Конец системы". Дискуссия протекала плавно, без всплесков. Глядя со стороны, можно было подумать, что собрались приятели, давно не видевшие друг друга, вспоминают былое. А ведь за квадратным столом расположились представители трех основных политических сил, чье противоборство стало одной из первых, если не первой открытой схваткой "за" и "против" советской модели социализма, и в придачу всей Ялтинской системы. На этот раз в отеле "Босс" в пригороде Варшавы собрались не первые лица – нездоровилось "генералу", как здесь все называют Ярузельского, не захотел почтить конференцию своим присутствием Валенса. Тем не менее его старые советники – бывший премьер Модзелевский и нынешний министр иностранных дел Геремек – встретились лицом к лицу с бывшим министром иностранных дел в правительстве Раковского Марианом Ожеховским, членом Политбюро ЦК ПОРП Рейковским и секретарем ЦК Чосеком, которым было поручено вести переговоры с "Солидарностью". Третью силу, костел, представляли два епископа. И бывшие противники, отнюдь не ставшие друзьями, прилежно выясняли, "как это было".
На секунду мне почудилось, что в Грановитой палате Кремля уселись за таким же квадратным столом с одной стороны Горбачев с Яковлевым, Медведевым и другими перестройщиками, с другой – Ельцин, Бурбулис, Гайдар и прочие его сподвижники, с третьей – Зюганов, Лукьянов, Рыжков, гэкачеписты, намеревавшиеся спасти Союз, с четвертой – Назарбаев, Каримов, Ниязов, Алиев, Шеварднадзе, бывшие пролетарские интернационалисты, ныне главы независимых государств. Еще одна сторона понадобится для Кучмы, Лукашенко, Кочаряна новых правителей. Может быть, отдельный столик для Масхадова. Сидят, рассказывают историкам и журналистам, "как это было", мирно уточняют детали... Кошмарный сон! Не может быть, потому что у нас этого не может быть никогда.
В день отъезда я позвонил Ярузельскому и получил приглашение к нему на чай. Вместе с В.В. Загладиным и посольским работником А.А. Карасевым приехали мы в особнячок на тихой варшавской улице. Пани Барбара поехала к врачам. Генерал сам встретил нас у калитки, провел в небольшую, заставленную старинной мебелью комнату, где уже стояли чайные приборы и графин с домашней наливкой. С давних пор ему причиняет много неудобств болезнь глаз, из-за которой он вынужден носить очки с затемненными стеклами (недоброжелатели и это используют, чтобы изобразить его свирепым диктатором, боящимся смотреть людям в глаза). В остальном не изменился – все тот же ясный ум, образная речь, живая реакция на все, что творится вокруг.
Разумеется, беседа началась с обмена приветствиями. Я передал слова Горбачева: Ярузельский был и останется самым незаурядным и близким мне по духу лидером. Войцех Владиславович, как мы, по примеру Брежнева, привыкли его называть, в самых возвышенных выражениях говорит о своем отношении к Михаилу Сергеевичу. Дальше беседа обо всем, в некотором роде интервью.
Спрашиваю, как он относится к маршалу К.К. Рокоссовскому.
– Конечно, – отвечает, – преклоняюсь перед полководцем, уважаю как человека. В бытность министром обороны Польши он много сделал для укрепления армии, но, к сожалению, не совсем учитывал национальные чувства. Привез с собой из Москвы много генералов – Ивановых, Петровых, Сидоровых. У чутких к этим вещам поляков складывалось впечатление, что страна чуть ли не оккупирована. Потом, когда его уже отозвали, мы встретились на праздновании 20-летия Победы в Москве (Ярузельский был тогда начальником польского Генерального штаба. – Г.Ш.). Маршал подошел ко мне и громко сказал: "Я поляк и всегда им буду, запомните!"
По своей инициативе Ярузельский вернулся к военному положению – видно, эта тема не дает ему покоя. "Я должен был его ввести. Вы правы, Георгий Хосроевич, хотя советское руководство не собиралось идти на вторжение, я не мог исключать такой возможности. Куликов* как-то прямо мне заявил: "Мы готовы вас поддержать, если понадобится". Окончательно у меня сложилось намерение, когда "Солидарность" объявила о проведении 17 сентября (дата введения советских войск в Польшу в 1939 г.) факельного шествия. Там было много всевозможной публики, могла возникнуть буча как в Венгрии". Генерал вспомнил по этому случаю мою статью об опасности анархо-синдикализма, сам я ее, признаться, давно забыл.
Посетовал, что его не оставляют в покое: "Хотят добраться до руководства компартии, которой все больше боятся (за нее, по опросам, готова голосовать уже треть избирателей), а я для них вроде мишени, пока ее не сразят, не могут приняться за других". Поблагодарил Горбачева за поддержку.
Когда генерал вышел нас провожать, мы спросили, охраняют ли дом.
– Вроде бы да, только я их не вижу, видно, умело конспирируются.
Посмеялись. Он с грустью оглядел свое жилище.
– Вот, смотрите, я не бедствовал в жизни, был министром, членом Политбюро, премьером, президентом, а имею один этот домик. Машины нет, на книжке 10 тысяч долларов, полученных за лекцию в Штатах. Вот и все мое наследство.
– Вы оставили главное свое наследство Польше.
– Пожалуй. Начатые при мне реформы помогли ей легче других перейти к новой системе.
Таким было единственное признание собственных заслуг, какое он себе позволил.
Как для польского президента центральным "спорным" эпизодом политической карьеры явилось введение военного положения, так для кубинского лидера загадка Карибского кризиса. Вроде бы вся эта история отошла в прошлое, да и выяснять особенно нечего. Ну, решили завезти ракеты с ядерными боезарядами на Кубу, чтобы защитить ее от американской интервенции и заодно обеспечить военный паритет СССР с США еще до того, как это удалось сделать наращиванием вооружений. Американские самолеты-разведчики засекли подготовку площадок для советских ракет, президент США ультимативно потребовал прекратить эту операцию. Несколько дней мир находился на грани апокалипсиса, между Москвой, Гаваной и Вашингтоном шли интенсивные переговоры, затем Н.С. Хрущев и Дж. Кеннеди сошлись на компромиссном решении, благодаря которому американцы оставили Кубу в относительном покое и были заключены соглашения, понижающие риск ядерной войны.
Все ясно, да не очень. Все ли детали хрущевского плана были заблаговременно согласованы с Фиделем Кастро; имелось в виду доставить на Кубу ядерные боеголовки или ракеты с обычным зарядом; кто из советских военачальников отдал приказ открыть огонь по американским самолетам-разведчикам; участвовали кубинские руководители в достижении компромисса или их просто поставили перед фактом? Эти и ряд других, второстепенных, вопросов были предметом пристального интереса историков и политиков, однако ответа на них не находилось, потому что основные участники Карибского кризиса занимались этим вразброд. Почему бы не усадить их за один стол, пособив поиску истины, и одновременно, что не менее важно, пробив тем самым хотя бы узкую брешь в плотной блокаде Кубы? Ведь тогда под строжайшим запретом вашингтонских властей находились любые контакты с островом Свободы, в том числе научные.
Тут как раз пришло приглашение из Гарварда поучаствовать в обсуждении Карибского кризиса. С советской стороны были приглашены Ф.М. Бурлацкий, сын Анастаса Микояна Серго – автор ряда работ о Кубе, главный редактор журнала "Латинская Америка" (он летал с отцом в Гавану в те роковые дни) и я. С американской, помимо группы историков и политологов, специализировавшихся на этой теме (Гарткоф, Алисон, Бишлос и др.), участвовали ряд видных деятелей, входивших в 60-е годы в команду президента Кеннеди, Макджордж Банди, Роберт Макнамара, Тед Соренсен и другие. В течение двух дней в Бостоне удалось прояснить кое-какие моменты, по итогам встречи американцы с их расторопностью быстро издали книгу. Но главное – все ее участники с американской стороны с энтузиазмом встретили идею продолжить изыскания в расширенном составе сначала в Москве, а затем, если удастся, в Гаване.
На будущий год нам действительно удалось провести представительную встречу в Москве. Она была, как полагается, оформлена решением ЦК и проводилась в зале Института мировой экономики и международных отношений АН СССР. Энергично включился в ее подготовку Евгений Максимович Примаков, тогда директор Института. От нас там были помимо академического люда дипломаты (включая А.Ф. Добрынина, О.А. Трояновского и первого советского посла на Кубе А.И. Алексеева), военные (генерал армии А.И. Грибков, командовавший в 1962 году нашим соединением), а главное – Андрей Андреевич Громыко, который был, вероятно, самым осведомленным на этот счет человеком, даже более осведомленным, чем Хрущев и Кеннеди, поскольку, будучи министром иностранных дел, ему довелось стать основным передаточным звеном между ними. Ныне освобожденный от груза государственной ответственности, он, пожалуй, впервые на моих глазах держался раскованно, охотно отвечал на вопросы и даже (о чудо!) позволял себе время от времени усмехнуться. Представительной, примерно в том же составе, что в Гарварде, была делегация американцев. Я вот сказал "делегация", но это по привычке, так мы были приучены, иначе как делегациями, советские люди практически не выезжали за рубеж. Американцы же, напротив, всякий раз подчеркивают, что каждый из них в личном качестве, хотя на практике во всех научных встречах, какие у меня с ними были, они выступали весьма сплоченно и имели-таки свою "главную фигуру".
Украшением дискуссии стало участие в ней внушительной кубинской делегации во главе с одним из соратников Фиделя Серхио дель Валье. В дни Карибского кризиса он возглавлял службу безопасности и вместе с Раулем Кастро отвечал за оборону страны. Он охотно отвечал на многочисленные вопросы о событиях, как они виделись с кубинской стороны, и от имени Фиделя выразил готовность провести еще одну "тройственную" встречу в Гаване.
Участие кубинцев в Московской встрече оказалось возможным вот каким образом. 7 ноября 1987 года в СССР торжественно отмечалась 70-я годовщина Октябрьской революции. Кубинскую делегацию возглавил Фидель. Я имел возможность несколько раз беседовать с кубинским лидером в его резиденции на Ленинских горах. Рассказал ему о завязке нашей дискуссии с американцами и спросил: не стоит ли и кубинцам подключиться к ней, чтобы с максимальной достоверностью осветить драматический эпизод истории Кубы и всего мира? Фидель задумался, привычным движением поглаживая бороду. Потом сказал: "Не только стоит, но и необходимо. Вокруг этих событий нагромождено немало выдумок, остаются загадки, мы могли бы помочь, сообщив о том, чему были прямыми свидетелями. Но нас ведь никто и не приглашает".
Я попросил дать согласие на участие кубинцев в Московской конференции, Фидель обещал и сдержал слово. Он положительно откликнулся и на идею провести "третий раунд" на Кубе, а затем начал вспоминать октябрьские дни 62-го года, когда судьба человечества разыгрывалась в партии Москва – Вашингтон – Гавана. Получилось своеобразное интервью, которое, с согласия Фиделя, я записал на видеопленку. Собственно говоря, это было не столько интервью, сколько монолог. Кубинский лидер заключил его так: "Сегодня я понимаю, что действия Хрущева в тот период были рискованными, если не сказать – безответственными. Ему следовало осуществлять политику, которую проводит сейчас Горбачев. Мы, однако, понимаем, что в то время у СССР не было стратегического паритета, какой есть сейчас. Я не критикую Хрущева за то, что он преследовал стратегические цели, однако выбор времени и средств для их достижения не был удачным".
На мои слова о том, что американцы вынуждены были все прошедшее время соблюдать договоренности, достигнутые в период Карибского кризиса, Фидель ответил: "Действительно, это так. Поэтому я не считаю себя вправе критиковать Хрущева. У него были свои соображения. Да и не имеет большого смысла переигрывать историю, гадая, что могло бы случиться, если бы...".
Кастро высказался за публикацию мемуаров участников тех событий и добавил, что готов сам поучаствовать в дискуссиях на эту тему. "Кое-что о Кубинском кризисе мне все-таки известно", – сказал он с улыбкой.
"Третий раунд" действительно состоялся в Гаване в январе 1991 года. К сожалению, я не смог в нем участвовать из-за накала событий в нашей стране.
Я не вел записей других своих разговоров с Фиделем и очень сожалею об этом. Американская пропаганда демонизировала этого человека, до сих пор на Западе многие воспринимают его как тирана, равняя с другими латиноамериканскими диктаторами. Обвиняют его в создании непосильной для кубинской экономики мощной системы обороны и безопасности. А как, скажите, надо было ему действовать, при том что над Кубой постоянно нависала угроза интервенции, самого Фиделя бессчетное количество раз ЦРУ пыталось физически уничтожить? Если это и была тирания, то тирания особого рода, при которой приоритетное внимание уделялось медицине и народному образованию. Конечно, никуда не уйти от того факта, что сотни тысяч кубинцев искали фортуну во Флориде. Но не является ли это хрестоматийным примером противоречий между идеями равенства и свободы? Народ Кубы наглядно проиллюстрировал, что выбор в пользу одной из этих великих ценностей рубит нацию в процентном соотношении примерно 60:40. И предпочтение той или другой определяется не одним материальным фактором (слабые – за государственное попечительство, сильные за частную инициативу). Свою роль играют склад ума, религиозность, многие другие факторы. Удастся ли когда-нибудь синтезировать эти ценности? Если да, то очень не скоро.
Ну а в кубинской истории есть и поучение для великих держав. Когда молодой Фидель Кастро с группой смельчаков высадился с "Гранмы" и победным маршем вступил в Гавану, он не был еще марксистом, как его брат Рауль, и собирался наладить нормальные отношения с Соединенными Штатами. Новое кубинское руководство несколько раз обращалось в Вашингтон с предложением организовать встречу на высшем уровне. Но Белый дом, раздраженный тем, что бородатые юнцы свергли Батисту, который был, конечно, "сукиным сыном, но нашим сукиным сыном", презрительно молчал, а ЦРУ уже начинало строить козни и готовиться к вторжению. Фиделю не оставалось ничего другого, как повернуться лицом к Москве и обратиться в марксистскую веру, чему способствовал уже обращенный в нее Рауль. Высокомерие силы (определение Джорджа Кеннана) обернулось для Соединенных Штатов колоссальными расходами и серией позорных провалов, продолжающихся четыре десятилетия. А ведь встреться Джон Кеннеди с Фиделем Кастро – люди примерно одного возраста, сходного социального происхождения и, за небольшими нюансами, одной культуры, – они вполне могли найти общий язык.
Почти зеркальное отражение этой истории можно найти у нас. Став президентом Чечни, кстати, не без помощи тогдашнего ельцинского окружения, Джохар Дудаев первое время настойчиво просился на прием в Кремль. Но подаваемые им сигналы там не желали принимать. Сначала "всенародно избранному" не до Чечни, потом самовольности Грозного вводят Москву во гнев, и она уже намеренно игнорирует надоедливые притязания чеченцев. Дудаеву не остается ничего другого, как обратиться к исламу, что обещает ему политическую и военную поддержку мусульманского мира. Но еще в самый канун рокового решения о бомбардировках Грозного он звонит Горбачеву с просьбой стать посредником. Это предложение немедленно передается в Кремль и остается без ответа. Дальше кровопролитная война, фактическое поражение, тупиковая ситуация в политическом плане, метастазы в Дагестане и еще одна чеченская война. А ведь встреться Ельцин в свое время с Дудаевым, предложи этому толковому советскому генералу пост министра обороны или какой-то разумный компромисс (Дудаев был тогда согласен на "татарскую модель" отношений с Центром), этой раковой опухоли на теле Российского государства могло не быть.
Вспоминая о своих встречах с Фиделем и Раулем Кастро, я хочу отдать должное Олегу Павловичу Дарусенкову, который заведовал сектором Кубы. Благодаря прекрасному знанию языка и пониманию кубинского характера, его принимали на Кубе как "своего". То же могу сказать о его предшественнике Арнольде Ивановиче Калинине, который сейчас, когда пишутся эти строки, представляет на Кубе Россию, о многих других специалистах, работавших у нас в отделе, в МИДе и советском посольстве.








