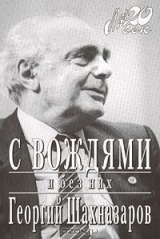
Текст книги "С вождями и без них"
Автор книги: Георгий Шахназаров
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 46 страниц)
После их разрыва мы не встречались ни с ним, ни с нею. Аня несколько раз перезванивалась с Людмилой Васильевной, но у той было понятное нежелание выносить на люди свою обиду. А Таганка примерно в то же время начала утрачивать свою жгучую привлекательность. Казалось, Любимов исчерпал дарованный от бога талант, место открытий заняли повторения. К тому же не стало Высоцкого, на долю которого по справедливости приходится добрая треть таганской славы.
Больше мы не виделись с Любимовым. Когда я стал помощником Горбачева, ко мне пришел Николай Николаевич Губенко с просьбой походатайствовать, чтобы главрежу Таганки разрешили вернуться на родину. Я пошел к шефу, и он тут же отдал по телефону соответствующее распоряжение. Вернувшись в Россию на пике своей славы, Любимов ни разу не пригласил нас на премьеры, не вспомнил и в день своего 80-летия, когда на Таганку собрался весь обновленный политический и художественный бомонд.
Однажды, встретившись в "консультантской компании" по случаю дня рождения Бурлацкого, мы затеяли разговор о Любимове. Почти все присутствующие Черняев, Бовин, Арбатов, Делюсин – в меру своих возможностей помогали ему пробиться. Теперь преобладало разочарование. Полбеды, если б речь шла о личной обиде. Беспрестанно понося советскую власть, Любимов ни разу не нашел слова благодарности за то, что ему, тогда еще малоизвестному начинающему режиссеру, дали возможность собрать свою труппу, потом "подарили" театр, наконец, специально для него построили прекрасное новое здание. Не убежден, что такими же дарами осыпали бы новатора где-нибудь в "цивилизованной стране". Словом, чувства благодарности и справедливости явно не входят в набор достоинств Юрия Петровича.
Что поделаешь, не он ведь один такой. Многие значительные люди, создавая вечные ценности, отличались в быту мелочностью, скопидомством, эгоизмом. А судят их не по порокам – по делам.
"Третий (не по значению, а по очередности) круг" нашего общения составили кинорежиссеры. Мы подружились с Владимиром Евтихиановичем Баскаковым, который был инструктором в отделе культуры, затем первым заместителем председателя Госкино и директором Института кинематографии. Тонкий эрудированный критик, "человек на своем месте", он оставил заметный след в нашем киноискусстве. Для него, фронтовика, было приоритетом создание киноэпопеи об Отечественной войне. Бегал по инстанциям, помогая "пробивать" такие крупные проекты, как многосерийные документальные фильмы Романа Кармена и Льва Кулиджанова, монументальная картина Юрия Николаевича Озерова, авторский фильм Константина Симонова о битве за Москву.
Володя с юмором рассказывал, как Симонов собрал в качестве консультантов наших прославленных маршалов и между ними вышел спор. Конев высказал предположение, что Сталин нарочно заманивал немцев поближе к столице, чтобы потом взять их в кольцо и уничтожить. Жуков и Рокоссовский набросились на него примерно так: "Ты что, старый дурень, городишь, нас тогда били, вот и отступали, не от хорошей жизни. Тоже Кутузов нашелся!"
Вообще был отличным рассказчиком, любил едкую шутку. А внешне мог и отпугнуть: высоченный, со строгим взглядом, орлиным профилем, схожий с Черкасовым, в шляпе, нахлобученной на лоб. Рассказывал, однажды в Штатах к нему развязно подошел негр-бомж с требованием отдать "зеленые". Я, говорит, испугался, еще ножом пырнет, а сам от страха как гаркну на него матом, так его ветром сдуло.
Баскаков и его жена Юлия Стефановна, учившаяся на опереточную актрису, но так и не ставшая ею, любили устраивать вечеринки, на которые приглашали и нас. Перезнакомившись, мы, в свою очередь, стали звать к себе "киномэтров". Впрочем, за исключением Сергея Федоровича Бондарчука, остальные не были еще признаны в таком качестве. Мы подружились с Озеровым и его очаровательной женой художницей Делей. С другой известной творческой парой – Игорем Васильевичем Таланкиным и его супругой балетмейстером Лией Михайловной. С удовольствием принимали приглашения посидеть за "кавказским" столом у хлебосольного Льва Кулиджанова. Постоянным нашим гостем стал Гия Данелия, приглашающий нас на все свои премьеры. На "баскаковских" вечерах встретились и долгие годы поддерживали приятельские отношения с Филиппом Тимофеевичем Ермашом, сменившим его позднее на посту председателя Госкино Александром Ивановичем Камшаловым.
Имена, имена, имена... Старикам они говорят о многом, пробуждая память о встречах или, если речь идет о режиссерах, запавшие в душу образы их героев. Когда при мне заговаривают о Бондарчуке, перед глазами автоматически возникает сам он в роли солдата, признающегося несчастному мальчугану в своем отцовстве, Род Стайгер – Наполеон, колышащаяся рожь в "Степи" по Чехову. Сам он уверял, что лучшим его фильмом должна стать сага о мексиканской революции. Было это у нас дома, гости оставались за праздничным столом на кухне, а Сергей Федорович выразил желание посмотреть передававшийся в тот вечер по телевидению "Октябрь" Эйзенштейна. Я взялся составить ему компанию. Когда на экране появились скульптурные лица бойцов революции, Бондарчук обхватил голову руками и, раскачиваясь в кресле, стал повторять: "Нет, мне никогда такого не создать, никогда..."
В другой раз в гостях у Баскакова мы сидели рядом, он стал делиться своими мыслями о философии Толстого – как раз в это время готовился к съемке "Войны и мира". Не помню деталей нашего разговора, но меня поразило, что рассуждал Бондарчук абсолютно по-толстовски, причем не просто повторяя мысли писателя, а продолжая их, как бы развивая применительно к нашему времени.
Свели мы знакомство с Андреем Сергеевичем Кончаловским. Баскаков предложил посмотреть выходящий на экран фильм Андрона, как все его называли, "Ася-хромоножка". До этого прошел не очень отмеченный критикой его режиссерский дебют – "Первый учитель" по повести Чингиза Айтматова. На меня картина произвела сильное впечатление заложенной в ней идеей: попытки насильственно осчастливить людей, живущих по родоплеменным законам, перетащить их через несколько ступеней цивилизации оборачиваются, как правило, трагедией. Не обманула ожиданий и новая работа Кончаловского. Прямо с просмотра поехали к нам домой, далеко за полночь обсуждали достоинства фильма. Была и совсем юная жена Андрона – Аринбасарова.
Мы с ним, несмотря на разницу в возрасте, пришлись друг другу по душе. Может быть, сказалась свойственная роду Михалковых тяга к контактам с политическими "функционерами". Андрон, как его отец и брат, жил на Николиной Горе, недалеко от Рублевки, где как раз в это время отдельская команда корпела над каким-то документом. Приехал на дачу Горького, перезнакомился со всеми, пригласил к себе в гости. Потом несколько раз заезжал нас навестить. Однажды привез показать написанный им в соавторстве с кем-то сценарий под названием "Седьмая пуля". Объяснил замысел – создать наш, советский "истерн". Я был разочарован, прямо сказал Андрону, что после созданных им прекрасных фильмов заниматься подобными пустяками ему не следовало бы. Природа даровала ему большой талант, и если он будет строг к себе, как Тарковский, то может стать выдающимся художником.
Вероятно, упоминание Тарковского в невыгодном для него ракурсе обидело Кончаловского. Он вежливо покивал головой на мои назидательные рассуждения, с явным удовольствием выслушал лицемерные похвалы других читателей сценария и после этого не звонил. Фактически наши отношения прервались, лишь спустя много лет мы встретились в Доме кино, он обещал прислать мне свою снятую в Голливуде ленту и сдержал обещание. Принес кассету сам Сергей Владимирович, не упустивший случая встретиться с помощником президента. Впрочем, мелкие его слабости не умаляют заслуг перед литературой. Он ведь, по моим представлениям, первый в России поэт для детей и второй, после Крылова, басенник.
Андрон поставил много фильмов, но, мне кажется, его звездный час остался в молодости с "Первым учителем" и "Асей-хромоножкой".
Тепло вспоминаю о своем знакомстве с Владимиром Высоцким. Он обладал органической аурой. С людьми, которые пришлись ему по душе, был прост и искренен, перед высокомерными чиновниками разыгрывал простака, нуждающегося в поучении. Вообще любил подурачиться. Однажды Володя заявился к нам без приглашения в обеденное время, поел с нами, потом озадачил вопросом, на ком ему жениться. У меня, говорит, есть выбор – актриса нашего театра (не помню фамилию, которую он назвал) или Марина Влади.
– Володя, я тебе удивляюсь, женись на той, которую любишь!
– В том-то и дело, что люблю обеих, – возразил он, и мне на секунду показалось, что не шутит, действительно стоит перед выбором и ищет хоть какой-то подсказки.
– Тогда женись на Марине, – брякнул я безответственно, – все-таки кинозвезда, в Париж будешь ездить.
В другой раз, праздничным вечером у нас дома он много пел, что называется, по заказу. Его без конца теребили: "Володя, спой про вещего Олега", "Давай про того... как его.... ну, служил в Таллине при Сталине". Пленки у нас сохранились, правда, еще с катушечного магнитофона. Может быть, есть даже записи неизвестных песен.
Много было у меня "пересечений" с интересными людьми. Какие-то ничтожные минуты общения, но иногда они проливали больше света на характер человека, чем то, что сам он о себе пишет или пишут о нем другие.
В Театре Вахтангова мы встретились с Леонидом Зориным на спектакле, как я полагаю, лучшей его пьесы – "Варшавская мелодия". Узнали друг друга. Он был буквально ошеломлен, когда я прочитал несколько строк его детского стишка о Сталине. В Баку была опубликована маленькая книжица со стихами девятилетнего Лени Зальцмана. Она попала мне на глаза и я, не знаю уж почему, запомнил эти строки. Потом он часто у нас бывал, к себе, однако, пригласить не удосужился. Зато сделал нас с женой прототипами какой-то не слишком умной из своих эстрадных миниатюр.
Раза два-три я сталкивался с Евгением Евтушенко, и каждый раз оставался неприятный осадок от его непомерной гордыни. В Баку, во время встречи писателей Азии и Африки, когда ее участники собирались отправиться на теплоходе в прогулку по Каспию, на пристани к нему подошел молодой парень, попросил дать автограф. Все вокруг охотно откликались на подобные просьбы. Евтушенко вдруг с вызовом сказал:
– А почему, собственно, я должен вам давать автограф?
Парень смешался, стал что-то бормотать. Кто-то из писателей, присутствовавших при этой сцене, сказал в сердцах:
– Ну и свинья ты, Женька. – Они чуть было не подрались.
В Москве на Таганке я купил по случаю книжку его стихов, подошел с той же просьбой.
– У меня нет ручки, – нарочито заявил он.
Я достал свою, и ему ничего не оставалось, как подписать. Проделав это, положил ручку в карман. Я сказал:
– Ручку, – показав жестом, что он должен ее вернуть.
– Что же, – сказал он с ухмылкой, – вам жаль для меня паршивой ручки? Вы же мой поклонник.
– Не до такой степени, чтобы подарить вам "Паркер", – ответил я в тон.
Однажды, воскресным утром, зазвонил телефон. Жена сняла трубку, мужской голос потребовал позвать Карена Шахназарова. Карен спал, накануне пришел поздно. Ане жалко было его будить и она попросила перезвонить через час. Он сделал это в назначенное время, но ему опять было предложено перезвонить – на сей раз через полчаса. Проходит полчаса, звонок, в трубке раздраженный голос: "Если Карен еще спит, разбудите и скажите, что его просит к телефону поэт земли русской Евтушенко!" Жена засуетилась, побежала будить сына. Евгений Александрович поздравил Карена с успехом фильма "Мы из джаза", сказал ему много лестных слов и одновременно попенял, почему текст песен не заказали Евтушенко. "В следующий раз не стесняйтесь, обращайтесь ко мне запросто", заключил он.
Этот звонок для меня много важнее проявлений, скажем так, сварливого характера. Шопенгауэр сказал, что высшее достоинство человека заключается в способности радоваться достижениям других.
Однажды я опубликовал в "Известиях" статью о русском языке. Там была фраза о том, что большой поэт малого народа Расул Гамзатов благодаря русскому языку приобрел мировую известность. Через несколько дней он позвонил мне и стал с обидой выговаривать, упрекая в неуважении к его родному аварскому. Впрочем, быстро согласился, что неправильно понял мою мысль, после чего подарил мне сборник своих стихов с дружеской надписью. Мы не раз встречались с ним по разным поводам, и я убедился, что Расул не только прекрасный, позволю себе сказать, великий поэт, но и очень простой, душевный человек. Вот уж действительно кавказский характер в лучшем его проявлении.
Под влиянием "горячих событий" на Северном Кавказе мне вдруг пришло в голову обратиться к нему со стихотворением. Отослал ему, но ответа не получил. Может быть, не дошло?
Расулу Гамзатову
Скажи, Расул, певец Кавказа,
Ты слышишь ли подземный гул,
Лавину видишь ли, что разом
Грозит снести родной аул?
Взволнован край многострадальный,
Повсюду выстрелы гремят,
Казбек насупился печально,
Грустит и седовласый Шат.
От подстрекателей нет спаса,
Что рвутся обескровить нас.
Но что Россия без Кавказа,
А без России что Кавказ?
Начнут чеченцы, ваххабиты,
Казаки, "партия войны"
Все в равной мере будут квиты,
России мертвые сыны.
Твоя пленительная лира
Служила дружбе и любви.
Скажи разумным слово мира,
А неразумных – вразуми.
Мы не джигиты (между нами),
Но есть работа для души,
И улететь за журавлями,
Прошу тебя, ты не спеши.
В час роковой всесветной ломки
Обоим нам покоя нет.
Но голос мой звучит негромко.
Тебя услышат.
Ты – поэт.
27 января 1998 года.
В начале 1986 года я опубликовал в "Вопросах философии" статью под названием "Логика политического мышления в ядерную эру". В ней было несколько тезисов, какие до того не могли появиться в нашей печати. Через некоторое время мне позвонили и напросились на встречу Даниил Гранин и Алесь Адамович.
– Мы пришли, – сказал Адамович, – поблагодарить вас за эту статью, в особенности за принципиальное положение о том, что не существует политических целей, которые могли бы оправдать применение ядерного оружия.
– Ну что вы, – сказал я не без смущения, – ведь это же очевидно.
– Да, – включился Гранин, – но дело в том, что эту самую очевидность у нас невозможно было провозгласить. Теперь же, благодаря вашему выступлению, она в некотором роде приобретает легитимность.
Разумеется, я не принял всерьез этой явной переоценки, но был польщен.
Однажды мы с женой были приглашены на приватный обед в посольство Чехословакии. Кроме нас там были Алла Пугачева с видным брюнетом, не знаю, кем он ей приходился. В то время она уже пользовалась обожанием толпы, но еще не удостаивалась королевских почестей, как сейчас, исполняла мелодичные шлягеры Раймонда Паулса и избегала вопить под барабанный бой. Мы искренне восхищались ею и признались в принадлежности к армии ее поклонников. Беседа была светской – о музыке, погоде, ничего заслуживающего внимания. Если я запомнил ту встречу, то только из-за странного эпизода. Когда уже собирались разъезжаться, мы с Аллой Борисовной на минуту оказались в сторонке от остальных, и она вдруг спросила:
– Какая у вас машина?
Я решил, что не расслышал, она спрашивает, есть ли у меня машина, и предложил ее подвезти.
– Нет, – возразила она с досадой, – я спрашиваю, какой марки ваш автомобиль?
– Московская черная "Волга", – сказал я, все еще не понимая, куда она клонит.
– А у меня "Мерседес"! – сказала она с вызовом и глянула на меня, прищурив глаза: мол, утерла нос чиновнику!
– С чем вас и поздравляю. Пугачева и должна ездить на "Мерседесе", если не на "ЗИЛе".
Такова, вероятно, природа "звезд" – витая в небесах, они должны для самоутверждения чувствовать – и доказывать! – свое превосходство не столько над простыми смертными (это само собой разумеется), сколько над "начальством" да и всеми, кто способен конкурировать с ними по известности.
Спустя какое-то время мы встретились с Пугачевой на дне рождения Святослава Федорова. На этот раз Алла Борисовна не приняла меня за бюрократа со Старой площади, общалась без "подначек". А может быть, уже перешагнула черту, за которой не нуждаются в самоутверждении.
Однажды мне позвонил Каспаров: он знает, как остановить эскалацию армяно-азербайджанского конфликта из-за Нагорного Карабаха, и готов взяться за это самолично. На вопрос, в чем суть спасительной идеи, сказал, что разговор не телефонный, если можно, он приедет. Через полчаса сидел в моем кабинете. Симпатичный, мог бы даже считаться красивым, если б не излишне крутая горбинка носа, холодные, не теплеющие и при редкой улыбке глаза, нервозное беспокойство во всем облике. Чем-то подтверждает формулу Ломброзо – в гениальности частица безумия, как отклонения от нормы.
Я усадил его за маленький столик, сел напротив, поздравил с недавней победой на каком-то турнире.
– Это не столь важно. Я могу принести мир в Закавказье! – говорил он короткими, отрывистыми фразами.
– Каким образом, Гарри Кимович?
– Буду посредником.
– Сколько их было! И своих, и европейских.
Он посмотрел на меня с явным сожалением.
– Вы не знаете, как они меня любят. И армяне, и азербайджанцы. Поступят, как я скажу.
– Не сомневаюсь, что вы пользуетесь большой популярностью. Но там идет настоящая война. Мало ли что может случиться...
– Я не боюсь! – сказал он гордо, и я почувствовал уважение к этому баловню судьбы, готовому поставить на карту так сказочно начавшуюся жизнь
– Гибнут люди с обеих сторон, я единственный, кто может их разнять.
– Как вы себе представляете свою миротворческую миссию?
– Поеду в Баку, потом в Степанакерт, если понадобится, пойду на передовую. Буду выступать перед людьми. Они послушают.
– Да, но что вы им предложите? Вернуть Карабах в состав Азербайджана армяне не согласятся, признать его независимым – азербайджанцы. Чью позицию будете защищать?
Он замешкался. После секундного раздумья нашелся.
– Надо остановить бойню и начать переговоры, можно поискать компромисс.
– Вы совершенно правы. Именно этого добивается сейчас Горбачев. Я скажу ему о вашем предложении. Может быть, действительно можно будет использовать и ваш авторитет для этого благого дела.
Мне показалось, что такая концовка его устроила. Свой долг он выполнил, предложил властям миротворческие услуги, а уж если они не захотели или не сумели ими воспользоваться – не его вина.
Все равно. Никто ведь его не звал в добровольцы.
8 августа 1997 года около 7 часов вечера позвонил мне на дачу Солженицын. Сказал, что с интересом прочитал мою книгу "Цена свободы". В ней необычный для него взгляд на события. Я ответил, что, конечно, убеждения у нас не совпадают, но, наверное, много и общего, ведь мы люди одного поколения, да еще оба фронтовики. Затем он поблагодарил за то, что я настоятельно обращался к Горбачеву с предложением вернуть ему гражданство.
– Почему он упирался? – спросил Александр Исаевич.
– Сам не знаю, – отвечал я, – до сих пор не могу понять. Может быть, потому, что вы из одной местности? – сказал я, но не стал продолжать свою мысль: Солженицын из богатых землевладельцев, а Горбачев из бедных крестьян. Подумал, может быть, сам догадается. Нет, не догадался, возразил:
– Да это вроде бы должно было, наоборот, подтолкнуть.
Бросил эту тему, спросил, чем занимается "Горбачев-Фонд", благотворительностью? Частично, сказал я. Но главное занятие исследовательские проекты.
Самое интересное: вместе с признательностью за мои записки* возразил, что никогда не был экстремистом по отношению к советской власти.
– Я осуждал ее за ГУЛАГ, за безвинные жертвы и только.
– Что ж, – сказал я, – это делает честь вашей объективности, тем более что вы сами пострадали.
Попробовал пригласить его на наши круглые столы. Он сказал, что получает сотни приглашений подобного рода, но решительно отклоняет: жизненного срока осталось мало, а хочется еще завершить кое-какие замыслы.
На том попрощались.
Не помню уж, при каких обстоятельствах познакомились мы с Роем Александровичем Медведевым. То ли кто-то из общих знакомых нас свел, то ли он, прочитав какую-то мою статью, позвонил. Так или иначе, мы условились встретиться, понравились друг другу, обнаружили общность взглядов. Так начались наши долгие и ничем не омраченные дружеские отношения. Мы никогда не сидели с ним за одним столом, не поднимали тостов за здоровье друг друга, не общались семьями. И все-таки я всегда чувствовал интеллектуальную связь с этим человеком. На меня большое впечатление произвела прочитанная в рукописи его книга о Сталине. Благодаря Рою я, также в рукописи, смог ознакомиться с солженицынскими "В круге первом" и "Раковым корпусом".
Потом он перестал к нам заходить, очевидно, не хотел меня подставлять. За ним была установлена слежка, он прекрасно об этом знал; понимал, что визиты диссидента к работнику аппарата ЦК могут кончиться для последнего плачевно.
С началом перестройки Рой вздохнул наконец полной грудью и стал публичным политиком. Вопреки распространенному представлению, он никогда не был 100-процентным диссидентом, задолго до перестройки выдвинул вполне разумную концепцию реформ, не посягавшую на социалистические принципы общественного устройства. На позициях социализма остался и потом, как всякий порядочный российский интеллигент. Правда, созданная им Социалистическая партия трудящихся не стала массовой – все-таки Рой Александрович больше историк, чем политик. Нельзя не поразиться его плодовитости. Последние годы он выпускает книгу за книгой, одна лучше другой. Во всяком случае, никто не написал более правдиво об Андропове.
Много позднее я познакомился с его братом-близнецом Жоресом. Сходство поразительное, притом не только внешнее. Они, можно сказать, двойняшки и в духовной своей сути. Видный биолог, начавший свою творческую работу с разоблачения Лысенко, Жорес публикует затем ряд публицистических произведений на самые различные темы: международные научные связи, землепользование, Сталин... Огромная эрудиция и невероятная трудоспособность. Недавно Жорес Александрович прислал мне пачку своих статей, которые он прилежно рассылает в областные газеты, поскольку в центральные пробиться трудно.
В братьях Медведевых Россия подтвердила, что еще способна выдвигать выдающихся людей.
Мои однажды – схваченные фотоаппаратом памяти штрихи к портретам знаменитостей. А сколько я перевидал людей, может быть, не столь известных, однако не менее интересных. В том числе среди работяг, с которыми любил пообщаться, чтобы лучше понять, чем дышит народ, зарядиться демократическим духом. Всем чем-то обязан, у каждого чему-то научился. Считается открытым вопрос о смысле жизни, а для меня здесь нет загадки: мы приходим в этот мир, чтобы познавать себе подобных и через них – себя.
По моему рассказу можно понять, что атмосфера, царившая в нашем доме, была как нельзя более благоприятна для воспитания творческой личности. Моя роль здесь, впрочем, невелика. Неизмеримо больше сын обязан самоотверженной любви и заботе своей матери, наделенной от природы даром сказительницы и художественным вкусом, сумевшей заложить в нем твердые нравственные принципы. Карен рано проявил склонность к самовыражению, сначала увлекся рисованием, потом попробовал силы в литературе, но в конце концов нашел призвание в кинематографе. Ему, конечно, пришлось ловить на себе косые взгляды завистников и слышать за спиной шепот, что-де сановный родитель пробивает дорогу отпрыску. Довольно скоро, впрочем, эти домыслы замолкли по очень простой причине: вышедшие один за другим несколько фильмов наглядно засвидетельствовали полноценную творческую самостоятельность. Кстати, если на первых порах мы с женой еще в состоянии были помочь ему советами, то с того времени, как он почувствовал себя состоявшимся художником, за нами осталась лишь привилегия быть в числе первых зрителей его картин.
Вслед за своим дебютом ("Добряки", кстати, единственная картина, поставленная по чужому сценарию) ему удалось сделать "хет-трик" – подряд три ленты, завоевавшие первый приз зрительских симпатий: "Мы из джаза", "Зимний вечер в Гаграх", "Курьер". Затем резкий поворот к философской трагедии и сатире – "Цареубийца", "Город Зеро", "Сны". Лирическая "Американская дочь" и новаторский, к сожалению плохо понятый нашими критиками, но получивший признание на зарубежных фестивалях "День полнолуния".
Избрание директором "Мосфильма" несколько выбило его из колеи, вынудив отложить творческие замыслы и заняться восстановлением старейшей и крупнейшей кинофабрики, находящейся, как, впрочем, и все другие, в состоянии крайнего запустения. Желая ему успеха в этом исключительно тяжелом деле, все-таки не теряю надежды увидеть хотя бы еще один новый его фильм.
В науке
Вся моя общественная жизнь протекала в двух измерениях – политическом и научном. Попеременно одно из них вырывалось на передний план, но и второе не отдыхало, исподволь готовилось чем-то о себе заявить. Я весьма скромно оцениваю то, что мне удалось на научной ниве. Если что-то и заслуживает быть упомянутым, так это становление у нас политической науки. Как раз своеобразный синтез двух составных моей профессиональной деятельности.
Ну а с точки зрения социологии я принадлежу к той группе людей, которая обслуживала "теоретические потребности" власти, служила, пусть шатким, мостиком между нею и наукой. Ее существование, можно сказать, было предопределено природой государственного строя, который, согласно официальной доктрине, всецело основывался на научном социализме. Его создатели видели историческую миссию революции в том, чтобы, грубо говоря, "укротить", упорядочить стихию общественного развития, ввести его в плановое русло, вместо проповедуемого религией царства божьего построить на земле царство разума.
Отсюда почетное место, отводившееся науке с первых дней советской власти, уважительное отношение к ней, вещественным выражением которого явились немалые привилегии ученому сословию. Обеспечивая ему высокий сравнительно с другими социальный статус и даже снисходительно относясь к исходившим от этой среды маленьким вольностям, партия требовала взамен без-оговорочного признания коммунистической идеологии и подчинения ее державной воле. Таков был своеобразный общественный договор между наукой и властью, который, надо признать, позволил сохранить мощный научный потенциал, созданный в России со времен Ломоносова, и существенно обогатить его за семь советских десятилетий во многих сферах естественно-технического, а частично и гуманитарного знания.
Иначе обстояло дело с общественными дисциплинами. Они подверглись полному разгрому, все более или менее значительные умы, подвизавшиеся в философии, истории, праве, экономической теории, были подвергнуты остракизму или лишены всякой возможности продолжить свою творческую работу. Позднее, вырастив в достаточном количестве новые научные кадры, вскормленные на строгой марксистской "диете", партия формально уравняла обществоведение с физикой, химией и прочими ветвями древа знания, ввела его на равных с последними в святилище – Академию наук. Но, похваливая обществоведов наряду с естественниками и технарями за усердие на стройке коммунизма, вожди все-таки смотрели на них с прищуром. Мол, мы-то с вами знаем, что кардинальные вопросы философии, истории, права и прочих общественных дисциплин решаются не на дискуссиях в академических институтах и провозглашаются не с университетских кафедр. Это привилегия товарища Сталина (Хрущева, Брежнева), Политбюро, агитпропа. Да и могла ли партия уступить кому-либо функцию хранителя и толкователя марксизма-ленинизма, если его превратили в катехизис и подгоняли под каждый очередной изгиб политического курса.
У нас не было философии, социологии, права вообще, так сказать, в чистом виде. Были марксистско-ленинская философия, социология и т. д. Парадокс, однако, заключался в том, что эта приставка отнюдь не гарантировала 100-процентной благочинности ученой публики, поскольку сам марксизм в его первозданном виде содержал мощный заряд критицизма, своим методом отрицал собственную претензию на абсолютную истинность. Это присущее марксистскому учению внутреннее противоречие было тысячекратно умножено подгонкой под нужды политической практики. В сущности, у нас был узаконен суррогат марксизма, признавалась полноценной лишь часть канонических текстов. В этом смысле главным ревизионистом следует считать автора четвертой главы Краткого курса истории ВКП(б) и партийных академиков, помогавших кроить из марксистских лоскутьев теорию, далекую от оригинала. А уж возлагать на "основоположников" ответственность за все, что творилось от их имени, так же несправедливо и нелепо, как обвинять Христа во всех глупостях и злодеяниях, совершенных церковью.
Историки, философы, юристы, которых вербовали в партийный аппарат, должны были выполнять две функции. Во-первых, обобщать информацию, размышлять и подсказывать пути решения тех или иных проблем. Иначе говоря, делать то же, чем испокон веков занимались советники при государях. А во-вторых, писать доклады, записки, речи для начальства. С этой точки зрения выше всего ценились не аналитические способности и глубина научных знаний, а литературное дарование, умение облечь банальные мысли в красочный словесный наряд. Кто-то пошутил, что у меня "династическая профессия". Фамилия Шахназаров переводится как "царский писарь".
Естественно, далеко не все в "консультантском корпусе" умели на одинаково, скажем так, приличном уровне исполнить названные функции. Да и ритм партийного механизма, господствовавшие в нем нравы и традиции очень скоро гасили склонность к самостоятельному мышлению. Посидев пару лет на Старой площади, многие кандидаты и доктора наук превращались в исправных аппаратчиков, их принадлежность к науке становилась чисто символической, и по части подачи руководству дельных советов они иной раз уступали смекалистым референтам и инструкторам.
Меня служба в аппарате не только не отвлекла от научных занятий, но, напротив, стала их продолжением и в прямом, и в переносном смысле. В прямом потому что участие в теоретической полемике, написании программных документов расширяло кругозор, было, по сути дела, той самой тренировкой, без которой немыслим профессионализм ни в одном деле. Большим преимуществом была возможность получать разнообразную информацию, в том числе из закрытых источников, чего были лишены наши коллеги, трудившиеся в академических институтах. Я не отличаюсь особой организованностью, но все же удосужился завести несколько папок, куда "сбрасывал" информацию по интересующим меня темам. Они весьма пригодились потом, когда стало несколько свободней со временем и я смог во внеурочные часы написать несколько монографий.








