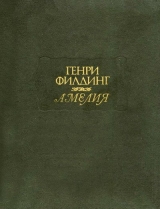
Текст книги "Амелия"
Автор книги: Генри Филдинг
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 34 (всего у книги 55 страниц)
Глава 4, содержащая беседу Бута с Амелией
Ранним утром следующего дня Бут отправился на назначенное накануне свидание с полковником Джеймсом; он возвратился от него в том душевном состоянии, которое великий знаток человеческих страстей[255]255
Гомер.
[Закрыть] изобразил у Андромахи, когда он говорит нам, что она плакала и улыбалась одновременно.[256]256
Имеется в виду известная сцена свидания Гектора с Андромахой, когда «дитя к благовонному Лону прижала мать, улыбаясь сквозь слезы». «Илиада», VI, 483–484; пер. Н. Гнедича.
[Закрыть]
Амелия тотчас заметила его смятение, в котором противоположные чувства радости и горя пытались друг друга превозмочь, и спросила, что тому причиной, на что Бут ответил следующим образом:
– Дорогая моя, – сказал он, – я никоим образом не собирался скрывать от вас, о чем мы сегодня утром говорили с полковником, от которого я ушел прямо-таки подавленный, если можно так выразиться, его благодеяниями. Ни у кого еще, без сомнения, не было такого друга, ибо никогда еще не бывало на свете другого, такого же благородного, великодушного сердца… Я не в силах сдержать охватившего меня порыва благодарности; поверьте, в самом деле не в силах. – Тут он умолк на минуту, вытер глаза, а потом продолжал. – Вы хорошо знаете, дорогая, какая печальная будущность открывалась перед нами еще только вчера, какая бездонная пропасть разверзлась передо мной, и ужасная мысль о том, что я обрек на нищету мою Амелию и ее детей, приводила меня в полное отчаяние. Хотя благодаря доброте доктора Гаррисона я снова теперь на свободе, но долги по-прежнему тяготят меня, и даже если этот достойный человек имеет намерение простить мне свою долю (а это самое большее, на что я могут надеяться), все равно едва ли стоит распространяться о том, в каком положении я окажусь. Как же мне тогда оценить по достоинству и какими словами описать вам великодушие полковника? О, дорогая моя Амелия, он в одно мгновение рассеял всю печаль, избавил от охватившего мою душу отчаяния и наполнил ее самыми пылкими надеждами на то, что я смогу обеспечить вас и моих дорогих детей всем необходимым. Во-первых, полковник готов ссудить меня необходимой суммой денег, чтобы я мог выплатить все мои долги и притом с условием, что я должен буду возвратить ему эти деньги только после того, как сам стану полковником и получу под свое начало полк, и не раньше этого. Во-вторых, он сегодня же утром пошел хлопотать о том, чтобы меня назначили на вакантную должность командира роты, которая находится в Вест-Индии, и так как он намерен употребить для этого все свое влияние, то ни он, ни я нисколько не сомневаемся в успехе. А теперь, дорогая, пришло время сказать вам о третьем его предложении, которое хотя и должно, возможно, доставить мне наибольшую радость, но, такова уж, признаюсь, слабость моей натуры, разрывает мне сердце. Я не в силах это произнести, потому что и вам, я знаю, будет так же больно, хотя вы способны, как мне известно, если того требуют обстоятельства, проявить твердость духа, подобающую мужчине. Но вы, я уверен, не станете противиться, какие бы вы не испытывали страдания, давая на это согласие. О, дорогая Амелия! Я буду страдать не меньше вас, но все-таки решился на это. Одному Богу известно, что пришлось перечувствовать моему бедному сердцу после того, как полковник сделал мне такое предложение. Только любовь к вам могла вынудить меня согласиться на это. Подумайте, в каком мы с вами сейчас находимся положении; подумайте о наших детях, об этих бедных малютках, чье будущее благополучие поставлено сейчас на карту, и тогда это укрепит вашу решимость. Только ради вас и ради них я согласился принять предложение, которое, когда полковник мне его высказал, заставило меня сначала содрогнуться. Если ему удалось убедить меня принять такое решение, к которому, как я считал, никто на свете не мог бы меня склонить, то лишь потому, что я думал о вашем благе. О, дорогая моя Амелия, позвольте мне умолять вас отказаться от меня ради блага наших детей, как я обещал полковнику отказаться от вас ради их и вашего собственного блага. Если вы отвергнете эти условия, тогда нам все равно не спастись, потому что полковник решительно на этом настаивает. Рассудите поэтому сами, любовь моя, что как бы они ни были суровы, необходимость побуждает нас покориться. Я понимаю, как должна расценивать такое предложение женщина, которая любит так, как вы, и все-таки сколько можно привести примеров, когда женщины из точно таких же побуждений покорялись такой же необходимости!
– Что вы хотите сказать, мистер Бут? – воскликнула Амелия, вся трепеща.
– Неужели я должен вам еще что-то объяснять? – ответил Бут вопросом на вопрос. – Разве я не сказал, что должен отказаться от своей Амелии?
– Отказаться от меня? – переспросила Амелия.
– Только на время вот что я имел в виду, – продолжал Бут, – возможно, совсем ненадолго. Полковник сам позаботится о том, чтобы срок оказался коротким… ведь я знаю, какое у него доброе сердце, как ни велика будет моя радость оттого, что я вновь обрел вас, не исключено, что он будет еще больше радоваться тому, что возвратил вас в мои объятья. А до тех пор он будет не только отцом моим детям, но и мужем для вас.
– Мне мужем! – проронила Амелия,
– Да, моя дорогая; ласковым, любящим, нежным, преданным мужем. Если бы я не был так твердо в этом уверен, неужели моя Амелия думает, что меня можно было бы уговорить покинуть ее? Нет, моя Амелия, он единственный человек, который мог меня уговорить; но я знаю, что его дом, его кошелек, его защита – все это будет в вашем распоряжении. А что до неприязни, которую вы почувствовали к его жене, путь это вас нисколько не смущает; полковник, я в этом уверен, не потерпит, чтобы она оскорбляла вас; да и, кроме того, она для этого слишком хорошо воспитана, так что как бы она в душе вас ни ненавидела, она по крайней мере будет вести себя с вами вежливо.
Скажу вам больше, приглашение последовало не от полковника, а от его супруги, и я убежден, что они оба будут относиться к вам в высшей степени дружелюбно; он, я уверен, – вполне искренне как к жене друга, оставленной на его попечении, а она – вследствие своей благовоспитанности будет не только с виду, но и на деле выказывать вам истинную благожелательность.
– Наконец-то я уразумела вас, мой дорогой, – произнесла Амелия (по мере того как она слушала Бута, отдельные фразы пробуждали в ней самые диковинные предположения), – и я выскажу вам свое решение в двух словах… я исполню супружеский долг, а долг жены состоит в том, чтобы быть с мужем, куда бы он ни отправился.
Бут пытался было ее переубедить, но все было тщетно. Амелия, правда, спокойно выслушивала все его доводы – даже те, которые были ей крайне неприятны (в особенности, когда он неумеренно превозносил необычайную доброту и бескорыстное великодушие своего друга), однако ее решение оставалось непреклонным, и она так твердо противилась всем его резонам, что Бута можно было бы почти извинить, если бы он истолковал это как простое упрямство.
В самый разгар их спора явился доктор Гаррисон; выслушав доводы обеих сторон, он выразил свое мнение такими словами:
– Дорогие мои дети, я всегда считал вмешательство в разногласия между мужем и женой делом чрезвычайно щекотливым, но поскольку вы оба так горячо настаиваете на том, чтобы я рассудил ваш спор, то постараюсь, насколько это в моих силах, высказать вам мое мнение. Так вот, во-первых, что может быть разумнее желания жены не разлучаться со своим мужем? Ведь это, как справедливо заметило мое любимое дитя, не более как желание исполнить свой долг, и я нисколько не сомневаюсь, что именно по одной этой весьма важной причине она на этом настаивает. И что вы сами можете на это возразить? Разве может любовь быть врагом себе самой? И может ли муж, любящий свою жену, согласиться на долгую разлуку с ней, что бы ни служило тому причиной?
– Дорогой доктор, вы говорите, как ангел, – сказала Амелия. – Я уверена, что если бы муж любил меня так же нежно, как я его, он бы ни за что на свете на это не согласился.
– Простите, дитя мое, – воскликнул священник, – но существуют причины, которые не только оправдывали бы его готовность разлучиться с вами, но даже побуждали бы его (коль скоро он действительно хоть сколько-нибудь вас любит и руководствуется здравым смыслом) сделать такой выбор. Если бы, к примеру, это было необходимо для вашего блага или для блага ваших детей, то он был бы недостоин называться мужчиной, равно как и мужем, прояви он хоть минутную нерешительность. Более того, я убежден, что в этом случае вы сами отстаивали бы то, чему сейчас противитесь. Сдается мне поэтому, что я напрасно встревожился по поводу обещания полковника выхлопотать ему должность лишь при том условии, что муж оставит вас здесь; ведь мне известно, дорогое дитя, вы слишком добры, разумны и решительны, чтобы ради любого временного удовлетворения своих чувств пожертвовать устойчивым благополучием всей семьи.
– Видите, дорогая! – вскричал Бут. – Я знал, как доктор к этому отнесется. Да, я уверен, что любой мудрый человек в Англии сказал бы то же самое.
– Молодой человек, – сказал священник, – не оскорбляйте меня лестными словами, которых я не заслуживаю.
– Дорогой доктор, неужели я вас оскорбил! – воскликнул Бут.
– Да, дорогой, – ответил священник, – вы искусно дали понять, что и я, выходит, человек мудрый, а ведь мне, судя по тому, как люди понимают это слово, следует его стыдиться, и мне служит утешением лишь то, что никто не может по справедливости обвинить меня в излишней мудрости. Ведь, берясь вам что-то советовать, я только что явил вам пример, подтверждающий противоположное.
– Надеюсь, сударь, – воскликнул Бут, – вы ошибаетесь.
– Нет, сударь, не ошибаюсь, – ответил священник. – Если я дам вам свой совет, то выйдет, что либо вы ни под каким видом не должны уезжать, либо, напротив, моя горлинка должна ехать с вами.
– Вы совершенно правы, доктор, – вмешалась Амелия.
– О чем я весьма сожалею, – заметил священник, – ибо тогда, поверьте, получается, что неправы вы.
– Вот уж поистине! – проговорила Амелия. – Да если бы вы услышали все мои доводы, то признали бы их достаточно вескими.
– Весьма возможно, – согласился священник. – Сознание собственной неправоты служит для некоторых женщин весьма веским доводом для того, чтобы продолжать стоять на своем.
– Нет-нет, доктор, – воскликнула Амелия, – вы никогда меня в этом не убедите. Невозможно поверить, чтобы человек совершал какой-то поступок именно потому, что считает его ложным.
– Весьма вам обязан, дорогое дитя, – отозвался священник, – за то, что вы ясно сказали – пытаться переубедить вас – напрасный труд. Ваш муж никогда бы не назвал меня еще раз мудрым человеком, если бы я после этого все же предпринял такую попытку.
– Увы, мне не остается ничего другого, как предоставить вам придерживаться собственного мнения.
– Это весьма с вашей стороны любезно, – заметил священник. – В самом деле, это было бы слишком жестоко, если бы в стране, где церковь позволяет другим думать все, что им заблагорассудится, люди и сами не могли бы позволить себе такую вольность. И все же, сколько ни безрассудной представляется способность управлять чужими мыслями, я открою вам, каким образом вы можете управлять моими, когда вам только это вздумается.
– Каким образом, скажите ради Бога? – полюбопытствовала Амелия. – Я буду считать такую способность очень ценным даром.
– Что ж, извольте! – воскликнул священник. – Всякий раз, когда вы будете себя вести, как подобает умной женщине, вы заставите меня считать вас таковой; когда же вам будет угодно вести себя так, как вы изволите сейчас, я буду принужден независимо от своей воли думать о вас иначе.
– Поверьте, дорогой доктор, – вставил Бут, – я убежден, что Амелия никогда не совершит поступка, вследствие которого она могла бы утратить ваше доброе мнение. Подумайте о предстоящих ей жестоких испытаниях и вы тогда более снисходительно отнесетесь к тому, что она так противится дать свое согласие. Сказать по правде, когда я заглядываю себе в душу, то вижу, что обязан ей куда больше, чем может показаться на первый взгляд, ибо, принуждая меня отыскивать доводы, чтобы убедить ее, она тем самым помогает мне справиться с собой. Разумеется, если бы она выказала большую решимость, то я в таком случае, неизбежно выказал бы меньшую.
– Выходит, вы считаете необходимым, – сказал священник, – чтобы в любой супружеской паре кто-то из двоих непременно был дураком. Завидная твердость духа, что и говорить; у вас поистине немало оснований гордиться собой, когда вы решаетесь расстаться с женой на несколько месяцев, чтобы обеспечить ее и детей необходимыми средствами к существованию. Оставляя ее под кровом и покровительством друга, вы внушаете веру в старинные предания о дружбе и оказываете честь человеческой природе. Однако, во имя всего святого, уж не думаете ли вы оба, что заключили между собой союз, который будет длиться вечно? Как же тогда вы перенесете ту разлуку, которая раньше или позже, а возможно, что в очень недалеком будущем, должна выпасть на долю одного из вас? Разве вы забыли, что вы оба смертны? Что касается христианской веры, то вы, я вижу, отказались от всяких притязаний на нее, поскольку для меня не подлежит никакому сомнению, что вы настолько уповаете сердцем на счастье, которым наслаждаетесь вдвоем здесь, на земле, что ни один из вас даже и не задумывается о жизни грядущей.
При этих словах Амелия расплакалась, и Бут попросил доктора Гаррисона не развивать далее эту тему. Священник, правда, и не нуждался в таком предостережении, потому что как ни резок он был на словах, сердце его было наделено чувствительностью, какая редко встречается среди людей, чему я не мог приискать никакого другого объяснения кроме того, что истинная доброта тоже встречается не часто, а я твердо убежден – доброта овладевает человеческой душой лишь при том условии, что ей в такой же мере сопутствует и отзывчивость.
Так закончился этот разговор; все последующее (до той минуты, когда священник предложил Буту прогуляться вместе с ним в Парке) не представляет для читателей особого интереса.
Глава 5, повествующая о разговоре Амелии с доктором Гаррисоном и его последствиях
Оставшись одна, Амелия погрузилась в глубокое раздумье о своем положении; она видела, что ей будет очень трудно противиться настояниям мужа, поддерживаемым авторитетом священника; тем более, что она прекрасно отдавала себе отчет в том, сколь безрассудными должны были казаться ее доводы всякому, кто не подозревал истинных причин ее упорства. С другой стороны, она была полна решимости, невзирая на последствия, твердо стоять на своем и отказаться принять приглашение полковника.
Когда она, казалось, перебрала в уме все, что можно было предпринять и совершенно извела и измучила себя тщетными попытками найти какой-нибудь выход, ее вдруг осенила мысль, которая тотчас принесли ей некоторое успокоение. Эта мысль заключалась в том, чтобы поверить свои опасения священнику и рассказать ему все без утайки. Такое решение показалось ей теперь настолько здравым, что она удивилась, как она не подумала об этом раньше, но таково уж свойство отчаяния – оно ослепляет нас и лишает способности видеть спасительное средство, сколь бы оно ни было доступно и очевидно.
Утвердившись в этом решении, она написала священнику короткую записку, в которой уведомляла его, что ей необходимо сообщить ему нечто чрезвычайно важное, однако это непременно должно остаться тайной от ее мужа; она также просила его постараться увидеться с ней возможно скорее.
Получив эту записку днем, доктор Гаррисон без промедления откликнулся на просьбу Амелии; он застал ее за чаем в обществе мужа и миссис Аткинсон и, подсев к столу, присоединился к ним.
Вскоре после того, как был убран чайный стол, миссис Аткинсон вышла из комнаты, и тогда священник сказал, обращаясь к Буту:
– Полагаю, капитан, вы преисполнены подобающего послушания, которое надлежит выказывать церкви, хотя наше духовенство не часто требует этого от своей паствы. Тем не менее, иногда бывает уместно использовать нашу власть, дабы напомнить мирянам об их долге. А посему должен сказать вам, что у меня есть к вашей жене личное дело, и я ожидаю, что вы без промедления оставите нас вдвоем.
– Клянусь, доктор, – ответил Бут, – я твердо убежден, что ни один католический духовник не провозгласил бы свою волю и желание с большей торжественностью и достоинством, и поэтому никому из них не выказывалось и столь незамедлительное послушание.
Бут тотчас же вышел из комнаты, попросив священника вновь позвать его как только тот переговорит с Амелией об интересующем его деле.
– Как видите, сударыня, – сказал священник, обратясь к Амелии, когда они остались вдвоем, – я выполнил ваш приказ и готов выслушать важную тайну, о которой вы мне писали.
И тут Амелия рассказала своему другу все, что ей было известно о полковнике Джеймсе, все, что она видела и слышала, и все, о чем она подозревала. Добрая душа – священник был, судя по всему, настолько потрясен всем услышанным, что пребывал некоторое время в молчаливом изумлении. Увидя это, Амелия спросила:
– Чем вы так поражены, сударь? Неужели подлость так редко встречается?
– Конечно, нет, дитя мое, – проговорил священник, – но я потрясен тем, как искусно она скрыта под столь добродетельной личиной. Кроме того, признаться вам откровенно, тут, видимо, задето и мое тщеславие, – меня так ловко обвели вокруг пальца. Я и в самом деле испытывал к этому человеку чрезвычайное уважение: помимо восхищенных отзывов о нем вашего мужа и многочисленных свидетельств, которые служат к его чести, он обладает еще и самой привлекательной и располагающей наружностью, какую я когда-либо встречал. А ведь недаром говорится, что красивое лицо – это рекомендательное письмо.[257]257
Почти дословно та же самая мысль выражена в очерке Джозефе Аддисона, напечатанном в популярнейшем журнале начала века «Зритель». «Афоризм, принадлежащий древнему философу, гласит, что «красивое лицо – это рекомендательное письмо»«(№ 221. 13 нояб. 1711 г.). Высказывалось предположение, что под философом Аддисон имел в виду Аристотеля, которому Диоген Лаэртский (нач. III в.н. э.) приписывает сходную мысль в своей книге «О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов» (V, 19–20), хотя там Аристотелю приписаны на сей счет лишь слова, что красота – это дар божий, и что «на вопрос, почему так приятно водиться с красивыми людьми, он сказал: кто спрашивает так, тот слеп» (пер. М.Л. Гаспарова).
[Закрыть] О, Природа, Природа, почему ты так бесчестна, что то и дело посылаешь миру людей с такими лживыми рекомендациями?
– Ах, дорогой доктор, – воскликнула Амелия, – я становлюсь от этого сама не своя: ведь выходит, что едва ли не все люди в душе своей негодяи и подлецы.
– Стыдитесь, дитя мое! – укорил ее священник. – Не следует делать вывод, столь порочащий Создателя. Человеческая природа по сути своей далека от порочности, она с избытком наделена отзывчивостью, милосердием и состраданием, она жаждет одобрения и почестей и остерегается позора и бесчестья. Однако дурное воспитание, дурные привычки и обычаи развращают нашу природу, а безрассудство влечет ее к пороку. Мирские правители, а также, боюсь, и духовенство повинны в падении нравов. Вместо того, чтобы всеми имеющимися в их распоряжении средствами противодействовать пороку, они слишком уж склонны смотреть на него сквозь пальцы. Взять, к примеру, тяжкий грех прелюбодеяния; приняло ли правительство какой-нибудь закон, карающий его?[258]258
Свидетельством того, что Филдинг и в самом деле был чрезвычайно озабочен нравственным состоянием английского общества, особенно высших его слоев, может служить также то обстоятельство, что он посвятил вопросу о наказании супружеских измен два номера своего» Ковент-Гарденского журнала» (№ 67 и 68 от 21 и 28 окт. 1752 г.), в которых он в, частности, перечисляет наказания, которым подвергали за такой проступок у евреев (смертная казнь, как и за убийство), египтян (тысяча плетей ему и отрезание носа у изменницы), древних греков (Троянская война из-за Елены) и т. д., а посему он не может понять, почему в Англии закон не рассматривает это, как преступление, ибо прелюбодеяние следует считать столь же позорным, как воровство. Кроме того, Филдинг открыто здесь объявляет, что как судья он не мог в таких случаях содействовать торжеству справедливости.
[Закрыть] стремится ли духовный пастырь наставить на путь истинный нарушающих его? И, с другой стороны, наносит ли особенно закоренелая приверженность этому пороку хоть какой-нибудь ущерб карьере или репутации повинного в нем человека в обществе? Преграждает ли это ему путь к более высоким государственным должностям, я чуть было не сказал – церковным? Кладет ли это какое-нибудь пятно на его герб, служит ли препятствием для получения почестей? Разве такого человека не встречаешь каждый день в обществе самых знатных женщин или в кабинетах самых влиятельных особ и даже за столом епископов? Что же тогда удивительного в том, что общество в целом относится к этому чудовищному преступлению как к поводу для шутки, и что люди не противятся искушению своего ненасытного аппетита, коль скоро его удовлетворению потворствует закон и оправданием ему служит укоренившийся обычай? Я убежден, что даже в характере этого самого полковника заложены и добрые задатки, потому что он проявлял дружелюбие и щедрость к вашему мужу еще до того как стал помышлять о посягательстве на вашу добродетель; в истинно христианском обществе, к каковому наше, мне кажется, приближается не более, чем любая провинция в Турции, этот же самый полковник, вне всякого сомнения, был бы достойным и полезным гражданином.
– Дорогой мистер Гаррисон, – воскликнула Амелия, – вы поистине самый мудрый и самый лучший человек на свете…
– Ни слова о моей мудрости, прошу вас, – перебил ее доктор. – У меня нет ее и в помине… и я нисколько не искушен в хрематистике,[259]259
Так Аристотель называет в своей «Политике» искусство наживать богатство (примеч. Г. Филдинга).
См.: Аристотель. Политика, 1, 2, 3.
[Закрыть] как это называет мой старый приятель. Я понятия не имею, как раздобыть хотя бы шиллинг и как удержать его в кармане, когда он у меня завелся.
– Но зато вы постигли человеческую природу до самой ее сути, – ответила Амелия, – и ваш разум – это поистине кладезь древней и современной премудрости.
– Хотя вы и льстивая маленькая плутовка, – воскликнул пастор, – но я все равно вас люблю и, в доказательство отвечу вам такой же лестью и скажу, что вы поступили в высшей степени благоразумно, скрыв все это от мужа. Однако вы поставили меня теперь в затруднительное положение: ведь я обещал вновь пообедать с этим господином завтра, и из-за вас мне теперь невозможно будет сдержать свое слово.
– Нет-нет, дорогой мистер Гаррисон, – воскликнула Амелия, – ради всего святого, будьте осторожны! Ведь если вы проявите к полковнику хоть какое-нибудь неуважение, мой муж может что-то заподозрить… особенно после нашего разговора наедине.
– Не тревожьтесь, дитя мое. Я не дам для этого капитану Буту ни малейшего повода. А для большей уверенности в том, что это не произойдет, на некоторое время отлучусь. Ведь не думаете же вы, надеюсь, что после всего услышанного я совершенно изменю самому себе и стану изображать приязнь к человеку, способному на такую низость. Кроме того, я не давал полковнику твердого обещания прийти к нему и неизвестно удалось бы мне встретиться с ним, даже если бы я не узнал от вас ничего. Дело в том, что я со дня на день ожидаю старого друга; он живет в двадцати милях от Лондона и придет сюда пешком, чтобы увидеться со мной; я непременно должен с ним встретиться: он очень беден и может подумать, что я именно по этой причине не питаю к нему должного почтения.
– Ах, сударь, – воскликнула Амелия, – как мне после этого не восхищаться вами и не любить вас за вашу доброту!
– Восхищаться мной? – переспросил священник. – Да стоит мне только захотеть и я могу мигом излечить вас от этого.
– Уверена, сударь, – сказала Амелия, – что вам это не по силам.
– Да стоило бы мне только убедить вас, – продолжал священник, – что я не считаю вас красивой, как тотчас бы испарилась вся ваша уверенность в моей доброте. Признайтесь откровенно, разве я не прав?
– Возможно, но у меня были бы тогда основания считать, что у вас не все в порядке со зрением, – ответила Амелия, – и, возможно, это даже более откровенное признание, нежели вы могли от меня ожидать. Но прошу вас, сударь, будьте серьезным и посоветуйте, как мне поступить? Подумайте о том, какую трудную роль мне предстоит сыграть; ведь я уверена, что после всего, что вам теперь стало известно, вы не допустите, чтобы я очутилась под одной крышей с полковником.
– Что за вопрос, конечно, нет, – заявил священник. – Пока у меня есть дом, в котором я могу предоставить вам убежище.
– Но как переубедить моего мужа, – настаивала Амелия, – не дав ему ни малейшего повода догадаться об истинной причине? Я трепещу при мысли о возможных последствиях.
– Давайте отложим это на завтра – утро вечера мудренее, а утром я снова с вами повидаюсь. Тем временем вы не тревожьтесь и не принимайте это так близко к сердцу.
– Хорошо, сударь, – ответила Амелия, – я теперь полностью полагаюсь на вас.
– Мне огорчительно это слышать, – воскликнул священник. – Разве ваша добродетель не служит вам надежной опорой, на которую вы можете полагаться с куда большей уверенностью? Тем не менее, я сделаю все, что в моих силах, дабы помочь вам, а сейчас мы, если вам угодно, позовем вашего мужа: клянусь, он выказал истинно католическое послушание. Да, а где сейчас честный сержант и его жена? Мне очень по душе, как вы оба ведете себя с этим достойным малым в противоположность принятым в свете обычаям: ведь вместо того чтобы, как предписывают нам заповеди нашей веры, считать друг друга братьями, нас приучают относиться к тем, чье общественное или имущественное положение в какой-то степени уступают нашему, как к существам низшей породы.
Вскоре после этого в комнату возвратился Бут, а вместе с ним и сержант с миссис Аткинсон; обе пары провели этот вечер как нельзя более приятно и весело; лучшего собеседника, чем доктор Гаррисон, трудно было себе представить; все, что он говорил, было настолько проникнуто духом доброжелательности, бодрости и шутливости, что невозможно было не поддаться его обаянию.








