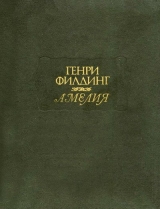
Текст книги "Амелия"
Автор книги: Генри Филдинг
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 55 страниц)
Книга вторая
Глава 1, в которой капитан Бут начинает рассказывать свою историю
Когда чайный столик унесли и мистер Бут остался с мисс Мэтьюз наедине, он начал так:
– Вам, сударыня, желательно знать подробности того, как я ухаживал за лучшей и прекраснейшей из женщин, на которой впоследствии женился. Что ж, попытаюсь по мере сил припомнить из происшедшего то, что наиболее достойно вашего внимания.
Если расхожее мнение о том, что браки совершаются на небесах, не совсем безосновательно, то мой брак с Амелией несомненно подтвердит его справедливость. Я познакомился с ней, когда красота ее только расцветала, и природа наделила ее своими дарами столь щедро, как ни одну женщину на свете; но, хотя Амелия всегда вызывала у меня восторг, я долгое время не чувствовал и проблеска любви к ней. Возможно, всеобщее восхищение, которым она была тогда окружена, знаки внимания, оказываемые ей самыми знатными людьми, и ухаживание бесчисленных поклонников, людей очень состоятельных, удерживали меня от стремления стать обладателем прелестей, казавшихся мне совершенно недоступными. Как бы там ни было, но, уверяю вас, что именно происшествие, которое лишило ее восхищения других, впервые заставило мое сердце дрогнуть и расположило в ее пользу. Ущерб, нанесенный красоте Амелии, когда перевернулась карета, из-за чего, как вы, наверное, хорошо помните, ее прелестный носик был рассечен и изуродован,[74]74
В первом издании романа Филдинг забыл упомянуть, что нос героини был искусно восстановлен хирургом, – оплошность, давшая немалую пищу для острот и издевательств тогдашних критиков. Редактируя роман для повторного издания, Филдинг постарался ее исправить и в гл. 1-й кн. II и в гл. 7-й кн. IV, где он упоминает об оставшемся после этого происшествия шраме на носу Амелии, который, однако, делал ее скорее еще более прелестной; об этом же говорит в новой редакции романа и миссис Джеймс в гл. 1-й, кн. XI.
[Закрыть] внушил мне мысль, что эта женщина, вызывавшая всеобщее преклонение своей наружностью, заслуживала куда большего преклонения своим умом, потому что именно в этом отношении она куда как превосходила прочих представительниц своего пола.
– Я восхищена вашим вкусом, – воскликнула мисс Мэтьюз. – Ведь я прекрасно помню, с каким мужеством ваша Амелия перенесла это несчастье.
– Боже милосердный, – ответил Бут, – какую же душевную стойкость она тогда проявила! Если мир превозносит мужество человека, способного перенести потерю целого состояния, или хладнокровие генерала после проигранного им сражения, или самообладание монарха, примиряющегося с утратой короны, то с каким же изумлением должны мы взирать, какими похвалами удостоить юную девушку, способную терпеливо и безропотно снести утрату необычайной красоты, – иными словами утрату богатства, власти, славы, всего того, к чему человеческая природа так неравнодушна! Какой же твердостью должна обладать душа, готовая в единый миг распрощаться со всем этим вследствие ничтожной случайности, какое мужество потребно для подобного отречения, когда тело испытывает мучительнейшие страдания, и для того, чтобы без жалоб, почти без слез претерпеть в таком состоянии крайне болезненную, ужаснейшую хирургическую операцию!
Произнеся это, Бут умолк и из глаз его хлынули потоки слез, которые способно проливать лишь поистине благородное сердце, потрясенное чем-то из ряда вон выходящим и возвышенным. Как только Буту удалось совладать с собой, он продолжал:
– В силах ли вы, мисс Мэтьюз, вообразить, чтобы несчастье Амелии было возможно еще чем-нибудь усугубить? Так вот, уверяю вас, я нередко слышал от нее, что одно прискорбное обстоятельство оказалось тягостнее всех прочих. Я имею в виду жестокую обиду, нанесенную ей иными ближайшими ее подругами, которые при встрече кусали губы, отводили глаза и долго крепились, чтобы не выдать своего тайного торжества, однако потом, не сдержавшись, разражались при ней громким хохотом.
– Боже милостивый, – вскричала мисс Мэтьюз, – на какие только низости не горазд наш пол, если им движет презренная зависть!
– Именно подобная выходка, как Амелия мне потом признавалась, и позволила ей впервые почувствовать расположение ко мне. Я оказался как-то в обществе нескольких молодых девушек или вернее юных ехидн, для коих беда Амелии служила источником неистощимой потехи. Одна из них выразила надежду, что теперь эта особа не станет больше высоко задирать голову. Другая весело откликнулась: «Уж не знаю, как насчет головы, но бьюсь об заклад, что она никогда больше не будет воротить нос от тех, кто получше ее». Третья прибавила: «Какую отличную партию могла бы Амелия сделать теперь с одним капитаном, у которого, к несчастью, поврежден тот же самый орган, однако по причине нисколько не зазорной». Не менее язвительные замечания сыпались градом, и повторять их язык не поворачивается. Я был потрясен столь лютой злобой в обличий человеческом и заявил без обиняков: «Напрасно, сударыни, вы так радуетесь несчастью мисс Амелии, ведь она все равно останется самой красивой женщиной во всей Англии». Эти мои слова начали повторять на все лады, причем одни считали, что они делают мне честь, а другие, напротив, представляли их в неблагоприятном свете и, конечно же, придавали им более оскорбительную форму, нежели это было в действительности. Сказанное мной в конце концов дошло и до Амелии. Она выразила мне признательность за сочувствие, из-за которого я даже проявил нелюбезность в беседе с дамами.
Примерно месяц спустя после этого случая, когда Амелия стала появляться на людях в маске, мне выпала честь пить с ней чай. Мы были одни, и я попросил ее удовлетворить мое любопытство и открыть лицо. Она с чрезвычайной приязнью ответила мне: «Возможно, мистер Бут, вам будет так же трудно узнать меня без маски, как и в ней», – и в ту же минуту сняла маску. Менее всего меня занимала тогда искусность хирурга. Нежные чувства переполнили мое сердце. Не в силах сдержать себя, я с жаром поцеловал ей руку и воскликнул: «Клянусь вам, мисс Амелия, никогда еще вы не казались мне такой прелестной, как в эту минуту». Далее до конца визита мы обменялись лишь незначащими фразами, но я убежден, что с того дня мы больше не были друг другу безразличны.
И все же прошло еще много месяцев, прежде чем я всерьез задумал жениться на Амелии. И не потому, чтобы я недостаточно ее любил. Напротив, эта нерешительность была следствием огромной любви, которую я к ней испытывал. Свое собственное положение я считал отчаянным, она же, по моим представлениям, полностью зависела от воли матери – женщины, как вам известно, неистового нрава, от которой никак нельзя было ожидать согласия на такой невыгодный для ее дочери брак. Чем больше я любил Амелию, тем тверже давал себе зарок никогда не заговаривать с ней о любви всерьез. Вот как мой рассудок обманывался относительно моего сердца и как самонадеянно я воображал, будто способен справиться с огнем, в который я сам же каждый день подливал масло.
О, мисс Мэтьюз, мы наслышаны о людях, умеющих повелевать своими страстями, и о сердцах, умеющих таить в себе огонь столь долго, сколь им заблагорассудится. Возможно, такое и бывает на свете, но сердца этих людей можно уподобить влажным топям, где куда труднее поддерживать пламя, чем уберечь его от слишком сильной вспышки; что же касается моего сердца, то искра упала в легко воспламеняющуюся цель.
Я не раз навещал Амелию – и мы обменивались взглядами и вздохами, не решаясь на признание, но однажды, когда мы оказались вдвоем, нам случилось заговорить о любви; я говорю – случилось, ибо, поверьте, ни с моей, ни, как я твердо убежден, с ее стороны не было ни малейшего умысла. Не в силах долее владеть собой, я назвал себя самым несчастным из тех, кто когда-либо страдал от нежной страсти, давно уже скрываемой мной от моего предмета. Далее, приведя множество подробностей, но все же остерегаясь упомянуть то, что могло открыть Амелии суть дела, я в заключение попросил ее быть поверенной моей любви и помочь мне советом.
Амелия (о, никогда не забыть мне ее прелестного замешательства!) была в эту минуту само смущение. Она задрожала и сделалась бледна – все признаки растерянности, которые я неспособен был тогда заметить, поскольку мое душевное состояние мало чем отличалось от ее собственного, свидетельствовали о том, как прекрасно она меня поняла. Наконец срывающимся голосом Амелия сказала, что я выбрал себе очень скверного советчика, ведь она мало что смыслит в этих материях. «Вам, мужчинам, мистер Бут, едва ли нужны советы в подобного рода делах, ведь вы разбираетесь в них получше нас».
Не стану вам сейчас далее передавать наш разговор; боюсь, я и без того утомил вас излишними подробностями.
– Напротив, – возразила мисс Мэтьюз, – я буду счастлива услышать все перипетии любовной истории, начало которой было столь трогательным. Расскажите о каждом своем слове и поступке, обо всем, что помните.
Бут продолжил свой рассказ; так же поступим и мы в нижеследующей главе.
Глава 2, в которой мистер Бут продолжает свою историю
В ней содержатся некоторые пассажи, могущие послужить своего рода оселком, с помощью которого молодая женщина может испытать сердце своего возлюбленного. Я посоветовал бы поэтому вменить каждому влюбленному в обязанность прочесть ее в присутствии своей дамы сердца и чтобы она во время чтения внимательно следила за проявлением его чувств
– Домой я вернулся в крайнем беспокойстве, – снова заговорил Бут, – и попытался хладнокровно поразмыслить над словами, сказанными Амелии. Теперь я видел, что открыто обнаружил свои чувства, и даже страшился – о неслыханное тщеславие! – не зашел ли слишком далеко и не добился ли чрезмерно большого успеха. Страшился! Боже, что я говорю? Да мог ли я страшиться того, на что возлагал все упования? Как мне описать охватившее меня тогда смятение?
– Вам нет нужды особенно трудиться, описывая то, о чем я и сама легко могу догадаться, – воскликнула мисс Мэтьюз. – Говоря откровенно, мистер Бут, я не согласна с мнением вашей супруги, будто мужчины больше нас понимают в любовных делах. Мужчины часто и не догадываются о чувствах женщин, тогда как любая женщина обладает в таких случаях зоркостью ястреба; во всей этой науке не сыщется раздела, в котором досконально не разбиралась бы любая из представительниц нашего пола.
– Как бы там ни было, сударыня, – отвечал Бут, – я попытался ввести Амелию в заблуждение. Три дня я воздерживался от визитов к ней; сказать по правде, я пытался найти в себе решимость покинуть ее навсегда… но, конечно, я не мог настолько совладать со своим чувством… Впрочем, зачем я говорю эти глупости?. совладать со своим чувством… Не сказать ли лучше: убедившись, что никакое другое чувство не способно одержать верх над моей любовью, я снова стал навещать Амелию. И предпринял самую нелепую затею, какая когда-либо приходила в пустую голову влюбленного. Я вздумал убедить Амелию, будто и в самом деле влюблен в другую и что именно об этом и вел речь, когда спрашивал ее совета и просил быть моей поверенной.
С этой целью я сочинил историю, будто накануне у меня было свидание с моей вымышленной возлюбленной, и даже попытался, насколько хватило воображения, подробно рассказать, о чем мы с ней говорили.
Бедняжка Амелия сразу же попалась на удочку и, как она мне призналась впоследствии, ничуть не усомнилась в моей искренности. Бесценная моя любовь! Да и откуда было ее не ведающему притворства сердечку иметь представление о лжи; хотя при всей бесхитростности, она, уверяю вас, самая рассудительная женщина на свете.
– Что ж, с вашей стороны весьма великодушно и благородно, – насмешливо вставила мисс Мэтьюз, – объяснять прямодушием то, что другие, возможно, сочли бы легковерием.
– Нет-нет, сударыня, – отозвался он, – я отдаю ей лишь должное. Доброе сердце всегда будет свидетельством самого глубокого ума. Так вот, теперь мой ангел был, если это только возможно, повергнут в еще большую растерянность. Вы не поверите, до чего у нее был в эту минуту простодушный вид.
– Ах, что вы, что вы, – с усмешкой запротестовала его собеседница, – я вполне могу этому поверить; но продолжайте же, прошу вас.
– После некоторого колебания, – продолжал Бут, – моя Амелия сказала мне робко: «Мистер Бут, вы очень дурно со мной обходитесь: вы хотите, чтобы я была вашей поверенной, а сами скрываете от меня имя вашей возлюбленной». «Возможно ли, – отвечал я, – чтобы вы не могли ее угадать; ведь я сказал вам, что это одна из ваших знакомых и что она живет в этом городе?» «Моя знакомая, – промолвила она. – Вот оно что, мистер Бут… в нашем городе! Мне… мне казалось, что я сразу же отгадаю, кто это, но я, видимо, не обладаю такими талантами… Впредь я никогда больше не возьмусь что-либо отгадывать». Конечно, пытаясь передать манеру ее поведения, я не отдаю ей должное. Ее поведение, взгляд, голос – все было неподражаемо; сколько нежности, деликатности, какая невинность, какая скромность! Клянусь, если есть мужчина, который может похвастать твердостью духа, поверьте, это я, коль скоро я сумел сдержать себя и не упал к ее ногам, дабы выразить свое преклонение. Однако же я торжествовал; вернее, торжествовало мое самомнение, едва ли не одержавшее верх над любовью. Когда мы прощались, я пообещал при следующей нашей встрече открыть ей имя моей возлюбленной.
Вот теперь-то, я мнил, мне удалось одержать над собой полную победу, и особое восхищение вызывала у меня моя твердость. Одним словом, я ликовал, как ликуют трусы, либо скряги, когда тешат себя тем, что преподали будто бы пример храбрости или щедрости; мое же торжество длилось до тех пор, пока… пока все усиливавшемуся во мне чувству не представилась подходящая возможность проявить себя в подлинном и естественном виде.
Я так возвысился в собственном мнении и настолько уверился в победе над своим чувством, что задумал проявить романтическое великодушие, излечив несчастную страсть, которую, как мне стало ясно, я пробудил у Амелии.
Среди женщин, у которых несчастье, постигшее мою Амелию, вызвало особенную радость, более всех других выделялась мисс Осборн; она, без сомнения, лишь немногим уступала по красоте моему ангелу… и даже оспаривала превосходство Амелии, причем некоторые из ее поклонников были настолько слепы, что отдавали ей предпочтение.
– Ну что ж, – воскликнула мисс Мэтьюз, – будь по вашему, называйте их слепыми, не стану с вами спорить, а все-таки мисс Осборн была очаровательной девушкой.
– Да, она и в самом деле была хороша собой, – согласился Бут, – и к тому же очень богата, так что мне казалось, Амелии нетрудно будет поверить, если я скажу, что она-то и является моей избранницей. При этом я рассчитывал, что предпочтение, оказанное мной ее отъявленному врагу, послужит самым надежным средством, чтобы искоренить всякое нежное чувство, если таковое Амелия и питала ко мне.
И вот я отправился к Амелии, которая встретила меня холоднее и сдержаннее обычного; признаться, я уловил в ее поведении скорее гнев, нежели равнодушие, а еще более подавленность. Поговорив о пустяках, я снова завел речь о своей пассии и прямо указал на мисс Осборн как на ту самую даму, имя которой скрывал, прибавив, что опасался назвать ее прежде единственно из-за существующей между ними явной неприязни, и выразил надежду, что мне удастся ее смягчить.
Амелия ответила на это с большим достоинством: «Если вам, мистер Бут, известно, что между нами существует какое-то отчуждение, то вам, я полагаю, известна и его причина, и в таком случае я могла бы, кажется, рассчитывать на то, что меня не станут оскорблять именем моей недоброжелательницы. Мне бы не хотелось, мистер Бут, чтобы вы решили, будто мисс Осборн мне ненавистна. Отнюдь! Господь тому свидетель, я слишком ее презираю. Конечно, мне больно при мысли, что женщина, которую я так сильно любила, так жестоко со мной обошлась… кто мог подумать, что в то время, как я лежала, как казалось тогда мне, да и всем окружающим, на смертном одре, терзаемая болью и горем, самая близкая моя подруга превратит меня в мишень для насмешек. Ах, мистер Бут, мне слишком тягостно об этом вспоминать. Могла ли я ожидать такого от вас… впрочем, а почему бы нет? – ведь вам я совершенно безразлична, между тем как даже близкая подруга оказалась столь безжалостной.
На протяжении этой тирады слезы безостановочно струились из ее прекрасных глаз. Я не в силах был дольше этого вынести. Подхватив оброненное ею слово «безразлична», я спросил: «Так вы полагаете, сударыня, что мисс Амелия мне безразлична?» «Да, вне сомнения, – ответила она, – я это знаю, да и почему, собственно, я не должна быть вам безразлична?» «А по глазам моим, – настаивал я, – вы ничего не прочитали?» «Ах, что мне за надобность читать в ваших глазах, коль скоро ваш язык поведал, что из всех женщин вы предпочли моего злейшего, самого коварного врага. Признаюсь, я прежде считала, что подобный склад характера никак не может прийтись вам по душе; но собственно, с чего это я взяла? Уж, видно, мне на роду написано обманываться».
Тогда я упал перед ней на колени и, сжав ее руки, воскликнул: «О, моя Амелия! Я не в силах больше это терпеть! Ты – единственная повелительница моего сердца, божество, которому я поклоняюсь!» Минуты две или три я продолжал в том же духе, пока лавина противоречивых чувств, смешанная с изумлением, не сокрушили ее слабые силы и она не упала без сознания в мои объятья. Нет возможности описать все, что я пережил за те мгновения, пока она не пришла в себя.
– Да и не нужно! – воскликнула мисс Мэтьюз. – О, счастливая Амелия! Почему мне не суждено было испытать такую страсть?
– К сожалению, сударыня, – продолжал Бут, – вам не доведется услышать все подробности последовавшей затем трогательной сцены: я не настолько владел собой, чтобы все запомнить. Достаточно сказать, что мое поведение, которым Амелия до тех пор пока не ведала его причин была так уязвлена, теперь, когда эта причина ей открылась, более всего расположило ее ко мне – ей даже угодно было назвать его великодушным.
– Великодушным! – повторила собеседница. – Да-да, именно так, почти недостижимым для обыкновенных людей. Сомневаюсь, вел ли себя еще кто-нибудь так, как вы.
Возможно, критически настроенный читатель разделит сомнения мисс Мэтьюз, и, дабы это предотвратить, мы на время прервем здесь нашу историю, предоставив возможность тщательно взвесить, насколько естественным было поведение мистера Бута и, следовательно, соблюли ли мы в данном случае неукоснительную приверженность истине, каковую мы исповедуем паче всех прочих историков, или же несколько от нее уклонились.
Глава 3
Продолжение рассказа мистера Бута. Еще об оселке
Должным образом принеся дань признательности мисс Мэтьюз за ее любезность, мистер Бут возобновил рассказ.
– После того как мы открыли друг другу свои чувства, Амелия постепенно освобождалась от скованности, пока наконец я не стал ощущать в ней жар взаимности, о какой только может мечтать самый пылкий влюбленный.
Я мог бы теперь считать, что я в раю, не будь мое блаженство омрачено прежними тревогами, – размышлениями о том, что я должен платить за все свои радости ценой почти неминуемой гибели бесценного существа, которому я ими обязан. Эта мысль не давала мне покоя ни днем, ни ночью, а когда стала невыносимой, я принял твердое решение поведать свои опасения Амелии.
И вот однажды вечером после пылких заверений в совершеннейшей бескорыстности моей любви, чистосердечности которой сам Бог свидетель, я отважился высказать Амелии следующее: «Слишком справедлива, боюсь, о бесценная моя, та истина, что даже самое полное человеческое счастье не может быть совершенным. Как упоительна была бы доставшаяся мне чаша, если бы не одна-единственная капля яда, которая отравляет все. Ах, Амелия! Какое будущее нас ждет, если судьба одарит меня правом назвать вас своей? Мои жизненные обстоятельства вам известны, известно вам и собственное положение: я могу рассчитывать только на нищенское жалованье прапорщика,[75]75
В 10 – 30-е годы XVIII в. годовое содержание такого офицера, как Бут, составляло 8 фунтов 18 шиллингов в год.
[Закрыть] вы всецело зависите от матери; стоит какому-нибудь своевольному поступку погубить ваши надежды, какая несчастная участь будет уготована вам со мной. Ах, Амелия, как леденит мне душу предчувствие ваших горестей! Могу ли я вообразить вас лишенной хотя бы на миг необходимых жизненных благ, помыслить о неизбежности ужасающих тягот, которые вам придется сносить? Каково будет мне видеть вас униженной и корить себя за то, что я всему злосчастною причиной? Представьте также, что в самую трудную минуту я буду вынужден покинуть вас по делам службы. Разве смогу я подвергнуть вас вместе с собой всем превратностям и лишениям войны? Да и вы сами, как бы того ни желали, не перенесли бы тягот и одной кампании? Как же нам тогда быть? Неужто оставить вас умирать от голода в одиночестве? Лишенной супружеского участия? а из-за меня лишенной участия и лучшей из матерей? – женщины, столь дорогой моему сердцу, поскольку она родительница, кормилица и друг моей Амелии. Но, ах, любимая моя, перенеситесь мысленно несколько далее… Подумайте о самых нежных плодах, о самом драгоценном залоге нашей любви. Могу ли я смириться с мыслью, что нищета станет уделом потомства моей Амелии? наших с вами… о Боже милосердный, наших детей! И еще… как вымолвить это слово?… нет, я на это не пойду, я не должен, не могу, не в силах расстаться с вами. Что же нам делать, Амелия? Пришла пора без утайки просить у вас совета». «Какой же совет я могу вам дать, – промолвила она, – если передо мной такой выбор? Уж лучше бы нам не суждено было встретиться». При этих словах она вздохнула и с невыразимой нежностью посмотрела на меня, а ее прелестные щечки стали влажными от слез. Я собирался было что-то ответить, но был прерван на полуслове помехой, положившей конец нашей беседе.
О нашей любви уже судачил весь город, и эти слухи достигли наконец ушей миссис Гаррис. Я и сам с каких-то пор начал замечать разительную перемену в обращении этой дамы со мной во время моих визитов, и уже довольно долгое время мне не удавалось остаться с Амелией наедине, а в тот вечер, судя по всему, был обязан такой возможностью намерению матери подслушать наш разговор.
Так вот, не успел я и слова ответить склонившейся мне на грудь опечаленной Амелии, как в комнату неожиданно ворвалась миссис Гаррис, скрывавшаяся до этой минуты в соседней комнате. Не стану пытаться передать вам ярость матери, равно как и наше смятение. «Прекрасно, нечего сказать, – вскричала миссис Гаррис, – вот как ты распорядилась моей снисходительностью, Амелия, и моим доверием к тебе. Ну а вас, мистер Бут, я не стану винить: вы поступили с моей дочерью, как того и следовало ожидать. За все случившееся мне остается благодарить только себя…»; речь ее еще долго продолжалась в том же духе, прежде чем мне удалось вставить слово; улучив в конце концов подходящий момент, я попросил ее простить бедняжку Амелию, которая под тяжестью свалившегося на нее горя готова была сквозь землю провалиться, и пытался насколько мог взять всю вину на себя. Миссис Гаррис запротестовала: «Нет-нет, сэр, должна сказать, что в сравнении с нею вы ни в чем не повинны; я ведь собственными ушами слыхала, как вы пытались ее отговорить, приводя разные доводы, и уж куда как веские. Но, слава Богу, у меня еще есть послушное дитя, и отныне я буду считать его единственным». С этими словами она вытолкала несчастную, дрожащую, обессилевшую Амелию из комнаты, после чего принялась хладнокровно доказывать мне, что мое поведение безрассудно и противозаконно, повторив чуть не слово в слово те же самые доводы, которые я перед тем приводил ее дочери. В заключение она добилась от меня обещания, что я как можно скорее вернусь в свой полк и смирюсь с любыми невзгодами, нежели стану причиной гибели Амелии.
Много дней после этого меня терзали величайшие муки, какие только способен испытывать человек, и, признаюсь по чести, я испробовал все средства и истощил все способы убеждения, лишь бы излечиться от любви. С целью усилить их действие я каждый вечер прогуливался взад и вперед около дома миссис Гаррис, и всякий раз мне попадался на глаза тот или иной предмет, который вызывал у меня нежное воспоминание о моей обожаемой Амелии и едва не доводил до безумия.
– А не кажется ли вам, сэр, – прервала его мисс Мэтьюз, – что в поисках исцеления вы прибегли к самому несообразному средству?
– Увы, – отозвался Бут, – нелепость моего поведения, очевиднее всего мне самому, но сколь мало ведает об истинной любви или истинном горе тот, кто не осознает, до какой степени мы обманываем себя, когда делаем вид, будто намерены исцелиться. То же самое происходит и при некоторых телесных недугах, когда ничто нам не в радость, кроме того, что ведет к усугублению болезни.
К концу второй недели, когда я уже был близок к полному отчаянию и всё никак не мог придумать способ передать Амелии письмо, к моему великому изумлению, ко мне явился слуга миссис Гаррис и вручил мне приглашение своей хозяйки пожаловать нынче же вечером к ней в дом на чашку чая.
Вам нетрудно будет догадаться, сударыня, что я не преминул воспользоваться столь желанным приглашением; когда я пришел, меня провели в залу, где уже собралось многолюдное общество, и среди дам я увидел миссис Гаррис с моей Амелией.
Амелия показалась мне в тот вечер еще краше обычного и была необычайно оживлена. Ее мать была со мной весьма любезна, тогда как дочь едва меня замечала и беседовала большей частью с каким-то джентльменом. Правда, время от времени она дарила меня взглядом, который никак нельзя было счесть неприязненным, и не однажды я имел случай заметить, что всякий раз, когда ее глаза встречались с моими, она менялась в лице, и эти обстоятельства, возможно, должны были меня в достаточной мере утешить, но они не могли унять тысячу сомнений и тревог, не дававших мне покоя; меня смущала мысль, что за примирение с матерью Амелия заплатила обещанием навеки расстаться со мной и отнестись благосклонно к какому-нибудь другому избраннику. Все мое благоразумие тотчас покидало меня, и я готов был бежать с Амелией и жениться на ней, ни минуты не раздумывая о последствиях.
Почти два часа я изводил себя такими размышлениями, пока большинство гостей не откланялось. Но сам я был решительно не в силах это сделать, и уж не знаю, как долго бы еще длился мой визит, когда бы не доктор Гаррисон, который чуть ли не силой увел меня, шепнув, что имеет сказать мне нечто чрезвычайно важное. Вы, сударыня, должны быть, знаете этого священника…
– И даже очень хорошо, сэр, – ответила мисс Мэтьюз, – он достойнейший в мире человек и украшение сословия, к которому принадлежит.
– Из дальнейшего вам станет ясно, – ответил Бут, – есть ли у меня основания быть о нем такого же мнения.
Затем он продолжал рассказ, как о том повествуется в следующей главе.








