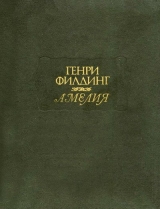
Текст книги "Амелия"
Автор книги: Генри Филдинг
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 55 страниц)
Глава 7, в которой капитан, продолжая свой рассказ, останавливается на некоторых подробностях, которые, мы не сомневаемся, покажутся многим добродетельным людям неправдоподобными
– Не успел я как следует прийти в себя после болезни, как Амелия сама слегла. Боюсь, что это явилось следствием переутомления, вызванного уходом за мной, как я тому ни противился; выздоравливая, я обливался потом, и лекарь строго-настрого наказал, чтобы я лежал в это время один, но Амелию никакими силами нельзя было заставить отдыхать у себя в постели. Во время мучивших меня приступов лихорадки она, случалось, часами читала мне вслух. Стоило немалого труда уговорить ее отойти от моего изголовья и прилечь хоть ненадолго. Все эти физические тяготы вкупе с постоянной душевной тревогой за меня надломили ее слабые душевные силы и довели до опаснейшей из болезней, присущих женщинам… болезнь эта весьма распространена среди женщин благородного происхождения, однако относительно названия ее среди наших лекарей нет единого мнения. Одни называют ее душевной лихорадкой, другие – нервной лихорадкой, некоторые – ипохондрией, а иные – истерией.[97]97
В те времена весьма распространенное заболевание (судя по литературным источникам), склонность, особенно среди женщин из обеспеченных слоев общества, к своего рода нервной или душевной депрессии. Объяснение этому в XVIII в все еще основывалось на средневековом медицинском учении, согласно которому физическое или душевное расстройство вызывается нарушением равновесия между четырьмя жидкостями в организме человека: кровью, флегмой, желчью и черной желчью. Преобладание черной желчи порождает в организме пары, которые подымаясь к голове, вызывают депрессию, головные боли и припадки ипохондрии.
[Закрыть]
– О, не объясняйте мне дальше! – воскликнула мисс Мэтьюз. – Поверьте, я сочувствую вам, от всей души сочувствую. Мужчине легче перенести все казни египетские,[98]98
За нежелание фараона отпустить евреев из Египта Господь превратил воду в реке и водоемах в кровь, а затем поразил всех первенцев египетских (Исх., 7, 16–20, 12, 29–30).
[Закрыть] нежели жену, страдающую ипохондрией.
– Сочувствуете мне! – подхватил Бут. – Посочувствуйте лучше, сударыня, этому прекрасному существу; ведь пламенная любовь и неустанная забота обо мне, ее недостойном супруге, – вот что стало причиной хвори, ужаснее которой едва ли можно себе вообразить. Этот недуг соединяет в себе симптомы едва ли не всех болезней вплоть до помрачения рассудка. Войдя в наше положение, комендант крепости, тем более, что осада была к тому времени снята,[99]99
осада была снята… – 23 июня 1727 г.
[Закрыть] позволил мне сопровождать жену в Монпелье,[100]100
Монпелье – город на юге Франции, славившийся своим целебным климатом и медицинским факультетом, был в то время популярным курортом. Поскольку считалось, что холод и туман усугубляют ипохондрию, то Монпелье особенно рекомендовали в таких случаях.
[Закрыть] поскольку тамошний климат, по мнению врачей, должен был способствовать ее выздоровлению. Амелии пришлось в связи с предстоящей поездкой написать матери письмо, в котором она просила прислать ей денег и так живо представила горестное состояние своего здоровья и нашу крайнюю нужду, что это могло бы растрогать любое не лишенное жалости сердце, даже если бы речь шла о не известном ему страдальце. Ответ пришел от сестры; копия этого письма, если не ошибаюсь, и сейчас при мне. Я всегда ношу его с собой, как своего рода диковинку, и оно поразило бы вас еще больше, если бы я мог показать вам письмо Амелии.
Достав из кармана бумажник и отыскав это письмо среди многих других, Бут прочел следующее:
«ДОРОГАЯ СЕСТРИЦА.
Моя маменька, будучи в большом расстройстве, велела мне передать Вам сколь она изумлена Вашим беспримерным требованием или, как ей угодно было выразиться, распоряжением насчет денег. И еще она сказала, что Вам, моя милая, прекрасно известно, что Вы вышли за этого красномундирника вопреки ее воле и не посчитавшись с мнением всей нашей семьи (полагаю, что у меня есть основание включить в это число и себя); и все-таки, несмотря на это роковое непослушание, ее уговорили принять Вас после этого как свое дитя, но (это вам следует уразуметь) отнюдь не как свою любимицу, какой Вы были прежде. Маменька простила Вас, но сделала это движимая долгом христианским и родительским, сохраняя, однако, в. душе обоснованное убеждение в Вашем непослушании и по справедливости негодуя по этому поводу. Маменька просила напомнить Вам, что, несмотря на крайнее ее негодование, когда вы осмелились вторично ее ослушаться и, не принимая никаких резонов, отправились в странствие (должна Вам заметить, крайне предосудительное) вслед за своим молодчиком, она сочла все же необходимым выказать Вам необычайную материнскую любовь, ссудив Вам на это дурацкое путешествие не менее пятидесяти фунтов. Как же ей после этого не удивляться Вашему нынешнему требованию, которое, уступи она Вам, повинуясь слабости, Вы станете в таком случае предъявлять ежемесячно, дабы оплачивать сумасбродства молодого распутного офицера? Вы выражаете надежду, что маменька посочувствует Вашим страданиям; да, они и в самом деле вызывают у нее чрезвычайное сочувствие, как, впрочем, и у меня, хотя Вам недостало ни доброты, ни любезности ожидать добросердечия и с моей стороны. Однако я прощаю Вам все нанесенные мне обиды, как делала это и прежде. Более того, не только прощаю, но и ежедневно молюсь за Вас. Но, любезная сестрица, как Вы могли рассчитывать на благоприятный для себя исход после всего случившегося? Вам следовало прислушаться к мнению своих друзей, которые умнее и старше Вас. Я веду здесь речь не о себе, хотя и на одиннадцать месяцев с лишним старше Вас; впрочем, будь я и моложе, то и тогда, возможно, могла бы помочь Вам советом, – ведь рассудительность и то, что кое-кому угодно называть красотой, не всегда друг с другом сочетаются. Вам не следует на это обижаться, ведь в душе Вы, насколько мне помнится, всегда ставили себя выше некоторых людей, о коих другие люди были, возможно, лучшего мнения. Впрочем, стоит ли говорить о вещах, к которым я испытываю глубокое презрение? Нет, любезная сестрица, Господь не попустил, чтобы обо мне когда-нибудь сказали, что я тщеславлюсь только своим смазливым личиком… разве только если бы я могла верить мужчинам… но я их ненавижу и презираю… и Вам это прекрасно известно, моя милая, так что желаю Вам проникнуться к ним таким же презрением; впрочем, как говорит пастор, jacta est alia.[101]101
Жребий брошен (лат.).
Бетти допустила в этих словах красноречивую обмолвку: вместо aléa она сказала – alia, что означает другая женщина, – и тем бессознательно выдала свою ревность и злобу Жребий брошен – известная фраза, принадлежащая не пастору Гаррисону, как полагает мисс Бетти, а римскому полководцу Юлию Цезарю, когда он переправлялся через реку Рубикон, чтобы направиться на юг для завоевания Рима (Светоний. Жизнь двенадцати цезарей, I, 32).
[Закрыть] Вам надлежит как можно осмотрительнее распорядиться своим приданым… я хочу сказать – теми деньгами, которые маменьке угодно будет выделить Вам, поскольку все, как Вам известно, зависит от ее воли. Позвольте мне в связи с этим посоветовать Вам научиться по одежке протягивать ножки и не забывать (ибо я не могу удержаться, чтобы не сказать Вам этого, – ведь это послужит к Вашей же пользе), что ипохондрия – это болезнь, которая вовсе не пристала тому, кто держится за солдатский ранец. Не забывайте, моя милая, о том, что Вы наделали; не забывайте о том, что для Вас сделала моя маменька; не забывайте, что Вы оставили нам кое-кого на содержание, и не воображайте, что Вы единственный ребенок или любимейший, отнюдь; однако будьте так добры, не забывайте о существовании,милая сестрица,бесконечно любящей Вас сестрыи покорнейше преданной Вам слугиЭ. Гаррис».
– Ай, да мисс Бетти! – воскликнула мисс Мэтьюз. – Я всегда считала, что она далеко пойдет, но, клянусь, она превзошла даже самые смелые мои ожидания.
– Как вы догадываетесь, сударыня, – воскликнул Бут, – это письмо оказалось очень уж сильно действующим лекарством при тогдашнем душевном состоянии моей жены. Оно подействовало на нее столь ужасающим образом, что у нее начался мучительный припадок, и я, возвратясь домой, застал ее (она прочла письмо без меня) в самом бедственном положении; она так долго не приходила в себя, что я уже не надеялся этого дождаться, да и сам с отчаяния едва не утратил рассудок. В конце концов Амелия все же очнулась, и тут я стал ломать голову, каким образом найти необходимые средства, чтобы, не откладывая, отвезти ее в Монпелье, тем более, что теперь эта поездка стала еще более необходимой, чем прежде.
Будучи до крайности потрясен жестокостью этого письма, я, однако, не предполагал, что оно будет иметь для меня какие-нибудь неблагоприятные последствия, ибо, поскольку все в полку считали, что я женился на богатой наследнице, многие не раз изъявляли готовность ссудить меня в случае необходимости деньгами. Так что я, конечно, без особого труда мог в любое время отвезти жену в Монпелье, но она решительно противилась этой поездке, желая вернуться в Англию, коль скоро я имел на это разрешение; да и с каждым днем она чувствовала себя настолько лучше, что если бы не проклятое послание, которое я только что вам прочел, то мы могли бы уже со следующим судном отплыть.
В числе прочих офицеров нашего гарнизона один полковник не только предлагал мне деньги в долг, но даже навязывал их, поэтому я обратился теперь именно к нему, а чтобы объяснить ему, по какой причине я переменил решение, я показал ему письмо и ознакомил с истинным положением моих дел. Прочитав письмо, полковник покачал головой и после некоторого молчания выразил сожаление, что я отказался взять у него в долг прежде, поскольку теперь он так распорядился имевшимися у него средствами и раздал столько денег, что у него не осталось и шиллинга на собственные расходы.
Примерно то же самое я услышал еще от нескольких моих офицеров-сослуживцев, среди которых не нашлось человека, готового одолжить мне хоть один пенни: судя по всему, почтенный полковник, таково было мое твердое убеждение, не ограничился тем, что сам отказался мне помочь, но еще и не пожалел трудов, чтобы разгласить тайну, которую я так безрассудно ему доверил, и тем самым помешать мне стать еще чьим-либо кредитором. Такова уж природа человека: мало того, что он сам отказывает вам в услуге, так ему еще не хочется, чтобы ее оказал вам кто-нибудь другой.
Вот тогда-то я впервые испытал на себе, что отсутствие денег – это несчастье особенно тягостное именно при семейной жизни, ибо что может быть горестнее, нежели видеть какое-нибудь средство, необходимое для спасения любимого существа, и не иметь возможности приобрести его?
Вас, возможно, удивит, сударыня, что я не вспомнил при этих обстоятельствах капитана Джеймса, однако он в это время находился в Алжире (куда был послан комендантом крепости) и был прикован там к постели лихорадкой. Однако же он возвратился как раз во время, чтобы выручить меня, и сделал это с величайшей готовностью, стоило мне только заикнуться о моей беде, а добрейший полковник, у которого не осталось и шиллинга на собственные расходы, дисконтировал векселя капитана.[102]102
Иначе говоря, перекупил их у тех, кому Джеймс эти векселя дал в счет долга, т. е. оплатил стоимость векселей без наросших за это время процентов, которые, однако, офицер взыщет с Джеймса, когда предъявит векселя к оплате.
[Закрыть] Так что вы можете, сударыня, убедиться на примере великодушного поведения моего друга Джеймса, как ложны все сатиры, огульно изобличающие пороки человеческого рода. Капитан, без сомнения, один из достойнейших людей, когда-либо рождавшихся на земле.
Но вам, возможно, приятнее будет услышать о непомерной щедрости моего сержанта. Это произошло за день до возвращения мистера Джеймса: бедный малый пришел ко мне и со слезами на глазах попросил меня не обижаться по поводу того, что он собирается мне сказать. Затем он вынул из кармана кошелек, в котором, по его словам, содержалось двенадцать фунтов, и умолял меня взять их, сокрушаясь по поводу того, что у него нет возможности ссудить меня необходимой мне суммой сполна. Бескорыстная преданность слуги настолько меня поразила, что лишь после того, как он повторил свою настоятельную просьбу, я нашелся с ответом. Меня, конечно, крайне удивило, каким образом ему удалось собрать эту небольшую сумму, равно как и то, откуда он проведал о моих стесненных обстоятельствах. Аткинсон тотчас удовлетворил мое любопытство, сказав, что деньги – это его военная добыча: он отнял у испанского офицера пятнадцать пистолей, а что касается моего безденежья, то он признался, что узнал об этом от служанки Амелии, слышавшей, как ее хозяйка говорила об этом со мной. Люди, надобно признать, всегда заблуждаются, воображая, будто могут утаить свои несчастья от слуг, которые всегда в таких случаях обнаруживают чрезвычайную догадливость.
– Боже мой! – воскликнула мисс Мэтьюз, – как удивительно такое великодушие в человеке столь низкого происхождения!
– Я сам был такого же мнения, – ответил Бут, – но если поразмыслить над этим более беспристрастно, то почему душевное благородство, проявленное человеком одного сословия или общественного положения, должно удивлять нас больше, нежели те же самые достоинства, обнаруженные человеком, принадлежащим к другому? Любовь, благожелательность, или как это вам еще угодно будет назвать, может быть господствующей страстью у последнего нищего точно так же, как и у монарха, и в ком бы она не зародилась, ее проявления будут одинаковы.
По правде говоря, мы нередко, я боюсь, превозносим тех, кого причисляем к высшему сословию, допуская при этом чрезмерную несправедливость к низшему. В той же степени, в какой примеры, позорящие человеческую природу, отнюдь не редкость среди особ самого высокого происхождения и образованности, так и образцы всего истинно возвышенного и доброго обнаруживаются подчас среди тех, кто не обладает ни одним из этих преимуществ. Я нисколько не сомневаюсь в том, что на самом деле дворцы служат подчас лишь прибежищем уныния и мрака, в то время как солнце правды[103]103
См. Mалах., IV, 2.
[Закрыть] сияет во всем своем великолепии в простой хижине.
Глава 8
Продолжение истории Бута
– Итак, – продолжал мистер Бут, – оставя гибралтарскую крепость, мы высадились в Марселе, а оттуда добрались до Монпелье без каких-либо достойных упоминания происшествий, кроме тяжелейшего приступа морской болезни у бедной Амелии; однако я был позднее вполне вознагражден за все пережитые мной в связи с этим тревоги благими последствиями этих приступов, потому что именно они, по моему мнению, более способствовали полному восстановлению ее здоровья, нежели даже целебный воздух Монпелье.
– Простите, что прерываю вас, – воскликнула мисс Мэтьюз, – но вы так и не сказали, взяли ли вы деньги у сержанта. По вашей милости я почти влюбилась в этого очаровательного малого.
– Как вы могли подумать, сударыня, – откликнулся Бут, – что я могу взять у бедняги деньги, от которых было бы так мало проку для меня и которые так много значили для него? Впрочем, вы, возможно, решите, что я не сделал этого из гордости.
– Я не склонна относить это ни за счет гордости, ни за счет безрассудства, но вам, мне кажется, все-таки следовало принять его помощь, потому что своим отказом вы, я убеждена, глубоко его обидели. Однако, прошу вас, рассказывайте, что было дальше.
– Здоровье Амелии и ее душевное состояние с каждым днем заметно улучшались, и мы стали с удовольствием проводить время в Монпелье; даже самый большой ненавистник французов и тот согласится, что на свете не сыскать народа, недолгое общение с которым было бы столь приятно. В иных странах, к примеру, завести хорошее знакомство не менее трудно, чем разбогатеть. В особенности в Англии, где знакомство завязывается так же неспешно, как произрастает дуб; поэтому человеческой жизни едва ли хватает на то, чтобы укрепить его по-настоящему, и между семьями редко когда устанавливается тесная близость раньше третьего или, по меньшей мере, второго поколения. Мы, англичане, до того неохотно допускаем чужестранца в свой дом, что можно подумать, будто принимаем каждого за вора. А французы представляют в этом отношении полную противоположность. У них уже одного того, что вы иностранец, вполне достаточно, чтобы обеспечить вам право на всеобщее внимание и наибольшую обходительность, а если вы хотя бы наружностью походите на джентльмена, то им и в голову не придет заподозрить обратное. Дружба французов, конечно, не заходит так далеко, чтобы вам открыли еще и кошелек, но в других странах и такое приятельство – большая редкость. По правде говоря, учтивость в обычных житейских обстоятельствах весьма споспешествует дружбе, и те, кто этого достоинства лишен, редко возмещают его искренностью, ибо прямота, или, точнее сказать, грубость, далеко не всегда служит непременным признаком честности, как это принято считать.
Через день после нашего приезда в Монпелье мы свели знакомство с мосье Багийяром. Это был очень остроумный и жизнерадостный француз и к тому же куда более образованный, нежели это обычно свойственно людям светским. Поскольку мы поселились в том же доме, где жил и он, мы тотчас познакомились, и беседа с ним оказалась для меня настолько занимательна, что его присутствие никогда не бывало мне в тягость. И в самом деле, я проводил в его обществе так много времени, что Амелия (уж не знаю, стоит ли об этом упоминать?) начала выражать неудовольствие, считая, что мы с ним очень уж коротко сошлись, и жаловаться, что я слишком мало с ней бываю из-за моей непомерной привязанности к новому знакомцу; поскольку беседовали мы с мосье Багийяром главным образом о книгах и притом преимущественно латинских (так как одновременно прочитали с ним несколько классических авторов), то присутствие при наших беседах было для нее, конечно, не слишком занимательно. А стоило только моей жене однажды забрать себе в голову, что из-за мосье Багийяра она лишилась удовольствия быть со мной, как уже невозможно было ее разубедить, и, хотя я проводил с ней больше времени, чем когда бы то ни было прежде, она все больше и больше раздражалась и в конце концов выразила твердое желание, чтобы мы съехали с нашей квартиры, притом настаивала на этом с такой запальчивостью, какой я никогда прежде в ней не наблюдал. По правде говоря, если мою супругу – безупречную женщину – и можно было когда-нибудь заподозрить в неразумии, то, как мне кажется, именно в этом случае.
Но как бы я ни относился к причуде Амелии, было совершенно очевидно, что вызвана она любовью, доказываемой ежедневно самым нежным образом, и потому решил уступить: мы переехали в отдаленную часть города; я держусь того мнения, что наша любовь к человеку не столь уж сильна, если мы не склонны снисходить к его просьбам, пусть даже безрассудным. Правда, я испытывал неловкость перед мосье Багийяром, ибо не мог прямо объяснить ему истинную причину нашего переезда и находил для себя не менее затруднительным вводить его в заблуждение; кроме того, я предвидел, что наши встречи будут происходить столь же часто, как прежде. Можно было, конечно, избежать двусмысленного положения, совсем уехав из Монпелье, так как Амелия уже вполне оправилась от болезни, однако я твердо обещал капитану Джеймсу дождаться его возвращения из Италии, куда он незадолго перед тем уехал из Гибралтара, да и Амелии следовало воздержаться от сколько-нибудь длительного путешествия – ведь она была тогда уже на седьмом месяце.
Однако все мои опасения, связанные с нашим переездом, разрешились куда проще, поскольку мой французский приятель, то ли заподозрив неладное в поведении Амелии, хотя она ни разу, сколько я мог заметить, не проявляла к нему ни малейшей неучтивости, сделался неожиданно очень холоден с нами. После нашего переезда он из вежливости нанес нам лишь два-три визита, да и то сказать, все его время вскоре было целиком занято любовной интригой с некоей графиней, и во всем Монпелье только и было разговоров, что об этом.
Не успели мы как следует обосноваться на новом месте, как в нашем доме поселился приехавший в Монпелье английский офицер. Этот джентльмен по имени Бат состоял в чине майора и отличался редкостными странностями: подобный нрав нечасто доводится наблюдать. Он совершенно лишен был той страсти к книгам, которая отличала моего прежнего знакомого и доставляла Амелии такую тревогу. Правда, он никогда не касался материй, хоть как-то связанных с женским полом; больше всего он любил рассуждать о сражениях и воинских подвигах, но так как у него была сестра, которая пришлась Амелии чрезвычайно по душе, то между нами установились вскоре дружеские отношения, и мы все четверо жили как одна семья.
Майор был большим охотником рассказывать о всяких чудесах и сам непременно выступал героем собственных историй; Амелия находила беседу с ним очень занятной; она обладала редким чувством юмора и получала от всего смешного истинное удовольствие: никто не мог тягаться с ней в умении мгновенно подмечать в характере человека забавные черточки, ни в умении скрыть свои наблюдения. Не могу удержаться и приведу вам ее слова на сей счет, по моему мнению, делающие ей честь: «Если бы смешные люди, – говорила она, – внушали мне, как и большинству других, презрение, я считала бы их скорее достойными слез, а не смеха; в действительности же я не раз встречала людей, в характере которых наряду с чертами чрезвычайно нелепыми были одновременно свойства не менее привлекательные. Да взять, к примеру, того же майора, – продолжала она. – Он рассказывает нам о множестве вещей, которых он и в глаза не видел, и о подвигах, которых никогда не совершал, и притом с самыми несуразными преувеличениями; однако же как заботливо он относится к своей несчастной сестре, он не только привез ее сюда за свой счет, чтобы поправить ее здоровье, но и остался здесь, чтобы составить ей компанию». Думаю, сударыня, что я в точности привел вам слова Амелии; я всегда запоминаю все ею сказанное.
У вас, вероятно, уже сложилось благоприятное мнение о майоре и о его сестре – как я уже упоминал, девушке чрезвычайно достойной, и вам, разумеется, должно быть ясно, насколько важно скрыть от нее наши невинные подшучивания над его слабостями. По правде сказать, это было не так уж и трудно: бедняжка, ослепленная любовью и благодарностью, до того почитала своего брата и так благоговела перед ним, что ей и в голову не приходило, будто кто-нибудь на свете способен над ним смеяться.
Я убежден, что она ни разу и в малейшей степени не заподозрила нас в том, что мы смеемся над ним, в противном случае она вскипела бы негодованием, ибо помимо любви к брату, ей была присуща некоторая доля семейной гордости, нет-нет, да и дававшая себя знать. Откровенно говоря, если у нее и был какой-то недостаток, так это тщеславие; но вообще она была очень славная девушка, да и кто из нас совсем без недостатков.
– У вас доброе сердце, Уилл, – ответила мисс Мэтьюз, – но ведь тщеславие – это серьезнейший из изъянов в женщине, и он нередко влечет за собой многие другие.
Бут ничего на это не возразил и продолжил свой рассказ:
– В их обществе мы очень приятно провели два или три месяца, пока нам с майором не пришлось взять на себя обязанности сиделок, поскольку моя жена родила девочку, а мисс Бат оказалась прикованной к постели из-за своей неумеренности в еде, которая, похоже, и явилась впоследствии причиной ее смерти.
При этих словах мисс Мэтьюз расхохоталась и, когда Бут осведомился о причине ее веселья, она ответила, что не могла удержаться от смеха, мысленно представив себе двух таких сиделок.
– И неужто вы в самом деле, – спросила она, – готовили своей жене подкрепляющий бульон?[104]104
На самом деле это не совсем бульон, английское «caudle» – это жидкая сладкая кашица, смешанная с пряностями, яйцами, вином или элем, которую пили в горячем виде.
[Закрыть]
– Разумеется, сударыня, – подтвердил Бут. – Разве вы находите это чем-то из ряда вон выходящим?
– Еще бы! – вскричала мисс Мэтьюз. – Я считала, что даже для самых лучших из мужей дни, когда их жена рожает, это время развлечений и веселья. Как, неужто вы даже не напились в тот момент, когда жена вот-вот должна была разрешиться от бремени? Признавайтесь-ка откровенно, чем вы были тогда заняты?
– Что ж, хоть вы и смеетесь, – отозвался Бут, – скажу вам в таком случае откровенно: стоял на коленях за изголовьем и поддерживал ее руками, и, клянусь честью, мои душевные муки были, я думаю, в ту минуту тяжелее ее мук телесных. А теперь ответьте мне столь же чистосердечно, неужто вы в самом деле полагаете возможным веселиться, когда существо, любимое тобою больше всего на свете, испытывает самые жестокие мучения, когда сама его жизнь находится в опасности? И… впрочем, мне нет необходимости еще как-то объяснять, какого сердечного участия требуют подобные обстоятельства.
– Вы хотите, чтобы я ответила чистосердечно? – воскликнула мисс Мэтьюз.
– Да, со всей искренностью! – подтвердил Бут.
– Что ж, так и быть, отвечу вам чистосердечно и искренне, – сказала она. – Да не видеть мне царства небесного, если вы не кажетесь мне ангелом в облике человеческом!
– Право же нет, сударыня, – запротестовал Бут, – вы делаете мне слишком много чести; таких мужей очень много. Да что там, возьмите того же майора; чем он не пример родственной заботливости? Хотя, что касается его, то я, пожалуй, вас сейчас рассмешу. В то время как моя жена лежала в родах, мисс Бат была тяжело больна; и вот как-то однажды я подошел к дверям их квартиры, чтобы осведомиться о ее самочувствии, а также и о здоровье майора, которого уже целую неделю как не видел. Я тихо постучался и, услыхав, что меня просят войти, прошел в переднюю, где застал майора, разогревавшего для сестры молоко с вином.[105]105
Горячим молоком, смешанным с вином или элем, с прибавлением сахара и пряностей лечили обычно простуду.
[Закрыть] Одет он был довольно-таки причудливо: на нем была женская ночная рубаха и грязный фланелевый колпак, что в сочетании с его весьма необычной наружностью (это был нескладный, тощий человек, ростом почти в семь футов) могло бы дать большинству свидетелей предостаточно поводов для насмешек. Как только я вошел, майор вскочил со стула и, крепко выругавшись, в крайнем волнении воскликнул: «А, так это вы, сударь?» Когда я осведомился о здоровье его сестры и его собственном самочувствии, майор ответил, что сестре стало лучше, а сам он чувствует себя превосходно, «хотя, признаться, я не ожидал, сударь, – продолжал он с немалым смущением, – что вы застанете меня за таким занятием». Я ответил, что, по моему мнению, невозможно представить себе занятие, более соответствующее его характеру. «Вы так считаете? – осведомился он. – Клянусь Богом, я премного вам обязан за такое мнение; однако смею все же думать, сударь, что, как бы далеко не завело меня мое мягкосердечие, нет человека, который бы более меня помнил о своем достоинстве». Как раз в это время его окликнула из своей комнаты сестра; майор позвонил в колокольчик, вызвав к ней служанку, а затем, пройдясь по комнате, с надменным видом произнес: «Мне не хотелось бы, чтобы вы, мистер Бут, вообразили, будто я, поскольку вы застали меня в таком неглиже, нагрянув сюда, пожалуй, слишком неожиданно… я не могу не заметить вам этого, пожалуй, слишком уж неожиданно… чтобы вы вообразили, будто я исполняю при моей сестре роль сиделки. Мне лучше кого бы то ни было известно, какие требования предъявляются к мужчине для соблюдения собственного достоинства, и я не раз доказал это, сражаясь в первых рядах на поле битвы. Вот там, смею думать, я был на месте, мистер Бут, и делал то, что соответствовало моему нраву. Клянусь Богом, я не заслуживаю чрезмерного презрения, если мой характер не совсем лишен слабостей». Он долго еще распространялся на эту тему, держась с чрезвычайной торжественностью, или, как он это называл, соблюдая достоинство. Правда, он употребил при этом несколько неудобопроизносимых выражений, смысла которых я не уразумел, поскольку в словаре они отсутствуют. Мне стоило немалого труда, чтобы удержаться от смеха, однако я совладал с собой и поспешил распрощаться, с удивлением размышляя о том, что человек, обладающий истинной добротой, вместе с тем может ее стыдиться.
Следующее утро преподнесло мне еще больший сюрприз: майор явился ко мне спозаранку и возвестил, что после нашего вчерашнего объяснения он всю ночь не мог сомкнуть глаз. «Вы позволили себе кое-какие замечания, – изрек он, – которые нельзя оставить без надлежащих разъяснений, прежде чем мы расстанемся. Застав меня при обстоятельствах, о которых мне и вспомнить непереносимо, вы сказали мне, сударь, что не можете себе представить занятие, более соответствующее моему характеру; именно так вам угодно было выразиться, и эти слова я никогда не забуду. Уж не воображаете ли вы, что в моем характере недостает чего-то необходимого для достоинства мужчины? Или вы считаете, что во время болезни сестры в моем поведении проявилась слабость, которая слишком уж отдает женоподобностью? Мне не хуже вас или любого другого мужчины известно, как недостойно мужчины хныкать и убиваться из-за какой-то жалкой девицы, и уж можете не сомневаться, что, если бы моя сестра умерла, я вел бы себя в этом случае, как подобает мужчине. Мне не хотелось бы, чтобы вы умозаключили, будто я из-за нее сторонюсь всякого общества. У меня и без того более чем достаточно причин для расстройства. Дело в том, что когда вы застали меня за этим занятием… я еще раз повторяю, за этим занятием… не прошло и трех минут, как ее сиделка вышла из комнаты, вот мне и пришлось раздувать огонь из боязни, что он погаснет». И в таком духе он продолжал говорить почти четверть часа, прежде чем предоставил мне возможность вставить хоть слово. В конце концов, пристально глядя ему в глаза, я спросил, следует ли принимать сказанное им всерьез. «Всерьез! – подхватил он с жаром. – А что же я в таком случае для вас – посмешище что ли? «Видите ли, сударь, – сказал я очень веско, – мы с вами, полагаю, достаточно хорошо знаем друг друга, и у меня нет никаких оснований подозревать, что вы припишете это моей трусости, если я скажу, что менее всего намеревался обидеть вас и даже наоборот считал свои слова за величайшую вам похвалу. Внимание к женщине не унижает, но, напротив того, свидетельствует об истинно мужественном характере. Суровый Брут[106]106
Порция, жена защитника республики в Риме Марка Юния Брута (85–42 до н. э.), о его нежной привязанности к Порции упоминает Плутарх в своих «Сравнительных жизнеописаниях» (Брут, 13), эта черта его характера выделена и Шекспиром в трагедии «Юлий Цезарь», II, 1, IV, 3.
[Закрыть] относился с необычайной нежностью к своей Порции, а великий шведский король,[107]107
Карл XII (1682–1718), в XVIII в. был весьма популярной фигурой и слыл свирепым и честолюбивым полководцем. Его жизнь описана Вольтером в «Истории Карла XII» (1732), которая была тогда же переведена на английский язык, о нем писал и английский критик, эссеист и лексикограф Сэмюэль Джонсон (1709–1784) в своем труде «О тщетности человеческих желаний» (1749, 11). В книге Густава Адлерфельда «История походов Карла XII, короля Швеции» (Adlerfeld G. Military history of Charles XII, King of Sweden L., 1740. Vol 1–3) среди прочего повествуется и о таком эпизоде: узнав во время событий под Полтавой в 1709 г. о смерти своей сестры герцогини Голштейнской, Карл был настолько потрясен, что удалился в свой шатер и не хотел никого видеть (vol. 3, р. 274–275). Филдинг принимал участие в переводе этой книги с французского для указанного выше издания.
[Закрыть] храбрейший из мужчин, не чуждый даже свирепости, в самый разгар военных действий затворился в уединении и не желал никого видеть из-за кончины своей любимой сестры». При этих моих словах выражение лица майора заметно смягчилось, и он воскликнул: «Будь я проклят, если есть на свете мужчина, которым я бы восхищался больше, нежели шведским королем, и всякий, кто стыдится поступать так, как он, – жалкий негодяй! Но, тем не менее, посмей только любой шведский король заявить мне здесь во Франции, что у его сестры больше достоинств, чем у моей, клянусь Всевышним, я бы тотчас же вышиб ему мозги через уши! Бедная моя малютка Бетси! Честнее и достойнее девушки не бывало на свете! Хвала Всевышнему, она выздоравливает; ведь если бы я ее потерял, не знать мне больше тогда ни одной счастливой минуты». Майор продолжал еще некоторое время в том же духе, пока слезы не хлынули у него из глаз, после чего он тотчас умолк: возможно, просто не в состоянии был продолжать, потому что слезы душили его; однако после недолгого молчания, вытерев глаза носовым платком, он глубоко вздохнул и воскликнул:. «Мне очень стыдно, мистер Бут, что вам пришлось быть свидетелем моей слабости, но, будь я проклят, природа непременно берет верх над достоинством». На сей раз я утешил его примером Ксеркса,[108]108
Ксеркс (485–465 до н. э.), персидский царь. Как повествует греческий историк Геродот, вид его огромного войска, усеявшего берег Геллеспонта, вызвал у Ксеркса слезы при мысли, что из всего этого множества людей сто лет спустя никто не останется в живых (Геродот. История, VII, 46–61).
[Закрыть] как прежде ссылался на шведского короля, а потом мы уселись завтракать вдвоем в полном дружеском согласии, ибо, уверяю вас, при всех странностях, присущих майору, человека добрее его на свете сыскать непросто.
– Добряк, что и говорить! – воскликнула мисс Мэтьюз с нескрываемым презрением. – Болван, вот он кто! Как вы можете отзываться с похвалой о таком олухе?
Бут попытался, как мог, заступиться за своего приятеля; он старался, разумеется, представить его в возможно более благоприятном свете и в своем рассказе опустил те крепкие выражения, которыми, как он отметил несколько раньше, майор уснащал свою речь. Итак, перейдем к следующей главе.








