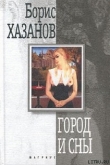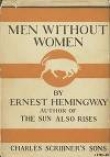Текст книги "Властелин дождя"
Автор книги: Фзнуш Нягу
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 19 страниц)
Колодцы
Спасибо тебе, доктор, что велел вынести меня сюда. В этой садовой беседке, опутанной виноградным ползуном, я и помру спокойно.
Гей, гей, гордая ель!.. Уходит Скарлет Кахул. Глянешь на него попристальней – поймешь: пробил его смертный час. Колодцы он рыл, целую жизнь рыл, а под вечер помрет.
Ох, доктор, доктор, круглое лето бился ты со мной, подлечить старика хотел, да не вышло… Из хомута не сошьешь армяка. Святая правда…
Ты досадуешь, а зря. Молод ты, сердоболен, да и на гнев скор. Поостынь малость, не мельтешись. У овчара в сарае поболе ягнячьих шкурок подвешено, чем старых овчин. Так-то, мил человек. Увидишь – помирать начну, отойди в сторонку, не мешай, может, страшно смерть принимать, пот прошибет, а пот трусливый скверно пахнет, скверней ничего на белом свете нет. Обутку мою, она прочная, добротной кожи, из чемодана вынь да старику прохожему и отдай… А меня в сапогах схороните.
Гей, гей, акации мои!.. Листья, отяжелелые от изморози, слепят мне глаза. На спине лежать не хочу. Вверху безлюдно, безмолвно. Один туман да облака кучерявятся. Тихо там, пустынно, а человек не в небо, в землю уходит, на то он и сотворен.
Спасибо тебе, доктор, что наказал в сад меня отнести. На виноградные плети вон полюбуюсь. Ветром меня обдует. Скользнет он по винограду, лицо мне обласкает… Спелой ежевикой ветер пахнет, страсть нынче ее уродилось, правда, доктор? Обильная осень выдалась, хлебная. А вот арбузов да зайцев нынешний год нет. Арбузы в засуху только хорошо родятся…
Как тебя, доктор, я любил Яну да Лылэ-цыгана, двоих только и любил. Когда умерли они, колодцы поминальные я им вырыл. Почитай, сотнях на двух колодезных срубов имя свое я пометил. Ничего другого не оставил я на свете…
Гей, гей, моя ель!.. Истаял горизонт, а месяц не сошел еще с неба, не погас. Застыл подковой, повис над акацией. Небо глубокое, рассветное. «Засох побег лимона…» – так поется в песне.
Гляжу я, доктор, как паук ткет нить, и вспоминаю про ласточек-летуний, что ныряют в поднебесную мглу, как крючок в дырку чулка. Простая, добрая песенка про них есть…
Гей, гей, хороша жизнь, доктор!.. Видишь вон ту плющиную голую плеть, вон со стрехи свисает? Потрогай ее, доктор. Она живучая и мягкая, как веревка, что с Манилы привозят. Коль воротятся силы, одного хочу – повиснуть на веревке и скользнуть вниз, на дно колодца. И лопата при мне чтоб была. Никому так не открываются непочатые родники, как мне. Удел мой на земле – ключи отыскивать, откупоривать их, вода чтоб текла, как из бочки вино. Остановит у колодца проезжий человек повозку, студеной воды попьет, спасибо скажет. И коней напоит, пускай поостынут, освежатся. И на колеса, на ободья плеснет – не соскочили бы, не рассохлись.
Степь у нас в Колковану бедная. Знойная. Земля изрезана пересохшими оврагами, меловыми скатами, твердая, как копыто дьявола, а под ней – реки. Мы с Лылэ-цыганом однажды наткнулись на такую. В земную глубь упрятана она была, метров на двадцать. Копали мы, копали – недели три, как слепцы. Не нашли ничего, все ямы засыпали. Чуть погодя я опять за лопату взялся, опять рыть стал. Осенью было это. Лылэ глину ведром из ямы таскал, надрывался, бедняга. Рыл я, а сам к земным шорохам прислушивался. В колодезной яме, когда вглубь уходишь, вода лепечет, как тополиная поросль. Нарыл я гору глины, а ничего не слыхать. Лылэ-цыган ругался.
– Докуда рыть будем, дядя Скарлет?
До пупа земли.
– Давай тогда смастерим себе по удочке, кисточки красненькие на крючок прицепим, вдруг в болоте на квакуш наткнемся – самолучшая лягушачья приманка, кисточки-то.
Я молчу. Рою дальше. На дне ямы темно, тепло, будто я в мешок с опарой забрался. А сам глубже, глубже закапываюсь. Пот стекает с меня ручьями. Мокрею, как улитка, что выползла из ракушки лист погрызть и ненароком угодила на соляную горку.
Попозже, когда и я стал надежду терять, различил вдруг бормотанье воды. Будто горячей волной меня обдало. Перекрестился я и снова за лопату взялся. И въявь услыхал гул воды. Нутряной густой гул иной раз тончал, сменялся звяканьем. Песок, подумал я, вода его подмывает, видать, в жиле спад есть. Тут раздался сильный всплеск, толчок. Гул усилился, заполнил колодезную яму. И было так, будто в реку, верхом на конях, ворвалась ватага разбойников и вода вст-вот из берегов выйдет. Я кликнул Лылэ. А он сверху:
– Ты совсем спятил, дядя Скарлет. Скорей поверю, что ты до того света добрался. Если там ты, так скажи родителю: плакали его надежды, мать за Ризю Горбуна замуж выскочила, недаром он нам ворованных кур таскал.
Я молча воткнул лопату в землю. Повернул черенком – и в трещине забулькала вода, как кровь из-под ножа, когда кабана забиваешь. С одной разницей – кровь теплая. Я прислонился к стенке колодца и глядел на воду, как на чудо. Она била тонкой, словно камышинка, дрожащей струйкой. Ростом с меня. А над отверстием колодца висело расплюснутое солнце, и от него на воде мерцала радуга. Я глядел, как водяная с. труя расцвечивалась у моего лица и опадала. И была она как золотистая птица-щур с длинным клювом и разноцветными перьями, привязанная ниткой за ногу, и будто бы все пыталась взлететь. Потом я сложил ладони ковшиком, подставил под ледяную струю, ополоснул лицо никем еще не отведанной водой и напился. И сейчас ее вкус у меня на языке – будто молодое вино или отвар из сладкой травы. И отпустил я на волю водяную струйку. Обвязался веревкой, и Лылэ вытащил меня наверх. Вода заполняла колодезное дно, поднялась уже на четверть. Лылэ-цыган обалдело глядел на нее.
– Ну и вода, дядя Скарлет! – дивился он. – Видать, родник забил.
Совсем ошалел цыган. Глядел и не верил. Опомнившись, побежал в село. Воротился с ребенком и велел ему, по обычаю нашего края, заглянуть в колодец.
– Что ты там видишь?
– Мальчика.
– В добрый час! Пускай вода будет ясной и незамутненной, как твои глаза.
Я зачерпнул воды, дал мальчонке попить и обмыть лицо. А Лылэ на радостях стал ему небылицы рассказывать.
– Знаешь, в колодце живет голубь. С утренней зорьки до вечера на шелковых качелях качается. Гнездо у него из чистого золота, а сам он – голубиный король. За стол сядет– клюет изюм да сладкие пряники. А зоб и радужное оперенье колодезной водой омывает. Живет он всегда в колодцах, вырытых Скарлетом Кахулом и Лылэ-цыганом. Ты видишь его там, – внизу?
– Я вижу его хохолок.
– Ну и дурак! Это корона из драгоценных камней. Не понимаешь ничего, так лучше молчи.
– Корона?! – удивился ребенок.
– Точно тебе говорю!
– А какие яички он кладет? – полюбопытствовал мальчик.
– Яички? – изумился в свою очередь Лылэ-цыган. – Как пасхальные. Крашеные. Я украду одно и отдам тебе, а ты сделай две лодочки из скорлупы и катайся себе в дождь по канавам.
Гей-гей, колодцы мои!.. Возле них любовь завязывается, потому что отыскали мы с Лылэ сердце земли. Маетными ночами бродят парни, у которых и усы толком не пробились, сердце земли ищут, и молодки ищут, чтоб любовь к себе приворожить. Стерегут его заколдованные кроты. Сто лет стерегут, никого к сердцу земли не подпускают. Шаг человечий зачуют – знак подают, и спящие в земной глуби заколдованные кроты пробуждаются и со злобным оскалом кубарем по степи катятся. Кто завидит их, разум теряет, ни жив ни мертв, про все забывает. А кроты сторожевые опять засыпают, валунами каменными обррачиваются. Я сам их видал. Так и повелось у нас из века в век. Сердце земли стареет, усыхает, а потом и вовсе умирает. Есть, говорят, одно молодое, на краю земли. Кто его отведает – мягкого, белого, горького, как зеленые грецкие орехи, – перед тем на всех тропках любовь зацветет. Мы с Лылэ-цыганом нашли как-то раз сердце земли на дне колодца, людей счастьем оделить надумали. Размельчили то сердце, в ладонях искрошили и в колодезную воду бросили. Кто проедет по нашей степи, зачерпнет воды из колодца – до самой смерти петь и любить будет.
А вот мне на долю выпало не от любви, а от тоски петь. Любовь – плодоносящий дождь, но не все сады озеленяет. Сперва и меня она утехами одарила, но скоро минула, а ведь я нашел, отведал сердце земли.
Недаром в песне поется:
Набегает
половодье,
набегает
и уходит…
Так и с моей любовью приключилось. Нагрянула она поздно, промелькнула быстро. Поздно, говорю, за сорок мне было. Осень стояла, как сейчас. Подрядились мы с Лылэ колодец рыть в двадцати километрах от Колковану… Я спал в шалаше рядом с виноградником. Как-то вечером забрался я туда винограду нарвать. Лылэ-цыгана со мной не было – он растянулся возле шалаша прямо на траве, надвинул шляпу на глаза и заснул как убитый. Сорвал я и для него четыре грозди, сунул за пазуху и вышел на тропку. Вижу – с кукурузного поля метнулась ко мне Яна. Верхом на коне. Прямая, застыла в деревянном седле с веревочными стременами. Губы у нее полиловели, а ресницы дрожат от ярости. На виске, над родинкой величиной с горошину, бьется жилка. Запутавшаяся в платке травинка шевелится, ласкает обожженную солнцем шею. Мне приглянулись сразу ее большие, обведенные темным глаза, и я невольно шагнул вперед, чтобы поближе разглядеть их.
– Стой! – крикнула она. Лошадь рванулась на ее голос и стала бить копытами землю – рыжая тощая кобыла с узким крупом.
– Пугливая она у тебя, – сказал я, – хлещешь ее, видать, между ушей. Потому и боится.
Яна не вымолвила ни слова, откинулась назад, взмахнула плетью и стегнула меня, будто огнем полоснула. Припрятанный за пазухой виноград очернил рубаху.
– Мало украл, – обронила она. – Но я и за это могла бы избить тебя до полусмерти. Кнутом или топорищем. Да не буду я тебя бить, Скарлет Кахул. Люди говорят – отыскал ты сердце земли, а кто его отведал, боли не боится. Нет, бить не стану, а возьму с собой. Тропинку видишь? Ступай по ней вперед.
Привела меня Яна домой. Жила она в низком бревенчатом домишке, притулившемся в ложбине, среди зарослей шиповника и кустов георгинов. Во дворе была коновязь, клетка, где подремывал заяц, и два старых мелких колодца с обвалившимися краями.
– Ты их вырыл, – сказала Яна.
Вода, наполнявшая колодцы доверху, отливала голубизной. Вокруг были разбросаны для просушки примятые копешки полыни. И в горнице горько пахло полынью. Когда я переступил порог, Яна несильно стегнула меня надломленной полынной веткой по лицу. Я засмеялся.
– И ты меня ударь, – велела она. – Э, да ты постарел, видать, Скарлет Кахул, забыл, что парни цветками полыни метят любимых. Хлестнешь меня полынью – стану твоей любимой.
Я торопливо схватил висевший над притолокой пук полыни – по весне у нас полынные листики в бочки с вином подбавляют – и стегнул ее по плечу. Сухие листочки осыпались, окутав ее пылью.
Дурак! – крикнула Яна. – Девок зеленой полынью стегают.
Она кинула мне в лицо зеленый стебель, что вертела в руках, выскочила, захлопнула дверь и замкнула меня. Я бы мог навалиться плечом, да и высадить дверь, но я подошел к окну.
Яна купалась в мелком полуобвалившемся колодце. Видна была только голова да плавающие на воде распущенные волосы. Ржавое солнце клонилось к западу, а вода, в которой плескалась Яна, голубела, искрилась. Верно, виновата во всем была полынь. Яна хлестала себя пучками полыни, мяла их ногами, а ключевая вода играла колдовскими красками, что запали мне в душу на всю жизнь. Один я видел их те три дня, что прожил у Яны.
Поутру Яна просыпалась первой и, уходя в поле, крест– накрест прибивала доски на дверь и на окна – боялась потерять меня. И заваливала дверь горой тыкв. Я забыл и про недорытый колодец, и про Лылэ-цыгана, про все на свете забыл. Жил ради одной Яны. Покуда ее не было со мной, я садился возле клетки с зайцем и рассказывал ему про свою любовь к Яне.
– Обернись заколдованным кротом, Яну охраняй, – велел я ему. – Одного меня слушайся. Приведи барсуков из нор, на чужаков натрави, если вздумают они подстеречь мою Яну. Пускай волчицы с приплодом на развилке дорог сгрудятся и разорвут в клочья всякого, кто поглядит на нее, когда она купается в колодце. Я отведал сердце земли, и ты, заяц, и все звери должны мне повиноваться.
Как-то раз пришел Лылэ-цыган, вокруг Яниного дома бродил, меня звал.
– Прогони его, крот, – велел я зайцу, спрятавшись за стеной.
Лылэ ругнулся и ушел. Я стоял в темноте, ждал Яну. Она явилась в час, когда просыпаются ворожеи. Лошадь выступила из мглы. Заяц встретил ее плачем. Яна сбросила платье и окунулась в колодец. Вода выплеснулась из замшелого сруба и стихла, улеглась. Кобыла испуганно заржала, подняв морду к луне. Во дворе, под дверью, с гулким стуком рассыпались тыквы и покатились вниз. Дверь соскочила с петель. Оконное стекло разбилось вдребезги. Заяц в клетке заплакал, смерть почуял…
В степных колодцах моих сердце земли да песни Яны плавают. Идут к ним люди, водицу черпают, прохладную, живую, не ведая, что мертвые жилы воды одному Скарлету Кахулу подвластны.
Гляди, гляди, доктор, пал предвечерний туман. Замер ветер, не звенит ледяной своей кольчугой. По такой поре у нас в Колковану коней на водопой гонят. Степных скакунов-красавцев. Слышишь, как они взыгрывают у деревянной колоды? Бьют копытами, теснятся, всхрапывают. Молодые породистые кобылы пьют жадно, жеребята – с ленцой. Скачут, укусить норовят. Парни кричат, улюлюкают, ругаются, унимая их. Во дворе, где свадьбу играют, легко лошадей красть, а от колодцев Скарлета Кахула – горячих скакунов уводить, шутят они.
Как страшно скрипят колодезные журавли! Кло-кло– кло! – клонятся над выгоном. Оборвалась цепь, и ведра попадали в колодец, стукаясь о каменные стенки.
Гей, гей, Лылэ-дружище, слышишь, как ведра падают в колодец? Пойдешь вытаскивать их железным багром. Глянь, солнце обернулось тыквой, и ты ногой катишь его в долину, Лылэ… Странниками прошли мы с тобой по миру!
Гей, гей, вода живая, вода мертвая, так и остались мы не ведомы никому…
1962
Шальное лето
– Совсем ошалела, о господи! – вздохнула бабка Аника.
– Раньше ты по-другому говорила, – сказал Джордже, отставив миску с токаной, – вот как: лето шальное, нету покоя, петух крыльями взмахнул да на луну вспорхнул!
– Хворый ты был, все горло в язвах, вот и утешала как могла, а нынче я про жарищу… парит – ад сущий, гроза будет.
Тощей, рябой бабке Анике девятый десяток, она вся исхудала, ссохлась, как скелет, в чем только душа держится.
– Смотри не обмани, – предупредил Джордже.
И тут же перед его глазами расстелилась, убегая куда– то, степь, растаяла в мураве дорога, исчезла, поглощенная черной ночью, узенькая полоска голубого неба и хлынул проливной дождь.
Он шел где-то далеко-далеко в горах, такой зловещий, такой ужасающий, словно наступил конец какому-то неведомому миру; бешено ревел ветер, грозно рокотали потоки воды, и угнетенная душа человеческая не знала, куда ей деться от страха.
– Дождь потому в горах, чтобы камни большими росли, а нас стороной обойдет, – прошамкала бабка Аника.
Молнии торкались в занавешенное окошко и, вспыхнув, тут же гасли, низвергаемые громом в черную, бездонную пропасть.
– Опять мне полынь под подушку сунула? – чуть не плача, сказал мальчик. – Просил же, голова от нее болит.
– Зато блохи кусать не будут, – утешила бабка, поправляя на иконе веночек из ячменных колосьев.
Ночной чепец с оборкой свалился у нее с головы и упал на конопляную подстилку возле кровати. Бабка нагнулась, чтобы поднять, да вдруг захватило у нее дух, и она легла, а вернее, упала на кровать, рядом с Джордже. Ее седые редкие волосы скользнули по плечу мальчика, и он брезгливо отодвинулся к стене. «Противна старость, – подумала старуха, – никто уже эти ведьмины космы не погладит, окромя смерти».
Отдышавшись, она ласково сказала внуку:
– Отъелся ты больно. Зубы здоровые, вот и грызешь, как пес жадный, целый день. Смотри, разжирел – словно кукушка с Петрова дня.
Кукушка с Петрова дня жиреет оттого, что куковать перестает. Мама говорит…
– Не поминай ее, шлюху…
– Зачем мальчонку против Аурелии настропаляешь? – послышался из сеней голос Михая Дрока. – Не твоя ли дочь?! Ты же ее такой вырастила. Ни разу я от нее ласкового слова не дождался, в постель ко мне ложилась как изморозью покрытая. Окрутили вы меня, сводни чертовы! Все вы!..
– Ты бы при малом-то постеснялся, – упрекнула зятя старуха.
Бледная вспышка осветила небо, и тут же вслед загромыхало ржавое железо.
– Он и не слушает, малый-то, – ответил с порога Ми– хай Дрок, – А ну-ка, Джордже, скажи, что слышал?
– Ничего не слышал. Бабка шепелявая, не разобрать, что говорит.
– Доживи ты до восьмидесяти! Все живут, сколько бог заповедал, каждому свой час.
– А я проживу дольше вас всех, потому что у меня в руках две молнии. Когда бабка заколдовала персики, я их погладил и теперь могу кого хошь ударить молнией, только подступись.
– Что за дурость! – вздохнул Михай, усаживаясь на порог.
Месяц, вырвавшись из туч, уперся рожками в оконце.
Михай Дрок сидел на корточках у двери, прислонившись плечом к косяку, похожий на темную груду камней. Когда в горах вспыхивали огненные веревки молний и концами доставали землю, на потолке в доме и за окошком в степи густую тьму захлестывал молочно-белый свет, в котором пенилась зелень деревьев.
Все трое молчали. Джордже тайком выдергивал из-под подушки полынь и бросал на пол. Михай Дрок, чтобы успокоиться, заткнул ноздрю стебельком морозника, завернутым в два листочка любистока, и тяжело, со свистом дышал, спиной он терся о крышки пивных бутылок, прибитые мальчиком к стене. Старуха, скрючившись, лежала на кровати, пытаясь унять боль под ложечкой.
Пахло йодом, подгорелой мамалыгой, полынью. Иногда сквозь этот густой дух просачивался тонкий аромат трав, вплетенных в ячменный веночек на иконе. Небо прояснялось, в верхнем углу окошка завиднелось ласточкино гнездо и почти рядом с ним – висящая на гвозде под кровлей ручная пила.
Первой нарушила молчание бабка Аника.
– Давно я загадала, – сказала она, – помереть от водянки. Да с богом не поспоришь.
– От водянки мрут те, кто много пьет. У них печенка пухнет. И живот вздувается. А ты ж не пила.
– Не пила, да скоромное ела. Оттого у нас и дожди редко. Надо посты соблюдать. А кто помирает от водянки, того люди долго помнят, плачут по нем.
В углу на столе глухо зазвенел будильник, завернутый в толстое холщовое полотенце, звон был такой, будто саранча билась в стекло.
– Уже десять часов, а ее все нет. С самого заката жду, нарочно будильник завожу, чтобы звенел каждый час. Ты-то, ведьма, знала, куда она намылилась.
– А ты ли не знал, Михай Дрок? – возразила старуха. – Знал! Ты уж дурачка из себя не строй. Все знал. Видел, как она ведра взяла, как платок концами назад повязала, будто белить собралась. Да и что греха таить, видела я, как ты следил за ними, задами спустился в овраг, чтобы послушать, о чем они говорят. Только духу у тебя не хватило слушать, а может, и совесть заела.
– Сдохнуть бы тебе до того, как он вернулся. Все было бы по-другому.
– Нет, Аурелия бы все равно ушла. И я такая же была.
– Мы с ней шесть лет прожили.
– Шесть лет Данаку и сидел.
– Я, что ли, его посадил? Десять лет ему дали, десять лет ему было на параше сидеть. А твоя Аурелия вышла за меня, чтоб в девках не остаться… Одно горе от вас людям, скольких уже погубили! Принесла же вас нелегкая с гор в наши края, черт бы вас побрал! На все село стало смердеть овечьим пометом. Только одного меня с души не воротило, а жаль! Слепой сделался от любви. Приворожили вы меня, а потом в душу наплевали. Надо бы мне подальше держаться. Знал же я, что за птица твой муженек – шестерых продал.
Не таких, как Данаку, – те убийцы были.
– А вам что за дело? К тому же двое приходились вам родней! Когда их разыскивали, вы их спрятали в загоне, а потом опоили молоком и шерсти туда овечьей накрошили, чтоб они убежать не могли. Так и попались под акацией со спущенными штанами.
– Зря разоряешься, Михай, тогда другое время было. А Данаку уж двадцать ден как вернулся. Его до срока отпустили. Он каждый вечер к броду ходил, все ждал. Они там с Аурелией встречались… Вот он и бродил по этим проклятым оврагам. Отец с матерью его утешают: «Иоан, сыночек, не могла же она тебя ждать столько лет, ведь ты уходил чуть ли не на всю жизнь». А он все свое – кружит да кружит у брода. А ты как-то вечерком в него камнями кидал, я видала, сидела за терновником и все видала. Тогда не сказала тебе, а теперь говорю. Он ведь даже не укрылся, сидит, моет ноги и насвистывает. Ждал!
– Так это ты Аурелию послала к нему, сводня старая!
– Нет, Михай, молчала я про него. Но знала, что. она уйдет. Ног она под собой не чуяла, горела вся. И ты бы на ее месте ушел. Только та женщина, о которой ты мечтал шесть лет, может утешить тебя.
– Шлюха она, вот и ушла!
– А ты верни ее! – крикнула старуха.
– Я все шесть лет ее вернуть не мог…
– Эх, Михай Дрок, хоть бы она и вернулась, ведь ты ей этого вечера вовек не простишь. От злобы кипеть будешь. Я уж не увижу, в могилу уйду…
– Уходи, уходи, тебе там самое место, туда и дорожка протоптана, не заблудишься! – процедил сквозь зубы Михай и встал. Высокий, плотный, в рубахе навыпуск, он тяжело подошел к столу, вынул из полотенца будильник, щурясь, поглядел на светящийся циферблат и, переведя стрелку звонка на одиннадцать, медленно, мучительно медленно завел пружину ключом, похожим на бабочку. Он вышел в сени, промелькнул за окном, закрыв на мгновение свет, – так скользит, скрывая и возвращая свет, дверь железнодорожного вагона. Старуха, дрожа всем телом, следила за ним.
– Ты замерзла, бабушка? – спросил Джордже.
Она и забыла про внука. Протянув сухую, костлявую руку, бабка Аника подоткнула под него одеяло, пальцы трещали в суставах. Во дворе скрипел, словно перемалывая зубами пыль, знойный июльский ветер. Ветви шелковицы скребли черепичную крышу. Громко треснула рассохшаяся потолочная балка, и в щели выступила капелька смолы. Старухе почудилось, что стукнули в оконную раму, и, ухватившись за подоконник, она приподнялась, глянула за окно, прислушалась. Никого. Лишь над степью сиял дозревающий месяц.
– Тучки убежали, – сказала бабка Аника внуку, – дождя нет, но хлеб все одно уродится: и пшеничка будет, и ячмень, и кукуруза.
– Откуда ж уродится? Если земля сухая…
– Уродится, – настойчиво повторила старуха, – Еще до света я уйду и приведу пшеничных коней. И где проскачут пшеничные кони, там каждый колос набухнет, как лисий хвост. Я промчусь под землей, а потом подымусь наверх, а они заржут – молодые необъезженные кони. У пшеничных коней, Джордже, бока из пшеницы, ноги из пшеницы и голова из пшеницы. Только ты один и услышишь, как они прискачут. «Ну, залетные!» – крикну я. Буду я сидеть в возке – колеса из подсолнухов, спицы из кукурузных початков, кузовок сплетен из виноградной лозы, а дуги над упряжью – из ломтей арбуза. Ты меня дождись, и я приеду. Мать с отцом скажут тебе, будто я умерла, и только ты будешь знать, куда я ушла.
Закрой глаза, – приказал Джордже, – а то я могу тебя сжечь. У меня в руках молнии, я ими играю.
Бабка Аника только вздрогнула, но глаз не закрыла.
– Ошалела ты, что ли? – рассердился внук, что она не послушалась.
И вдруг мальчик застыл в испуге: в сенях зазвенел будильник– одиннадцать. Звон тратился впустую и потонул в шорохе и скрипе шелковицы… Михай Дрок делил время на дольки, чтобы легче было перенести боль. Но и такое искромсанное время каждой частичкой боли молило о прощении.
1967