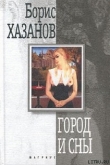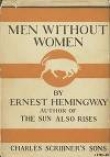Текст книги "Властелин дождя"
Автор книги: Фзнуш Нягу
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 19 страниц)
Кукла
Ене Леля возвращался в село с трехдневного совещания по агротехнике. Втянув голову в мягкий воротник шубы, он подгонял лошадей, и сани ныряли в ухабы дороги, бегущей берегом озера. До темноты оставалось еще около часа, но погода после полудня озлилась, словно сука, народившая щенят, и окрестности быстро подергивались синевой.
Заря пламенела сквозь дымку, трескучий мороз, что обжигал землю уже целую неделю, стал еще злее, и над полями, оцепеневшими под слоем снега толщиной в две ладони, завыл февральский ветер. Сквозь скрип полозьев – словно канифолью вели по смычку – Ене Леля различал сухой треск бурьяна, торчавшего на межах вдоль виноградников, и глухое шуршание камышей. Впереди небо приоткрыло над селом глазок, маленький и тусклый, как у вареной рыбы, а под ним, будто кто подрисовывал его сажей, кружила стая воронья.
Метель подымается, ночью земля промерзнет до самого нутра, подумал Ене Леля и передернул вожжами. Конские копыта застучали вразнобой. Прислушавшись к их топоту, Ене Леля подумал вдруг, что вовсе не к чему так гнать лошадей: Джия уже не ждет его. Эта мысль разбередила притихшую боль, и его широкое, с мясистым носом лицо страдальчески искривилось, словно по нему полоснули кнутом. Жена бросила его через два месяца после свадьбы.
…Однажды вечером, после ужина, он спустился в погреб нацедить кружку вина. А когда вернулся, Джии уже не было. Она забрала свое добро и ушла к Илие Бигу, заведующему кооперативным буфетом. Ему остался только деревянный грибок для штопки, кукла в подвенечном платье, которую она повесила на гвоздик на крыльце, и письмецо:
«Не проклинай меня, Ене, я ухожу к тому, кто мне дороже всех на свете. Я вышла за тебя потому, что батя меня бил кулаками, словно басурман какой, чтобы я с тобой обвенчалась. Я ему говорила: нет и нет, и плакала, призывала смертный час, только все зря, а мама и вся наша родня каждый день чуть свет начинали меня вразумлять словами, что мы с тобой должны пожениться. А теперь ты скажи себе, что никакой Джии не было, пропади она пропадом, и найди себе другую девушку, которая будет заботиться о тебе и народит тебе детишек, румяных, как яблочки, потому что ты хороший человек и председатель хозяйства».
Да, подумал Ене Леля с горечью, мягко постлано, да жестко спать.
Вокруг него мчались по ветру снежные хлопья – подымалась метель. Ене Леля невольно поежился и провел рукой по шершавым, обветренным губам. Во рту было горько. Он досадливо скривился. Эх, черт побери, три дня торчал в районе и не догадался купить хоть горстку квасцов – рот пополоскать…
Он подъехал к сторожке, стоявшей на бугре возле поворота, и вытянул шею, чтобы поглядеть на озеро.
Еле видные за колеблющейся под ветром стеной камыша рыбаки из бригады Думитру Карабиняну долбили лед.
Звонко раздавались удары лома – точно целая орава мясников рубила говяжьи кости.
И Ене забыл про Джию. Мы, плотники, сказал он себе с гордостью, никогда не подымаем такого шума. У нас все по-другому…
До того как его выбрали председателем, он работал в плотницкой бригаде, и потому сейчас ему на миг почудилось, что там, на озере, приколачивают стропила. Закрыв глаза, он различил как будто и шарканье пилы, и запах стружек… Зимой в руках у плотников дерево пахнет слаще, чем в лесу.
Вдруг один из рыбаков, водивший сачком в проруби, затянул песню. Ене узнал голос Илие Бигу – густой, чуть простуженный, – и кровь ударила ему в виски. Песня, рассекаемая ударами лома, вызвала в нем странное чувство бессильного отчаяния. Словно он, томимый жаждой, стоял перед высохшим колодцем. Горячая волна прокатилась по телу, совсем как в тот раз, когда ему делали укол глюконата кальция, а сухие, слипшиеся губы пробормотали:
– Илие Бигу увел у меня жену и поет.
Потом в нем вдруг родилась и стала расти уверенность, что буфетчик неспроста занялся рыбой, что он затесался к рыбакам с большим запасом водки. Повадились на сладкое… Ну и задам я им! До самой смерти не забудут!.. Но, жадно затянувшись цигаркой, он подавил в себе приступ ярости и замешательства и теперь испытывал даже какую– то странную радость. Все, что готово было вырваться из его существа, – отвращение, боль, бешенство – улеглось, перебродило, чтобы потом разрешиться бурной вспышкой гнева.
Возле домика Ене Леля натянул мерзлые вожжи и кликнул сторожа.
– Сколько водки привез Бигу?
Сторож – продувная бестия – медленно приближался к саням, волоча за собой по снегу размотавшуюся портянку.
– Ты что, оглох? – закричал Ене. – Думаешь, меня можно вокруг пальца обвести? Если накрою, черт тебя задери, знаешь, что сделаю?
– Не привез ни капли, – отвечал сторож. – Позавчера его выгнали из буфета, и Карабиняну взял его к нам, пусть, мол, повкалывает. Вот как дело было. Твоя жена к нему убежала, вот заведующий и спохватился, что он не годится для буфета, и нашел другого на его место. А Джия, говорят, брюхата. Два дня, кроме соленых огурцов и лимонов, ничего в рот не берет.
Ене не стал дальше слушать его, крутанул кнутом, и лошади унесли его в метель. С неба уже наваливалась темнота, мелкие снежинки кололи лицо, и холод пробирал до костей. Даль терялась в снежной мгле, поземка мела дорогу, небо было цвета соли с золой. Ене Леля закурил. Огонек цигарки позолотил его выгоревшие усы и бороду, круглую, как седельная лука.
До сих пор он еще думал, что Джия может вернуться к нему. Но теперь потерял последнюю надежду.
И вдруг ему вспомнился острый запах ее волос, ощущение это было свежо, как в первую их ночь… Он тряхнул головой, но избавиться от наваждения не удавалось. Джия была рядом, в санях, прильнула к его плечу, вздрагивая на ухабах от холода, от страха.
– Ене, а вдруг полоз сломается?
Не бойся, они из акации, это дерево прочное.
– Я из-за ребеночка боюсь. Когда он подрастет, Ене, ему будет семь лет, и я стану его будить по утрам, чтобы шел в школу, а его будет сон морить – как сейчас меня, – и он будет болтать разные глупости. Мама, скажет, а мне приснилась карусель, та, что в моем букваре, будто она вертится вокруг шелковицы в нашем дворе. Совсем как настоящая. А потом ко мне в комнату прилетели голуби из голубятни дяди Думитру Карабиняну. Вот, сказали они, мы сами прилетели, только не держи нас взаперти…
Ене очнулся, и ноздри у него раздулись. Какого черта лезет ему в голову всякая ерунда о чужом ребенке?
Между тем лошади, прибавив шагу, уже катили его по родному селу. Над заметенными снегом домиками вздымались клубы дыма, а ветер подхватывал их и завивал причудливыми завитками, разнося по улице запах гари. Желтые огоньки тускло искрились сквозь окошки, обросшие льдом.
Перед своим домом Ене слез, толкнул плечом ворота и завел лошадей под навес. В полном колодце позвякивала бадейка, в ее щербатых краях, окованных железом, отражался свет лампочки, которую Ене три дня назад забыл погасить на крыльце. На косяке смешно болталась на гвоздике кукла в подвенечном платье.
Ене Леля поднялся по двум каменным ступеням и остановился, растерявшись. Кукла насмешливо смотрела на него голубыми глазами Джии – продолговатыми, с тяжелыми веками.
– Ты что воображаешь? – спросил Ене яростно. – Ты что себе воображаешь? – крикнул он еще раз и, ослепнув от гнева, начал стегать куклу кнутом. – Я не подговаривал его выгонять Илие Бигу!..
1962
Мосток
Близилась полночь. Акиму снилось, будто он в поле, у жатки поломались ножи, и пять грабель вертятся вхолостую, как крылья ветряной мельницы. А на гладком подносе жатки прыгает-кувыркается толстый серый полевой заяц. Глаза косого, обведенные красной каемкой, влажно блестят. Ага, издеваешься, сказал Аким. Ну, погоди, я тебе задам! Он взял веревку для вязки снопов, сделал петлю, размахнулся, ловко забросил ее. Заячью шею сжало будто ледяным кольцом, и серый повис в воздухе. Погиб ты, братец! Нечего было свинью мне подкладывать, злорадно сказал Аким и засунул зайца в карман. Косой забарабанил лапками прямо ему под ребро. Аким рассмеялся и прижал его локтем. Вдруг снова застучали ножи жатки, скашивая пшеничные стебли, а заодно и пласты молочно-белого света, стелющиеся над полем..
Аким проснулся. Глаза пощипывало от приснившегося полуденного солнца. Он с трудом стряхнул сон в предчувствии надвигающейся беды. Чертов заяц, уж не стряслось ли чего ночью? Рядом с ним на койках, завернувшись в одеяла, храпели ребята из тракторной бригады. Ошалевший от сна Аким ухватился за кровать Мишу Позэ, встал, шагнул на ступеньки бытовки, потом спустился вниз. В поле пахло майораном. Под лунным светом пшеничное поле волнами уплывало в ночь. Из застывшей мглы послышался приглушенный конский топот. Со сна ломило кости, и не успел Аким выйти на дорогу, чтобы взглянуть, откуда этот запоздалый путник, как тот уже въехал на полевой стан, разорвав плечом натянутые по веткам слив веревки, на которых вялились выпотрошенные рыбины.
– Тпру! – крикнул верховой, и его гнедой с подпалинами конь сразу остановился, шумно всхрапнув.
Человек наклонился и вытащил удила.
– На кой дьявол вам столько рыбы? – спросил он с отвращением. – Диких кошек, что ли, приманиваете – для шкурок? На-ка, парень, держи. – И, не дожидаясь ответа протянул Акиму бутылку цуйки, обернутую куском мешковины. – Вечером у тебя родился сын. Буди ребят, выпейте за здоровье Акима-младшего.
Аким застыл с широко открытыми глазами. Удивление быстро сменилось радостью, и он потянулся к всаднику, намереваясь стащить его с лошади. С поднятыми руками он стал похож на рубаху, вывешенную для просушки возле вагончика трактористов. Верховой уклонился от объятий Акима, и его стройный, стянутый ремнем с громадной желтой бляхой торс затрясся от смеха. Он пришпорил коня, пустил его галопом, и вскоре ночные тени поглотили и коня, и всадника.
Над полем зависла густая, пронизанная луной тишина.
Слышь, Аким, что он сказал? – спросил себя ошеломленно парень и зачем-то начал судорожно рыться в карманах. И вдруг с удивлением понял, что ищет зайца, которого поймал во сне. Взял бутылку с цуйкой, поднес ко рту, отхлебнул глоток. Долговязый, лицо обветренное, сизоватое, как из кованого железа, он стоял на краю дороги, и ему чудилось, будто он слышит шепот земли. Запах полыни обволакивал, душил. Аким кинулся было будить ребят, но вдруг понял, что он – отец, а играть с ребенком не умеет, и остановился как вкопанный. Мысль эта показалась ему странной и глупой. Однако, рожденная страхом, что живет в каждом человеке, холодная, болезненная, она все больше овладевала им. Освещенная луной земля показалась Акиму заснеженной, и он вспомнил себя пятилетним ребенком с деревянными коньками в руках. Он вышел тогда покататься на пруду, но вдруг завьюжило, завыло, и он очутился в чистом поле. Потом всю зиму пролежал в чужом доме, у чужих стариков, которые нашли его на берегу реки, под обрывом. Он выздоровел, но лицо у него осталось изуродованным, словно обожженное известью. Мальчик не знал, чей он и откуда его принесло бураном, и навсегда остался жить в неродной деревне.
«Бабушка, когда я буду опять красивым?» – спросил он как-то старуху.
Дети не играли с пришлым мальчиком. Старик никогда не ласкал его: было противно его уродство.
«Скоро, скоро, золотце мое, – вздохнула старуха. – Помрет твоя тень, тогда ты и обернешься добрым молод– цем. Господи милосердный, покарай его родителей нехристей: недоглядели за мальцом, вот его и унес ветрище на чужбину!»
Аким решил убить свою тень. Он швырял в нее камни, топтал ногами. По вечерам, когда тени удлиняются, выходил за ворота, на дорогу, по его тени проезжали колеса телег, а соседские мальчишки хлестали ее хворостинами. Но тень оставалась целехонькой и невредимой. Однажды, стоя на обочине, он увидел приближающуюся машину – это каток утрамбовывал щебенку. Он переехал бы его тень, но Акиму вдруг стало жаль ее, и мальчик отступил от дороги. И тень осталась неразлучной с ним, делила его тоскливое, как горькая дойна, одиночество. Девушки избегали его. Женился он поздно, в тридцать лет, и вот теперь у него родился сын.
– Аким, мальчик, ты будешь звать меня по имени, – заговорил он с сыном. – И никаких «вы».
– Хорошо, как ты хочешь… – услышал Аким-старший ребячий голосок. – Давай играть, научи меня.
Так твою, растак! – ругнулся про себя Аким и пошел к бытовке, чтобы разбудить бригадира Мишу Позэ, у которого было двое детей. Он потряс его за плечо и зашептал:
– Мишу… Слышь, Мишу…
– Заприте покрепче дверь! – испуганно вскрикнул Мишу, подскочив на постели и натянув одеяло до подбородка.
– Ты что, очумел? – обиделся Аким. – Своих не признаешь. Протри зенки.
– А, это ты, Аким, – сказал Мишу, продолжая сидеть привалившись спиной к стене. – Тьфу, ну и чертовщина мне приснилась. Бегу я по коридору, а за мной наш бухгалтер будто гонится. И вроде он полубык-получеловек, на пятки того и гляди наступит и метит в меня лемехом от плуга… Сколько сейчас времени?
До утра далеко, спи, – сказал Аким и вышел из бытовки.
Не стоило будить, подумал он. Ну что может сказать про детей человек, которому снятся такие дурацкие сны?! Обзавелся детьми, так припоминай по вечерам красивое. Листья, траву. Тогда и сны будут хорошие. Вот если я лягу сегодня ночью спать, то увижу дроф, да-да, дроф…
Аким пересек поле и стал неуклюже взбираться на бугор. Карабкаясь по склону, он мечтал, впервые мечтал по– отцовски. Будто идет он полем с Акимом-младшим. Дождь виснет густой сеткой, постукивает мелко и убаюкивающе по крыльям, которые простерли над ними двадцать дроф. Они с сыном идут в кромешной тьме, под частым ливнем, но им не холодно, озябли только ноги. Дрофы летят, не отставая ни на шаг, держат над ними навес из крыльев. Отец и сын идут, идут, и у них у самих вырастают дрофьи крылья, и оба они взлетают в небо, к тучам…
Поднявшись на самую верхушку сглаженного ветрами косогора, Аким остановился. Прислушался к короткому треньканью колокольцев на шеях у овец, что спали сейчас в загоне возле рощицы. Втянул ноздрями воздух, настоянный на запахе молока и навоза. Прислушался к переливчатым редким звукам и вдруг решился на что-то.
– Пасалак!.. Гогу!..
– Эгей, – прозвучал в ответ молодой голос. – Чего тебе?
– Держи псов, а то я без палки.
– Да нету их. Гогу собак в деревню с собой забрал. Сговорился с чьей-то кралей. Поди, третий вечер туда бегает – и псов с собой уводит.
– А ты обработал бы его на кулачной фабрике. Он бы живо бегать перестал.
– Можешь побожиться? – хмыкнул плечистый коротышка, выходя из-за колодезного сруба. – Братца моего не знаешь? Махнет кулачищем – как муху прихлопнет… Глянь, как вызвездило, – сказал он, запрокинув голову. – Звездищи – что тебе куски мамалыги, бери и ешь, только молочка подлей.
Аким присел на край колодца.
– Послушай, Пасалак, – начал он, глядя на парня в упор. – Дело есть. Но смотри – никому! Ставлю угощение. Вино. Красное.
Насчет выпить я не дурак, лучше не дразни. Меньше четырех не принимаю – и пачкаться не стану.
– Идет, ставлю четыре.
Накинь килограммчик азотного удобрения.
– На кой ляд оно тебе?
– Вино студить. Кинешь горсти две в ведро с водой, она вмиг замерзнет. Главное, чтоб в тесто не попало, как у жены Фойке Бруну, тогда – каюк, живот с бочку вздуется. Ну, об што речь?
– Выпусти ягнят из загона в поле. И баста.
– Издеваешься, парень? – спросил Пасалак разочарованно, не веря своим ушам.
Ты что? – откликнулся Аким. – Хочешь, задаток дам? Хочешь, за все вино сразу заплачу?
Убедившись, что Аким не шутит, Пасалак распахнул дверку из акациевых прутьев и полез в загон. За перегородкой гулко защелкал кнут. Ягнята вскакивали, метались, и казалось, что в загоне колышутся серые волны. Крайние испуганно тыкались мордочками в изгородь, словно на них напали волки. Пасалак коленями подталкивал кувыркавшихся через головы ягнят и гнал их к проему, где ждал Аким. Они грудились у выхода, торопясь выскочить в поле. Аким лег на их пути, поперек канавки, вырытой для стока дождевой воды. Вожак стада, барашек с узкими, как лезвие, рожками, замешкался, потом, собрав силы, прыгнул. Аким почувствовал, как по его плечам и ногам простучали легкие копытца. Уткнувшись лицом в траву, он улыбался и ждал. Ягнята, напуганные щелканьем кнута, бежали рядком по его спине, стуча маленькими круглыми копытцами. От их ударов покалывало под ребрами. Выгоревшая от солнца и ветра рубаха лопнула во многих местах. Ягнята суматошно и бестолково бежали к этому мостику над канавой, разогнавшись, прыгали, падали на землю, вскакивали и бежали дальше. Дробно и часто постукивали их копытца, и Акиму казалось, что он играет со своим сыном.
– Аким, малыш, ну и здорово ты расшалился! – прикинулся рассерженным Аким-отец. – Я ведь сильный, вот схвачу тебя за ноги и кину на луну.
Аким протянул руку, чтобы поймать сына, но его ладонь наткнулась на влажную ягнячью мордочку. Аким засмеялся, сбросил ягненка. Драчливый ягненок тут же вернулся, стал бодаться безрогим лбом. Аким подхватил его на руки и почесал за ушами. Над ушами ягненка висели кудряшки, а глаза, как показалось Акиму, смеялись; и в ту же минуту последний остаток страха улетучился, растаял.
– Эй, парень, поздно уже, давай-ка ложиться спать, – сказал он сыну.
1964
Открывая реку…
Лето. Полдень лениво разыгрывает на поле свою странную, непонятную игру. Прожаренный солнцем песчаный обрыв реки искрится желтизной.
У брода бабка Параскива стирает белье. Она замачивает его в реке, прополаскивает, скрутив, кладет на камень и бьет скалкой. Рядом с ней, часто моргая от горячих солнечных волн, Бэнике греется на песке. У него голова козленка, льняные нечесаные волосы и пятки, черные от яблок, что ночью стряс ветер. Поутру бабка Параскива собрала яблоки в корзинку, а Бэнике украдкой ото всех залез туда с ногами, передавил яблоки и скинул в колоду свиньям.
Лежа на спине, он считает, сколько раз ударила бабка Параскива, и ест хлеб с виноградным повидлом. Жует он лениво и, кажется, испытывает от еды ту же скуку, что и его отец сегодня утром, пока он, Бэнике, упершись локтями в старый буфет, что вытащили во двор для починки, обдумывал, как бы завладеть латунными крючками от ботинок, которые обувает сейчас мать, чтобы не занозить ноги в поле.
– Хочешь спереть эти крючки? – догадался отец. – А ну, про другое подумай.
– Мне бы их псу в уши вдеть.
– Да ты ведь его вчера повесить собирался.
– Ага. Дурак он.
– А ты-то откуда знаешь?
– Я ему ошейник с железными шипами сделал и отвел на соседнюю улицу, с собаками драться. А он не стал – трус.
Не дрессированный он на волка. Ему бы сперва с волками потягаться.
– Знаю.
– Все-то ты знаешь, только ничего не говоришь. Вот скажи, куда девались три коробки из-под крема?
– Я в них тюрьму для сверчков сделал.
– Ах так! Это ты, значит, вчера в кустах мальвы на четвереньках ползал. И много поймал?
– Сперва шесть, потом четыре, а потом еще шесть. Это много будет?
Да, порядком. Небось целую свечку извел на шарики. Или по кусочку от всех свечей в сундуке отщипнул?
– Я саранчой их ловил. Обвязал ей брюшко ниткой, она в дырочку залезает и мне сверчков тащит. Ты как думаешь– будет из-за свечей крик?
– Будет. Обязательно будет. И не вздумай звать меня на помощь, когда бабка Параскива перцу тебе задаст.
– Может, и не будет крику-то. Бабка Параскива сказала– теперь свечи гроша ломаного не стоят. В старину, мол, людей хлебом не корми – любили свечку у покойника в головах поставить.
Сказать-то она сказала, а все равно мне всыплет, думает Бэнике. Всыплет, а потом еще заставит барбарис для индюков рубить. Ну и ладно, зато у меня три коробки сверчков есть; ночью как выпущу их за печку – до самого утра петь будут.
Он вытянул ноги, и прохлада от воды блаженно разлилась по всему телу.
За рекой на порыжелом, высушенном ветром пастбище две лошади отбиваются от мух. Он лежит, и лошади кажутся маленькими, коротконогими, а когда они зафыркали, его разобрал смех. Над головой шуршит источник, стекающий в реку по деревянному желобу. Две веточки мяты сплелись над ним, и люди назвали его Мятным источником. Сюда рыбы приплывают напиться, подумал мальчик и встал. Лошади на пастбище сразу выросли и стали толще. А вдруг какая-нибудь щука или карп, привлеченные струей холодной воды, попытаются подняться по желобу? Надо подстеречь их здесь и поймать, решил Бэнике. Все очень просто: в тот миг, когда рыба кинется вверх по источнику, он запрудит желоб камнем, и – пожалуй, голубушка, в кастрюлю.
Лучше всего бы, конечно, изловить рыбку с голубым чешуйчатым воротничком.
Не повезло. Он сидел неподвижно у источника целые четверть часа, и ничего не попалось. Видать, рыбы устали и теперь спят, измазавшись в тине, словно поросята.
Разочарованный, он спустился к бабке Параскиве и тут увидел пустое корыто – оно крутилось у берега, – прыгнул в него и стал раскачивать, уцепившись руками за края. Корыто накренилось и легко скользнуло на середину речки. От восторга Бэнике звонко засмеялся, точно во рту у него зазвенел колокольчик; бабка Параскива и не слышала, и не видела, что произошло. Так и поплыл он по солнечной речке.
Сперва Бэнике стало страшно, и он зажмурился, потом, позабыв об опасностях, открыл глаза, осмотрелся и удивился, что попал в незнакомый мир. Бэнике казалось: вода не движется, а берега текут вспять, точно две земляные речки. Берега текли назад, вдоль реки, унося жеребенка, переходившего вброд, поляны, тополя, их удлиненные тени и две кучи арбузов, сложенные в конце проселка.
Река свернула прочь от домов и двинулась в поле. Над Бэнике пронеслась стая голубей. Видно, за просом полетели, решил мальчик.
– Послушайте, – крикнул он им вслед, – не вздумайте залететь на солнце, там много ястребов и кошки! За солнцем – царство ветра.
Вдруг он почуял одуряющий, сладкий, прохладный запах, словно это пахла вода, но только очень сильно. Поля с обеих сторон зеленой зыбью уходили к горизонту. То-то зайцев здесь! – подумал Бэнике. Как-нибудь приведу сюда собаку, поохотимся. Только вначале отправлю ее к чабанам– пускай с волками бьется, злее станет. Этот запах высоких зеленых трав, чуть клонящихся под полуденным ветром, был ему знаком. Точно так пахло от отца позавчера, когда он вернулся с поля. Бэнике у кукурузного амбара возился с удочками. Насаживал на крючок приманку – четыре мушки, забрасывал бечеву за гумно и, прижав удилище ногой, терпеливо ждал, когда прилетят воробьи, повадившиеся воровать корм у кур.
«Забавляешься», – сказал отец и присел рядом.
«Да, уж всю неделю ловлю. Только вот удочки у меня паршивые. Ты бы мне иголку на огне прокалил да согнул – вот дело было бы».
«Эй ты, – прикрикнула бабка Параскива, – оставь отца в покое, ведь устал человек, весь день в земле с майораном провозился!»
Значит, трава, которая так сильно пахнет, майораном зовется. Это открытие развеселило мальчика. Он решил сделать на зиму веник из майорана. Пускай весь дом с раннего утра пахнет.
Внезапно впереди выросли своды моста. Корыто, снесенное в сторону течением, слегка ударилось о среднюю сваю. Над ним, на мосту, зарычали моторы, и мальчик вцепился обеими руками в какой-то железный брус. Ехали грузовики, и весь мост дрожал, волны эха гудели на воде.
Ух, тяжелые, подумал мальчик, пшеницу с гумна везут. Наверху, на внутренней белой стенке моста, он увидел нарисованную углем лодку и человека в ней. Будь это настоящая лодка, я спустил бы ее на воду и отправился в путешествие… Особенно понравился ему фонарь на носу лодки – лучше, чем он делал из полых арбузов.
Грузовики проехали, а Бэнике все еще продолжал держаться за сваю. Теперь он следил за стаями тоненьких быстрых рыбок, мелькавших в глубине.
– Напрасно вы в тень прячетесь, – обратился он к ним. – Там, наверху, солнце и пахнет майораном.
Сказав это, он опустил руки в воду, и корыто снова тронулось вниз по течению. Справа на холме возвышалась серая башня, ее деревянные крылья вращались лениво. Пропадает понапрасну старая мельница! Бэнике подплыл к испорченному желобу, огляделся и заметил вверху, в оконной раме, барана с колокольчиком на шее и длинными закрученными рогами. Вид у барана был воинственный, но мальчик не испугался. Ведь я на воде, а он не умеет плавать. Бэнике надул щеки, засвистел, а потом крикнул:
– У, разбойник, вот я тебя!..
За ольшаником речка раздваивалась. Одна направлялась к рощице белых акаций и тополей, другая, узкая и неторопливая, прорезала поле. Там, где русло делилось на два рукава, купалась в одиночестве болотная утка. Она приплыла из тьмы, подумал Бэнике. Это фея вод выслала ее мне навстречу.
Он свернул к полю. Вокруг, обольстительно сверкая, плескалась «мертвая вода». Утка то погружалась в нее, то снова выныривала, расправляя и отряхивая крылья.
– Эй ты! – окликнул ее Бэнике, но птица не ответила, и он понял, что ей не разрешено говорить. Если она заговорит, фея тут же превратит ее в камень, и она уйдет на дно.
На берегу, среди желтых тарелок подсолнуха, роились пчелы. Их полет рождал чуть слышную, назойливую песню, сладкую, как обещание.
Вдруг река стала шире и обратилась в озеро, по которому плавали стаи гусей. Снежно-белые, словно их занес сюда порыв вьюги, они с гоготом скользили между отлогими берегами. Но дальше утрамбованная катком стена преграждала течение. Страна сказок, подумал Бэнике и, заметив, что его корыто стоит на месте, стал бить ладонями по воде. Корыто поплыло к берегу, к деревянным домишкам и загонам для скота, обнесенным проволочной сеткой.
Какая-то девушка закусывала в тени белой акации. Увидев мальчика, она подбежала к берегу с полотенцем в руках и удивленно закричала:
– Бэнике!
Мальчику ничуть не показалось странным, что она знает его имя, – здесь, в этой сказочной стране, все может быть, и он сказал ей:
– Будь добра, вели этому жирному большому гусаку заплыть за корыто и подтолкнуть меня к берегу.
Девушка вошла в воду так глубоко, что замочила подол платья, и, завернув Бэнике в полотенце, взяла его на руки.
– Ты где был-то? – спросила она, ставя мальчика на траву.
– У-ух, как далеко! Я много проехал и очень устал. А куда я попал?
На птичник. Бабушка Параскива знает, что ты уплыл на корыте?
– Да ведь я и не собирался. Это река меня утащила.
– Ладно, – сказала девушка. – Я сама тебя домой отведу.
А ты не сможешь. Ты ведь не знаешь, где мы живем. И я тоже не знаю, – заключил он и застыл, потому что из кукурузы вышел баран.
Баран был точь-в-точь как тот, которого Бэнике видел в окне мельницы, и шел он, опустив голову, в окружении целого стада овец.
– Испугался? – спросила девушка, – А ты с ним поговори, и он тебе ничего не сделает.
Он же не понимает. Как с ним говорить, если он не человек?
– А ты попробуй, – настаивала девушка. – Послушай, баран, – сказала она, – Бэнике хочет поиграть с твоими овечками, можно?
Баран остановился, прочно упершись ногами в землю. Мальчик криво усмехнулся.
– Возьми его за рога, – подталкивала Бэнике девушка. – Он ведь думает, что ты хочешь своровать его овечек.
– Я не буду их воровать, баран, – сказал мальчик, – Это только наш кот ворует. Вот в воскресенье бабушка Параскива зарезала курицу и отложила для меня шею и печенку, а кот утащил. Но я его не бил. Я только обул его в скорлупу от орехов. Знаешь, – продолжал он, все больше смелея, – ты мне нравишься, правда. Хочешь, я подарю тебе колокольчик от моих санок? Он желтый, с тоненьким язычком, а на конце язычка – свинцовая горошина. Завтра принесу тебе. А может, ты сам за ним придешь? Под нашим домом – холодный источник. И знаешь – я обязательно поймаю тебе рыбку, а бабушка Параскива ее зажарит.
Баран опустил голову в знак глубокой благодарности и молча удалился. Бэнике подождал, пока баран отойдет подальше, потом оторвал завязки от фартука – девушка забыла его под акацией – и принялся плести из них кнут.
Под вечер девушка отправилась с Бэнике в деревню. Устав от необычайного путешествия, мальчик заснул у нее на руках, и снилось ему, будто он мчится в пролетке, запряженной четырьмя зайцами.
1964