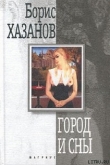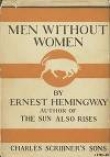Текст книги "Властелин дождя"
Автор книги: Фзнуш Нягу
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 19 страниц)
От этих слов мои нервы, напряженные во время чтения до предела, вдруг расслабились, и я успокоился. Эта первая встреча с читателями принесла мне умиротворение, я словно выздоровел от тяжкой болезни. Тишина комнаты, этот августовский вечер, такой ясный и прозрачный, доставили мне необыкновенную радость.
Я поблагодарил женщин и попрощался с ними. И в этот момент обнаружил, что Лилики Доброджану в комнате уже нет. А мне хотелось знать ее мнение о рассказе. Не встретилась она мне ни во дворе, ни на дороге. И все же она непременно где-то поблизости, сказал я себе, далеко она не могла уйти. И тут из-за угла появился какой-то человек, он шел, вздымая ногами пыль; я остановил его и спросил, не попадалась ли ему Лилика.
– Мне кажется, я видел, что она пошла к полю, – ответил он. – Во всяком случае, я видел женщину, которая шла мимо табачного поля к гумну. Какое платье было на госпоже Лилике? Та была в белом.
Она! – подумал я и повернул налево, в проулок, ноги мягко ступали по соломе, истолченной конскими копытами. Но поле, сколько хватал глаз – от околицы до самой полосы кукурузы, – было пустынно. Я стал спускаться к реке и остановился на берегу под тополем отдохнуть. Дул ветерок, и листья тополя плакали, шептались, звенели, как колокольчики, повешенные на ветвях. Время от времени из камышей вспархивали и поднимались ввысь дикие утки. Кто-то вспугивал их, и они отправлялись к более спокойным водоемам.
Я собирался уже уйти, когда заметил на середине'реки купальщицу. Она стояла ко мне спиной – видны были только голые плечи и волосы, собранные на макушке в пучок, – и обрызгивала водой стаю птенцов на песчаном островке.
«Эй, толстячки, – будто говорила она, – дурачки вы эдакие – сидите на песке! Вы что – ведь живьем зажаритесь!»
Потом, увидев, что птенцы не шевелятся, она подняла руки, бросилась плыть вниз по течению и доплыла до поворота, где ольховник, точно жаждущий зверь, подходит к самой воде. Там она остановилась и стала распускать волосы. Вот показались над волнами на несколько мгновений ее белые округлые груди и лицо, скрытое темными прядями волос, и тут же пропали, погрузились под воду и больше уже не показывались.
– Фея вод… – пробормотал я и двинулся вниз по берегу реки, скрываясь в зарослях камыша и боярышника.
Но девушка словно исчезла в глубине вод.
Недоумевая, в чем дело, я разделся под акациями, прыгнул в воду и храбро поплыл. У противоположного илистого берега я остановился, приложил руку ко рту и крикнул протяжно, обернувшись к лесу:!' – Эге-ге-е-ей!
Мне ответило эхо, усиленное водой:
– Э-эй!
Я крикнул еще раз, подождал. Снова мне ответило эхо. И чего это я здесь стою перекликаюсь? – сердито подумал я и поплыл вниз по течению, держась ближе к берегу. На песке у ракиты отпечатались свежие следы. А выше, на своеобразной террасе, лежал большой круглый камень, и на нем только что, видно, сидела девушка, вытирая ноги.
Уже ушла, зачем же ее ждать? – подумал я и, повернув назад, доплыл до того места, где стая птенцов отдыхала на гальке.
– А ну, скажите, – обратился я к ним, – кто сейчас был здесь? Кто была та девушка?
Только что взять с этих дурней птенцов, где уж им ответить! И, рассердившись на них^я нырнул, вытащил горсть песку и, кинув в самую их гущу, распугал их.
Между тем река потемнела. С севера на поле наползали тучи. Тучи ползли и из лесу. Когда они встретятся, подумал я, ударит гром. И я поднял голову, дожидаясь этой минуты.
– Эй, кто там, в воде! – раздался голос с берега. – Выходи, хватит плескаться, сеть будем закидывать! Разве не знаешь, что перед дождем рыба из воды выскакивает?
«Не знаю я», – хотелось мне ответить, но я промолчал и вышел на берег.
Одевшись, я двинулся к дому Андрея Доброджану. Я чувствовал необходимость повидаться с Лиликой, послушать ее рассказы о детских приключениях с пчелоедами, лебедями, ласточками! Я по ней соскучился.
Выйдя примерно через час от Андрея Доброджану, я столкнулся с Букуром, поджидавшим меня в конце улицы.
– У меня к тебе дело, – сказал он. – Пошли.
– С удовольствием, если это ненадолго. Я начал читать интересную книгу.
Букур привел меня к себе и отвязал лошадей.
– Садись на маленькую, она поспокойнее, и поехали.
Я сел на лошадь, даже не спросив, что у него за дело, и шагом поехал к белым акациям. В траве стрекотали кузнечики. На западе сквозь толщу туч проступили красные пятна– так из щелей растрескавшейся бочки изливается пурпурное вино. Кони спокойно несли нас на простор полей, они вытягивали шеи, на ходу срывая цветы кашки, и долго потном пережевывали их.
Шагом пересекли мы виноградники, а когда выехали на жнивье, Букур вынул хлыст и стегнул моего коня. Я поехал впереди, Букур – за мной, на расстоянии полуметра. Я ехал без седла и через некоторое время с непривычки попытался натянуть поводья, но Букур ударил мою лошадь между ногами по животу. Я рассердился и прикрикнул на него – мол, угомонись. Вместо ответа Букур снова замахнулся хлыстом, пытаясь ударить так, чтобы конь зашелся от боли. Он словно хотел отомстить за оскорбление и даже не слышал моих криков. На его заострившемся, почерневшем лице проступило какое-то странное, враждебное выражение, а сверкающие глаза впились в меня – казалось, он готов был меня избить.
Я вспомнил скачки в день моего приезда в Тихое Озеро и подумал: в этой сегодняшней погоне есть что-то бессмысленное! Пытаясь остановить галоп, я сполз к конской гриве и налег на нее грудью. Но не тут-то было.
Букур угадал мое намерение и принялся лупцевать мою лошадь по крупу. Временами он заставлял свою лошадь, более шуструю, идти ноздря в ноздрю с моей и тогда бил мою лошадь по морде тыльной стороной ладони, направляя ее куда хотел.
Я сопротивлялся, но чувствовал, что силы мои на исходе. Я уже не кричал, все мои помыслы были сосредоточены на одном: только бы не упасть. Чем дальше мы скакали, тем гуще становилась тьма. Вдруг молния разломилась в вышине, и дали содрогнулись в ее лиловом отблеске, а впереди встал гребень земли, уходящий далеко-далеко вправо и влево. То была насыпь бывшей железной дороги, перенесенной во время войны в другое место.
Букур продолжал гнать лошадей галопом к расселине в насыпи, и, когда между кукурузными полями мы проехали на другую сторону насыпи, он остановился, заставил коня погарцевать и спешился. В совершенном изнеможении я тоже спрыгнул на землю. Букур взял у меня поводья и отвел коней в укрытие – тополиную рощицу у стен заброшенной сторожки. Потом он вернулся ко мне, сел рядом на траву и сказал:
– Это здесь, здесь случилось.
Он говорил медленно, спокойно, как будто между нами ничего и не произошло.
– Так вот, закуривай и слушай, что я тебе расскажу.
Он зажег спичку, и лицо его на секунду осветилось – оно было бледным и потным.
– Здесь в прошлом году летней ночью три бандита с хутора, что за кукурузным полем, надругались над Лиликой Доброджану. Мы с ней целую неделю бродили вместе с бригадой агитаторов по хутору, разъясняя крестьянам необходимость записаться в коллективное хозяйство. В конце недели, в субботу, она отправилась в Тихое Озеро – секретарь нашей организации УТМ подал заявление в партию, и она хотела присутствовать при обсуждении его на общем собрании. На пути ее подкараулили трое бандитов. Они повалили ее на землю. «Погоди, мы тебя, чертова кукла, проучим, будешь соваться, куда не просят». Ночью, когда взошла луна, я тоже отправился домой – родные сообщили мне, что умерла бабушка. Здесь, у сторожки, я и наткнулся на Лилику – она лежала на земле и стонала. Кто были эти трое, она не могла сказать – бандиты закрыли ей лицо. Она только плакала и просила никому не говорить, что с ней случилось. Я и не сказал. Ты, Чернат, единственный человек, которому я сказал. Я не заставляю тебя клясться, что никому не передашь, – я тебе верю. Я люблю Лилику. Но я ей не нравлюсь. Дважды я просил ее руки, и она мне отказывала. Иногда я вижу, как она смотрит на меня с испугом, может, думает, я стану рассказывать, что знаю. Мне тяжко, что она так думает… А теперь вот приехал ты, Чернат, и ты ей понравился. Да, это правда. Ты останешься в Тихом Озере, хоть и говоришь, что уедешь, ведь село заинтересовало тебя. Может, и ты немного неравнодушен к Лилике – трудно сказать, что у тебя на душе; только я об одном тебя прошу: ты теперь знаешь все, скажи Лилике сразу, если она тебе не нравится, так и скажи честно: мол, поищи лучше кого другого. Если она тебе нравится, тогда твое дело, как ты поступишь дальше. Вот зачем я привез тебя сюда. И еще одна вещь, Чернат: не говори с ней о ее детстве! Это все. А теперь по коням – и назад, в село.
Букур исчез в темноте и вернулся с лошадьми. Я был растерян. Скачки по полям и рассказ, который я услышал, – все это свинцовой плитой навалилось на меня. Я не в состоянии был даже сесть на лошадь. Букур подставил мне чурбан.
Сквозь расселину в насыпи мы выехали на земли Тихого Озера и двинулись по проселочной дороге; ехали мы шагом, молча, будто испуганные нависшей над полем ночью. Букур курил, огонь сигареты, вспыхивая, освещал по временам его черные усы и скуластое лицо. Я ехал справа от него, прислушивался к глухому стуку копыт и с запоздалым ужасом вспоминал его рассказ.
Потом, спохватившись, я положил руку ему на плечо и попросил подогнать коней, чтобы дождь не застал нас в поле. Сзади, на севере, гром сотрясал тучи – так с грохотом обрушивается кукуруза, когда крестьяне открывают двери плетеных амбаров, чтобы везти ее на продажу.
Через три четверти часа мы рысью добрались до бахчей, что за станцией; там около грузовика с зажженными фарами цепочкой стояли пять повозок – крестьяне из кооператива грузили арбузы, чтобы везти их в Брэилу.
– Эй, вы, – крикнул кто-то с бахчи хриплым голосом, – не поможете ли нам, а то нас мало и мы торопимся выехать на асфальт, пока дождя нет. Если дождь застанет нас на этих колдобинах, непременно угробим лошадей.
Мы подошли к хибарке сторожа, нас поставили нагружать последнюю телегу – ее особенно ярко освещали фары грузовика. Я влез на телегу, а Букур остался внизу, он брал из кучи арбуз и кидал мне, наблюдая с протянутыми руками, как тот летит. Потом снова наклонялся. Но всякий раз, кидая мне арбуз, Букур смотрел на меня, и его цыганское лицо, пронзенное маленькими живыми глазами, говорило:
«Ты счастливец».
«Мне приятно было бы иметь такого друга, как ты», – мысленно отвечал я.
«Я твой друг».
«Спасибо. А теперь – прошу тебя, давай поговорим о другом».
«Хорошо! Так знай, я нигде не встречал таких душистых дынь, как наши! И есть среди них большие».
«Но у вас нет канталуп, а мне нравятся канталупы. Смерть как нравятся!»
«Да, к сожалению, этого сорта дынь у нас нет».
Разговор на этом окончился – окончился по моей вине. Неудачно повернувшись, я попал ногой в щель и нагнулся, чтобы потереть ушибленное место. Поэтому арбуз, который бросил Букур, угодил в боковую стенку и упал на землю, я спрыгнул и, схватив красную пушистую мякоть, вонзил в нее зубы.
В это время хлынул проливной дождь.
– Так и слышу, как Тэмэрашу рычит, увидев, что я насквозь промок, – рассмеялся я. – «Чернат, – говорит, – белены ты, что ли, объелся – отправился в поле, ведь видел, что надвигается ливень!»
– Да он не доберется до дому раньше нас, – заметил Букур. – Сегодня четверг, а по четвергам он вечерами учит играть на скрипке парней из музыкального кружка.
– А я и не знал! – откликнулся я, вытирая рукавом рубахи подбородок, липкий от арбузного сока.
И снова взобрался на телегу.
1960
Сдвинулись звезды…
Выбравшись из густого темного ельника, Джордже от неожиданности даже остановился, привыкая к свету и осматриваясь. Ольга возилась с застежкой и, сняв наконец свою с черной отделкой куртку, завернула в нее колючую охапку шиповника. Внизу, в сумраке узкого глубокого ущелья, смутно белела дорога. Наша, что ли? – подумал Джордже. А может, и нет? И, удивляясь бескрайней нескончаемой тишине, прикрыл глаза. Веки на худом скуластом мрачном лице подергивались. Он раскрыл глаза. Из-за поворота дороги стайкой веселых бабочек вспорхнули алые блики рассветного солнца. Над темными елями сверкнули, будто стеклянные, птицы.
Джордже глубоко вздохнул, распрямился и решительно шагнул вниз по осклизлому склону. Спину ломило, на плечи всей тяжестью наваливался рюкзак с притороченным сверху туго скатанным одеялом. Шел он сгорбившись, ноги казались ватными. Запавшие глаза лихорадочно блестели, словно он хлебнул какой-то отравы. Ночевали они в сторожке, высоко в горах, среди снежных сугробов. Ночью на сторожку неистово обрушилась гроза: сотрясаясь, стонали хлипкие, почернелые доски, и ему было жутко от одиночества рядом с беззащитной Ольгой. Обе комнатушки заняли расположившиеся там на ночлег горнолыжники, и ему с Ольгой пришлось лезть на чердак, где всю ночь выл и бесновался ветер, осыпая их сквозь щели ледяными колючими иглами.
За Джордже следом спускалась Ольга, красивая, крепкая, полногрудая девушка с неторопливыми плавными движениями. Широкий, с блестящей пряжкой пояс плотно обхватывал ее узкую талию. Темные, по-мальчишески короткие волосы казались в этих утренних сумерках черными.
Ветерок, раскачивая мокрую, отяжелелую от росы траву, щекотал ее голые ноги.
Покатый склон порос редкими низкими кустиками, кое– где тянулись вверх одинокие мохнатые ели. Свежий после ночной грозы воздух пах смолой и звенел для Ольги песенкой:
От дождей укрой ты, густая ель.
Из пушистых лап постели постель.
Ей захотелось еще побыть здесь, побродить, поискать грибов. Она готова была окликнуть Джордже, как вдруг рыжим огоньком сверкнула перед ней белка. Ольга радостно захлопала в ладоши.
– Белочка, угости орешком! – закричала она.
Но белки и след простыл. Все вокруг сразу потускнело. Видно, нехорошая я… – подумала Ольга и вспомнила козленка с перепачканной в муке мордочкой. Козленок в сторожке тоже от нее убежал, забился под кровать, а она ведь только мордочку хотела ему вытереть.
На обочине возле березки с надломленной, грустно поникшей макушкой Джордже скинул рюкзак и достал сигареты. Его знобило, словно спустился он в сырую глубину колодца, и зверски хотелось курить. Джордже чиркнул спичкой, загородил огонек ладонью и услыхал натужный рев машины, ползущей в гору. Он воспрянул духом.
– Ольга! – крикнул он. – Полчаса – и мы на турбазе! А ну, отгадай, чего мне больше всего хочется после этих проклятущих гор?
– Не знаю, – отозвалась она и подошла поближе.
– Рюмку коньяку! Выпьешь – и опять ожил!
Ольга рассмеялась, привстала на цыпочки и губами коснулась его волос. Они были влажные от утреннего тумана и пахли горькой ореховой кожурой. Отчего? – удивилась Ольга, а вслух сказала совсем другое:
– Падал, наверное, кто-то, уцепился за нее, а она не выдержала, обломилась…
Джордже, соглашаясь, кивнул и взял обеими руками кудрявую с шелковистой белой кожицей макушку, пробуя приладить ее к стволу, сделать, как было раньше.
Из-за поворота, за которым ущелье становилось еще Уже, выполз грузовик.
– Обкатка! – прочитал Джордже крупные выведенные мелом буквы, вздохнул: – Испытывают. Ни за что не возьмет…
И, подхватив рюкзак, ринулся грузовику наперерез. Грузовик затормозил с резким скрежетом. Огромный грузовик, первый в длинной колонне грузовиков бухарестского автозавода.
– Прочь с дороги! – рявкнул, высунувшись из окна, шофер. – Все равно не возьму, не имею права!
Тут он увидел Ольгу, стоявшую за спиной Джордже, и смолк. Под ложечкой засосало, будто от голода. Ольга! Ольга не простилась. Ушла, и все. И больше не возвращалась. Месяц скоро, как ушла.
Ольга посмотрела на шофера, взгляды их встретились. Ненавидит, подумала Ольга и вздрогнула. Шофер не заметил, как она вздрогнула, он был занят своей тянущей, сосущей болью и твердил себе, не понимая даже о чем: сейчас, сейчас, дотянуться бы только, где-то там, на сиденье, в кульке, персики…
– Возьмешь? – в упор спросила Ольга.
Шофер молча мотнул головой – полезай, мол.
– Ну, друг, спасибо! – обрадовался Джордже. – Не беспокойся, заплатим!
Уткнувшись подбородком в руль, шофер ждал.
Лицо было будто не свое, деревянное.
Только кадык дергался – вверх-вниз, вверх-вниз. Березка вон стоит, верхушка обломана. Беда…
– Давай! – услыхал он позади голос Джордже. – Трогай!
Он тронул. Все вокруг знакомое-знакомое – кончится ельник, покажется мельница, старая, заброшенная, с черным прогнившим желобом, потом перекресток, и на нем распятие с жестяным Христом, потом хата, от села на отшибе, а в хате пахнет душистым сеном, парным молоком, теплым хлебом, только что сбитым маслом… А есть неохота. Совсем неохота. Под ложечкой уже не сосало, а то как накатило вдруг – до тошноты, глаза б ни на что не смотрели. А теперь будто водки хватил, так горячо, торопливо побежала взбудораженная кровь. Он ждал. Ждал Ольгу. Днем ждал и ночью. Не прощалась же она. Придет. Скоро, сейчас придет, твердил он себе. От любви уйдешь разве?.. И сейчас ждал, как в лихорадке. Ждал: вот постучит в стекло, попросит остановиться. «Холодно», – скажет и пересядет к нему в кабину. «Опять ты, Мирча, в дороге», – скажет ему Ольга и еще скажет… он не знал, что еще она скажет. И пьянел от ожидания.
Привалившись плечом к рюкзаку, Ольга стояла в кузове. Джордже обнимал ее, оберегая от тряски. Не отводя глаз, смотрела она на чудовищные каменные стены ущелья, что нависали с обеих сторон, тесня и сужая дорогу. Меж громадных валунов просачивался туман и поднимался вверх к сучковатым безлистым кустам, чудом прижившимся на пятнистом от мхов граните. В бледном, чуть голубеющем небе таяло, меняя очертания, белое облачко – путались и расплывались, словно и их подгонял, торопил неугомонный ветер, мысли Ольги, причудливые, неожиданные. Она чувствовала, предчувствовала, что им с Мирчей суждено еще встретиться. Но встретились они не так, как ей думалось. И теперь все смешалось – и то, как думалось, и то, как случилось. Мирча… Их тихая окраинная улочка… квадратный двор, визг пилы, еловые чурки, смолистый запах и где-то далеко-далеко – шум, похожий на шум дождя… Да что ж это я, господи! – испуганно спохватилась Ольга. Это ж камни, а далеко где-то и впрямь идет дождь. Шумит дождь, от елей смолой пахнет, и Мирча… близко… близко…
«Ах ты, пташка-певунья, – почудился ей голос, – поманили тебя мишурой блестящей, ты и вспорхнула, не оглянувшись…»
Слова падали, будто капли, грустные и холодные.
«Мирча, я к Джордже вернулась, – принялась защищать себя Ольга. – Не могла я иначе. Ты меня не вини. Я ж была его невестой. А он в какую-то историю влип, посадили его. Год просидел. А когда выпустили, пришел ко мне. Просил все забыть, простить и вернуться к нему. Если смогу, конечно. Говорил, что любит меня. Что и мне все простит. Что он сам во всем виноват, на мне вины нет. У него ведь никого, на всем белом свете – никого. Один как перст. А работал он осветителем в театре. Мирча, до чего ж у него все нескладно, но я все равно вместе с ним буду. Я его люблю, Мирча… Мирча… ты, Мирча, прости меня».
– Ольга! – окликом вторгся к ней в мысли Джордже. – Ночью сегодня я такого ужаса натерпелся – жуть! Не думал, что гроза в горах такая страшная. Представляешь, меня всю ночь трясло, спать не мог.
Ольга недоуменно пожала плечами.
– А что же ты делал? – спросила она.
– Ничего. Просто лежал и ждал, когда ветер крышу сорвет. Наверно, потом задремал, потому что во сне тебя видел. Будто возишься ты в снегу за сторожкой. Забралась на высоченный сугроб, привстала на цыпочки и тянешься к еловой ветке, а ветка, сухая, рыжая, на дрова только и годится, ветер раскачивает ее из стороны в сторону, и никак ты за нее не ухватишься. А в ногах у тебя козленок топчется, ну, тот, из сторожки, с испачканной мордочкой. Ты ему пальцем грозишь: «Погоди, погоди, и за тебя возьмусь, чтоб не вольничал»… А ветер подхватил тебя, валит с ног, подталкивает к пропасти. Очнулся я весь в холодном поту, рукой шарю, ищу, где ты. Тут молния осветила стекло двери, и вижу, что ты и впрямь от меня уходишь – вязнешь в снегу и уходишь все дальше, дальше, дальше… Я как закричу изо всех сил: «Не бросай меня!»
– Дурачок ты, дурачок, – засмеялась Ольга и погладила его иссиня-черные волосы. – Куда я могла деться, все время с тобой была.
Джордже пытливо заглянул ей в глаза. И вдруг понял, что и ей было жутко, только она никогда не признается.
– Может, споем нашу любимую? – предложил он.
Давай, – согласилась Ольга.
И мягким грудным голосом запела:
Корни любви нас связали с тобой, Ветру ли черному связь разорвать? Мы, как деревья, сплетемся листвой, Так же, как лес, будем крепко стоять.
Машина выбралась из ущелья, миновала заброшенную мельницу и катила теперь по ореховой роще. Утро нахмурилось, солнце спряталось за облака, где-то далеко-далеко в горах лил дождь. Дождь-то как забарабанил, подумал шофер, прислушиваясь. Сейчас Ольга в кабину пересядет Не мокнуть же под дождем, в кузове. Машина-то открытая…
Услышал песню, помрачнел.
Зябко стало, неуютно. Сердце заколотилось, будто бегом на пятый этаж взбежал. На перекрестке чернело распятие с жестяным Христом. «Любовь – святое чудо», – прочитал он над распятием. Любовь? – хмыкнул он. Пишут не к месту! Вот народ, не смыслит… И прислушался к Ольгиной песне. Она и тогда пела, а потом собралась и, не попрощавшись, ушла. Ушла, и все… Сидели они как-то вечером у него на втором этаже, под самой крышей. За балконом тополя тихонько нашептывали о том, что уже подкралась ночь. Лампа под матовым с цветами абажуром освещала только круглый стол, а по углам шевелилась тьма. Ольга встала у балкона и мягким грудным голосом запела:
Как пороша, цветы осенние,
Злые годы мечты невинные
Загубили – осталась боль.
Бесхитростная, словно обыденный деревенский уклад, песня плыла вдаль, не тревожа мягкой сумеречной тишины.
Ольга умолкла и вдруг спросила:
«Мирча, ты меня любишь? А как ты меня любишь, Мирча?»
«Как домовую змейку», – ответил он, глядя в ее пытливые, ожидающие глаза.
«Какую змейку?» – опешила Ольга.
«Дед мне как-то рассказывал, будто в каждом доме змейка живет, умрет змейка – и хозяину конец. Дед каждый вечер ставил на порог чашку с молоком для своей змейки».
«А что тебе еще дед рассказывал?» – с любопытством спросила Ольга, разглядывая у него на шее вьющуюся голубой змейкой вену.
«Много чего рассказывал. Учил, например, в какие месяцы можно на голой земле спать. Говорил, что в те, у которых в названии буквы «р» нету, – в мае, значит, в июне, июле и августе. О звездах много рассказывал – говорил, будто раз в десять лет звезды с месяца снимаются и кочуют. Нам сдается, будто они на том же месте неподвижно стоят, будто крепко-накрепко к небу приколочены, ан нет, они потихоньку да полегоньку кочуют. А ты-то, Ольгуца, любишь меня? Ты меня как любишь?»
Ольга не ответила. Она глядела на себя в зеркало и причесывалась, потом вдела в уши сережки – фиолетовые горошинки на зеленых листках – и ушла.
И больше не приходила.
Звезды с места снимаются, размышлял Мирча. А для чего им с места сниматься? Но ответить не успел. По крыше кабины забарабанили, и мужской голос попросил остановиться. Над тихим озерцом справа белел дощатый домик с резьбой и башенками – турбаза.
Чуть ли не до начала дороги докатил, отметил про себя Мирча, дожидаясь, пока его попутчики слезут. И, не сказав ни слова, не прощаясь, покатил дальше.
Сзади шумел дождь, и казалось, вот-вот его догонит.
1962